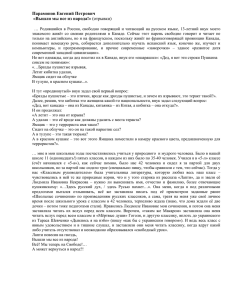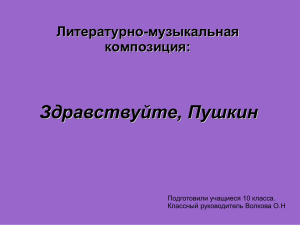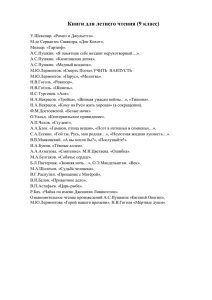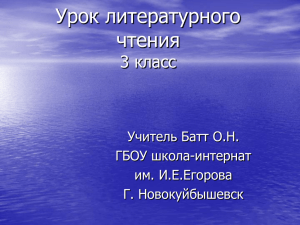Пушкин Четырнадцать волшебных строк
advertisement

Актуальность темы: Современному читателю трудно представить ту картину, которую нарисовал словами Пушкин в своем стихотворении. Чтобы понять четырнадцать строчек поэта, надо хорошо знать значение слов, которые использовал автор. Цель • исследовать лексику стихотворения; • помочь правильному прочтению стихотворения; • показать мастерство слова Пушкина А. С. План: • Современный читатель и пушкинская эпоха; • Пушкин – знаток деревенской жизни; • Образы, возникающие при правильном прочтении стихотворения; • Пушкин – мастер слова; • Четырнадцать волшебных строк… Зима!.. Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет путь; Его лошадка, снег почуя, Плетется рысью как-нибудь; Бразды пушистые взрывая, Летит кибитка удалая; Ямщик сидит на облучке В тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, В салазки жучку посадив, Себя в коня преобразив; Шалун уж заморозил пальчик: Ему и больно и смешно, А мать грозит ему в окно... Четырнадцать пушкинских строк про зиму – не отдельное стихотворение. Это маленький отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин». Мы читаем стихи – и перед нами встаёт картина. Только поэт её рисовал не красками, а словами. Чтобы хорошо рассмотреть картину, надо не просто прочитать – надо увидеть каждое слово поэта. Но чем дальше удаляемся мы от эпохи А. С. Пушкина, тем сложнее сделать это. Почему? Потому что на четырнадцать строчек приходится минимум восемь устаревших слов, без понимания которых трудно нарисовать в своём воображении картину, запечатлённую поэтом. Не почувствуется радость и свежесть морозного дня, восторга и единения природы и человека. Чтобы рассмотреть картину, нарисованную Пушкиным, надо быть знатоком деревенской жизни, таким, каким был великий поэт. Вот крестьянин на дровнях Вот удалая кибитка. Вот мальчик с салазками. Дровни, кибитка, салазки… Всё это, конечно, сани. Но сани – разные. О каких пишет Пушкин? С салазками дело просто – они всем знакомы. А дровни? Берём словарь. Читаем: «Дровни – сани без короба или кузова, для возки дров, леса или тяжестей». Потому и дровни, что на них возят дрова. Низкие, широкие, без стенок-бортов – удобно наваливать груз и потом снимать его. Кибитка – совсем другое. Опять читаем в словаре: «Кибитка – телега или сани с верхом, крытая повозка». Возле кибитки находим слово – «кибить». Это старинное слово. Оно означает дугу – выгнутое на пару дерево для изготовления лука: на кибить натягивали тетиву. И у нашей кибитки – крыша полукруглая, на дугах. Можно, конечно, махнуть на это рукой: сани, они и есть сани – зимняя повозка на полозьях. Но вот, кто знает про дровни, кибитку, салазки, богаче тех, кто знает только про сани вообще. Мир вокруг него ярче, разнообразнее. И стихи Пушкина рассказывают ему больше, чем другим. Они лучше видят картину, которую нарисовал поэт. Вот ведь что получается: Пушкин писал по-русски, а мы читаем со словарём. Но словарь, куда мы заглядываем, не простой. Его составил друг Пушкина – Владимир Иванович Даль, который много путешествовал, менял занятия, знал разные ремёсла и где бы он ни был, что бы не делал, записывал слова. И не просто записал – Даль часто повторял. Что принялся за словарь по настоянию Пушкина. Однажды Пушкин услышал от Даля слово выползина. Это ещё что такое? Даль объяснил: «выползиной» называют шкурку, которую сбрасывают с себя змеи. Пушкин сказал: -Эх, мы! А ещё зовёмся писателями! Половины русских слов не знаем!.. Потом звонко засмеялся, показал на свой новый чёрный сюртук: -Какова выползина! Ну, из этой выползены я ещё не скоро выползу! В этой выползине я ещё такое напишу! А это было за несколько дней до гибели поэта. На память о друге Далю достался чёрный сюртук – «выползина» - с дырочкой от смертельной пули. Вернёмся к стихотворению. На дровнях едет, торжествуя, крестьянин. Кибиткой правит ямщик. С салазками бегает дворовый мальчик. Крестьянин, понятно, землепашец. Но некоторые крестьяне, принадлежавшие помещикам, не пахали землю, не растили и не убирали хлеб, а прислуживали в барском доме, работали на господском дворе. Их называли дворовыми. Дворовой мальчик – сын крепостной прислуги и сам маленький крепостной. Шалун посадил Жучку в салазки. Жучкой звали всех чёрных собак. Ямщик – крестьянин, правящий лошадьми, запряжёнными в повозку. Он сидел на облучке – сидении для кучера впереди повозки. Ямщик сидит в тулупе. Тулуп – шуба, скроенная как халат, обнимающая всё тело, как правило, была подпоясана кушаком – поясом, сшитым из широкой тесьмы либо полотнища ткани. Почему крестьянин обновляет путь, торжествуя? Стало ли крестьянину легче ездить? Почему «обновление пути» по свежевыпавшему снегу связано у крестьянина с каким-либо торжеством? Пушкин знал крестьянскую жизнь, и всё, что связано в его поэзии с деревней очень точно и совсем не случайно. «Торжество» крестьянина относится не к «обновлению пути» по первопутку, а к выпавшему снегу вообще. В предшествующей первой строфе той же главы говорится: В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа, Снег выпал только в январе На третье в ночь. Если бы осенняя погода без снега простояла дольше, озимые бы погибли. Крестьянин торжествует и радуется снегу, так как этим спасён урожай. Почему лошадь «чует снег», а не видит? Почему «плетётся рысью как-нибудь»? По этому поводу обратимся к литературе, рассказывающей о жизни лошадей. «Как-нибудь» означает нехотя, боязливо, осторожно. Лошадь не любит неверной и незнакомой дороги, а снег только что выпал, под копытом ползёт, попадается чернота – земля незасыпанная, и даже знакомый пень или камень выглядит поновому. И вот выезжаешь по первому снегу, и начинает лошадь упираться, то есть идти неохотно, и Пушкин, много в деревне ездивший, то, конечно, хорошо знал. «Снег почуя» - лошадь прежде всего и преимущественно всё чует. Глаза у неё сравнительно слабые, слух неплохой, но главное – чутьё. А как это можно «плестись рысью»? В современном русском языке рысь ассоциируется с быстрым бегом лошади. Но с точки зрения знатока лошадей не совсем так. Рысь – это родовое понятие. Бывает «медленная рысь», лошадь трусит рысцой, потом – «средняя рысь» и, наконец, «мах» - быстрая рысь. Итак, Пушкин знал крестьянский быт не как горожанин, а как житель деревни. Вот теперь, когда слова понятны, начинают возникать образы. На заднем плане несётся быстрая кибитка, ямщик – модник (кушак-то красный!) с удалью гонит лошадей. Вокруг разлетаются снежки. Навстречу кибитке, а может, за ней следом медленно тащится крестьянская тощая лошадёнка, она везёт крестьянина в лес. Почему не из леса? Потому как крестьянская лошадка обновляет путь, то есть бежит по первому снегу, прокладывая бороздки-колеи, это ещё и указание на часть суток. Утро, несомненно, раннее утро. Дворовый мальчик не занят и может поиграть. Он радуется первому снегу, он водится с чёрной собакой и санками, и хотя ему холодно, он не хочет расставаться с солнечными искорками на снегу. Мать грозит ему в окно, но не может, она сама рада снегу – для неё снег значит отдых от полевых работ и хорошие озимые, весёлое настроение. Пушкин всегда умеет найти самое точное, самое яркое слово. Читаешь - и думаешь: никакого другого тут быть не может. Поиски единственного нужного слова приносили Пушкину радость. Иногда то слово приходило не сразу. Об этом рассказывают черновики поэта. Не сразу запряжена в дровни крестьянская лошадка. Сперва был «тощий конь», потом – «конь гнедой». Но вот на место какогоникакого, а коня встала простецкая деревенская лошадка (не лошадь даже), поплелась как попало, потрусила радостно по гладкой зимней дороге – картина будто осветилась. Зато в «коня» преобразил себя дворовый мальчик. Сначала – мы узнаём из пушкинского черновика – он посадил в салазки брата, но потом в них оказалась собака, жучка. Картина сделалась весёлая, смешная. И с быстрой кибиткой происходили важные перемены. Пушкин сперва написал: Бразды глубокие взрывая, Гремит кибитка почтовая… Но – зачёркивает, ищет другие слова. Не глубокие бразды – пушистые! И сразу взвихрился над дорогой лёгкий, искристый снег. И кибитка не гремит, конечно, по мягкому, ночью выпавшему снегу. Нет в этом тряском, шумном слове «гремит» нужной Пушкину стремительной скорости. Не гремит кибитка – летит! А от того, что кибитка не почтовая – удалая – летит ещё быстрее! Мы читаем Пушкина – и понимаем, чувствуем: сказать по другому, лучше, точнее, чем Пушкин, невозможно. Четырнадцать пушкинских строк про зиму… волшебные! Как ясно представляешь чудесную зимнюю картину! Как о многом они могут рассказать! И при этом испытываешь истинный восторг перед великим мастерством слова – А. С. Пушкиным.