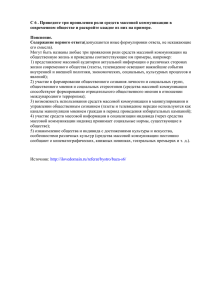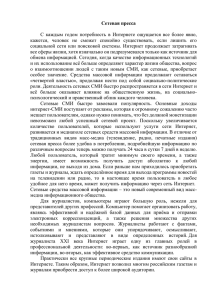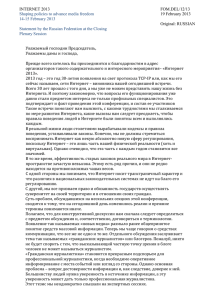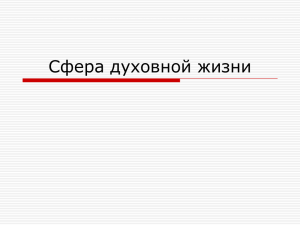1 ЛЕННОСТЬ МЫСЛИ И КАК ОНА ВЛИЯЕТ НА ЯЗЫК А.К
advertisement

ЛЕННОСТЬ МЫСЛИ И КАК ОНА ВЛИЯЕТ НА ЯЗЫК А.К. Симонов Здравствуйте. Как только что сказал ведущий, я на научных конференциях бываю редко, я в милиции чаще бываю, чем на научной конференции, поэтому мое выступление неудачный переходник от первой вашей темы ко второй, потому что я – инородное тело, сознательно сюда внедренное. Если вы глянете в программу конференции, то увидите название моей интродукции, пользуясь научным языком. Я сейчас буду употреблять иностранные слова, которых не знаю, поэтому прошу меня поправлять, если я что-нибудь неправильно назову, потому что, когда мне первый раз позвонили и предложили выступить, то я честно сказал: «из присланной вами программы я не понял ничего». Я с тех пор немножко посмотрел словари, теперь знаю, что такое «виртуализация», а в свое время я десять лет учил слово «коммуникативистика». Просто уже упрямство человека, любящего русский язык и не могущего на нем что-то произнести, оно меня заставило. Я могу теперь хоть четыре раза подряд сказать: «коммуникативистика». Но, если вы думаете, что, научившись его говорить, я понял, что оно означает, то это совершенно не одно и то же. Поэтому представим себе, что вы все в горных высях, а я к вам пришел от полей и деревень, хотя не так давно я был на другой конференции, где Никита Евгеньевич показывал фильм. Оказывается, социологи занимаются и деревней, пока они показывают это, я смотрю нормальный документальный фильм, как только они начинают про это рассказывать, я перестаю что-нибудь про это понимать. Понимаете, какая штука, у меня возникло ощущение, что есть значительное количество наук, созданных не для людей, а исключительно для людей науки. Когда в это число включается такая наука, как социология мне становится обидно, потому что я, многократно встречаясь в свое время с социологами, работая даже с ними в одной упряжке, вполне находил какие-то человеческие аспекты этой науки, вполне доступные, а главное, интересные и полезные людям, не владеющим виртуальным вариантом нашего мира, даже не имеющим компьютера, попросту говоря. Понимаете, наука становится этакой компьютерной реальностью. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела связана с языком. Русского языка разрубили на части. Я сознательно употребляю неграмотную форму, потому что появилось огромное количество непонятных русских языков. Есть медицинский русский, есть юридический русский, есть филологический русский, и, как я понимаю, теперь есть еще 2 и социологический русский. При этом каждая специальность утверждает, что говорит порусски, но другую специальность понять не может по причине большой специфичности словаря каждой из них. Засилие этих отъединенных и уединенных языков, с моей точки зрения, трагично. Потому что это значит, что, во-первых, все те, кто замечательно владеют своим специфическим русским, не способны к общению со средствами массовой коммуникации или массовой информации, как хотите, их назовите и никогда не смогут с ними договориться для того, чтобы сделать их своими соучастниками, популяризаторами неких достижений, которые имеют место быть. И все специалисты, на всех сколько я знаю, редких научных конференциях, на которые я попадаю, они все трогательно жалуются на то, что журналисты их либо не видят, либо не понимают. Я прошу прощения, а по что это я должен учить ваш язык, чтобы вас понять? Может, мы вместе выучим один язык, на котором мы будем нормально разговаривать? Столкнулся я с этим давно, еще правозащитной деятельностью не занимался. А поскольку до того, как стать нормальным кинорежиссером, я был нормальным редактором в издательстве «Художественная литература», и доктор, делавший мне одну малоприятную операцию и собираясь защищать диссертацию, принес мне диссертацию и сказал: «Найди мне редактора, который сможет все то, что я тут написал, немножко более понятно выразить по-русски». Поскольку диссертация в какой-то степени была связана с той операцией, которую он мне делал, я немножко понимал, про что это написано. И отдавал себе отчет, что нет такого редактора, который в здравом уме и твердой памяти, за малые средства согласится перевести это в формы русского языка. Я ему сказал: «Володя, единственный человек, который за это возьмется и не потому что ты можешь за это какие-то деньги заплатить -, а просто потому что тебя любит и чем-то тебе обязан -–этот человек – я. Я готов этим заниматься». Дальше я ним сражался, наверное, неделю и так во многих вещах и не переубедил. Так и осталось: «Поступила больная умеренного питания». Я говорю: «Это что? Как надо понимать? Ну, наверное, «средней упитанности». «Упитанность», - сказал мне мой кандидат в кандидаты, «мой учитель говорил: «Упитанность бывает только у скота», - дальше он воспроизводил все, что по этому поводу подсказывало ему его медицинское сознание, без всякого уважения к тому, что подсказывало ему наше общее знание русского языка. Между прочим, как это в стихотворении одном сказано: «И вы, и я бываем этим третьим». Я – реже, вы, мягко говоря, чаще, я опять сошлюсь на ту конференцию, на которой я был. Понимаете, какая штука, это очень удобно разговаривать с себе подобным. Есть некая система допуска, неких условных обозначений, которые позволяют друг друга проще понимать. Может быть, это и так. Но тогда не надо называть это языком. Тогда надо 3 говорить, что у нас есть свой научный шифр. Вот договориться об этом шифре – это я могу себе представить, но тогда вести переговоры в уединенных местах, где можно разговаривать свободно, не нанося урон способности к пониманию других людей. Иначе, это все-таки, очень трагично. Когда я прихожу на социологическую конференцию, когда речь идет о высоких штудиях, мне дико обидно, не то, что я не могу понять штудию, я не могу понять слов, которыми эта штудия воспроизводится. Оказывается, и вот здесь хочу сослаться на тезис, которым названо мое выступление, что понятно на русском языке объясняются на любом из специфических «языков» – юридическом, медицинском, социологическом и так далее, понятно объясняются те, кто понимает про что они говорят. Зашифрованность, в основном, существует для полузнаек, для тех, кто наполовину не понимает, что он сам говорит, пользуясь некими условными терминами, передавая друг другу эти условные термины в качестве такой внутренней распасовки. Только люди, хорошо понимающие о чем идет речь, вот они, оказывается, способны это рассказать на нормальном русском, доступном и понятном, даже такому тупому неофиту, как я, языке. Вот это меня чрезвычайно радует. Поверьте, что я совершенно не собираюсь делать петрушку только из социологов, потому что я бываю на юридических бдениях намного чаще, и на лингвистических бдениях, в силу того, что лингвистика сегодня одно из направлений, скажем, экспертизы, этнология и дальше уже начинаются антропофо…. Нет, извините, не буду, не буду, в чужую шкуру постараюсь не влезать. Я просто хотел бы, завершая эту маленькую интродукцию, объяснить, что не собирался рассказать вам что-то новое из области социологии, но когда я был на последней конференции, то там обсуждался очень важный вопрос: где то переходное звено, которое может сделать социологию интересной для средств массовой информации, а средства массовой информации способными к восприятию социологических данных и к передаче их народонаселению? Ведь не только обсуждали, мы пытались это делать, два года у Никиты Евгеньевича, преподавали журналистику социологам. Юлия Калинина, я ее здесь пока не вижу, она преподавала практику, я, вроде как, преподавал теорию, хотя до сих пор не знаю, что это такое. Короче говоря, мы пытались создать некий переходник. О нем идет речь. Если он нужен, а с моей точки зрения социология может стать на ноги и занять то место, которое она, по моим ощущениям, должна занять в мире, необходимо, чтобы возникла сфера, в которой вы говорили бы со средствами массовой коммуникации или массовой информации на абсолютно понятном им языке. При этом, никаких высоких научных ценностей никто не потеряет. Я совершенно не утверждаю, что надо непременно какие-то уж слишком научные сверхтонкости сообщать ретранслирующим. Совсем в этом не уверен, но это уже другой разговор. Я сегодня здесь у вас в коридоре встретил Леню Никитинского. Леня Никитинский 4 – известный очеркист, известный журналист, между прочим, начинал, как юрист, имел восемнадцать лет назад звание кандидата юридических наук, после чего, ушел в журналистику. Тем не менее, у сегодняшних юристов есть к нему претензии, что диссертацию он защитил так давно, что уже юридические вопросы не все сечет. Если уж он не годится в качестве партнера для юристов, то, вы меня извините, никто и никогда не поймет этих юристов. Точно также никто и никогда не поймет социологов, если вы не прекратите разговаривать на птичьем языке, и не будете искать людей, с которыми вы научитесь говорить на одном и том же языке. Итак, повторяю, я говорю о лености мысли и о том, как она уже повлияла на наш с вами язык. Извините, если я кого обидел. Спасибо всем за внимание. Вопросы: Как вы относитесь к предложению, чтобы принять федеральный закон о защите русского языка или о чистоте русского языка? Категорически отрицательно. Потому что законом язык очистить нельзя. Язык можно очистить, только занимаясь им, закон не будет заниматься языком. Закон призывает заниматься языком энное количество бездельников, которым это будет вменено в обязанность. Они быстро выработают свой русский язык и замечательно будут его охранять. Поэтому я категорически против этого закона, я за всеобщее дело, а не за всеобщее безделье. А что за дело? Встречаться и разговаривать. Не считаете ли вы, что обозначенная вами ситуация исходит из ситуации, сложившейся в образовании? Ведь когда студент приходит в ВУЗ, по сути дела его учат говорить на другом языке, он просто изучает другой язык, он просто получает некую концептуальную модель, другую модель мира и, соответственно, научили – свободен. А вот перевод с одного языка на другой – эта задача образованию не ставится. Именно поэтому так часто говорят о том, что образование оторвано от жизни, потому что нет систем перевода. Секундочку. Где нужна, простите, система перевода? До того, как он туда пришел или после того, как он вышел? Значит, он вышел из этого белого здания с колоннами, ну…… и значит ему надо снова учить язык? 5 Нет. Как раз когда ему дают новый язык, он должен быть еще обучен, студент еще и возможностям перевода одного профессионального языка на язык житейский, на язык повседневный. Даже если с вами согласиться, в чем я совершенно не уверен, возникает проблема, значит, виновато учебное заведение, которое не обеспечивает его параллельно обучению языку, еще и не обучает его транслировать, ретранслировать этот язык в понятных остальному человечеству словах. Я задала как вопрос. Считаете ли вы? Вы так не считаете. Нет, не считаю. Ведь та ситуация, которую вы обрисовали она прямо исходит из того, что наша наука (не понятно) заимствована у запада. ??????????? самая распространенная тема социологической диссертации, что-то там в свете теории ???????. А вся теория ??????? понятийный аппарат, который на французском вполне понятно, что он означает, сложная грамматическая конструкция, чтобы вам что-то выразить, надо произнести три предложения. Может быть, ничего страшного, в конце концов. ??????????????? Русский язык настолько мощная грамматическая конструкция, что он все оприходует. ?????????? Может быть, ничего страшного, само это утрясется все? Вы знаете, я тоже думаю, что само растрясется, но уж больно долго растрясается. Понимаете, уже лет десять, как эта буржуазная проклятая наука разговаривает на своем воляпюке и не становится понятнее и что-то русский язык до сих пор никак не может освоить эти, с позволения сказать переводные конструкции, на которые эта наука опирается. Значит что-то неправильно в системе перевода, а это уже вопрос науки, а не русского языка. Вы знаете, я вообще по образованию востоковед. В 63-64-м году я переводил, был переводчиком в Индонезии. У меня была группа, и мои специалисты следили, как работает советская техника в тропических условиях – это была их сверхзадача. Теперь представьте себе какую-нибудь из технических бумаг на индонезийскоим языке: «Та штука, которая трется об эту штуку, которая входит в этот цилиндр». Полное отсутствие технической лексики, ну естественно, и ничего, как говорится, удивительного тут нет. Естественно, что по-английски все это имелось и, соответственно, можно было использовать, если твой напарник, скажем, был лейтенантом. Но если он был сержантом, то английский язык там 6 близко не ночевал, и приходилось просто на пальцах, вместе со специалистом, что «эта штука, которая в эту штуку». Но фокус-то заключается в том, что там «эта штука» – то была, ее ж показать можно было. А у вас нету «этой штуки»! Вы ж ее даже показать не можете! Поэтому нельзя, надо прорываться сквозь это, вот, в чем дело. Валентина Шилова (Институт социологии РАН): Эта проблема только ли вот отдельных языков научных или мне кажется, что сами вот средства массовой коммуникации, если уж мы ставим вопрос так более широко, пользуются многими языками, и они тоже становятся непонятными в чем-то людям. И в том числе эти же языки используются с целью манипуляции. Тут мы вступаем на опасную стезю формулировок «а что такое язык?» и так далее. Я понимаю, о чем вы говорите. Средства массовой информации выражаются, мягко говоря, неясно тогда, когда они не понимают, о чем они говорят. И это в большинстве случаев. Это тогда, когда они пишут научные, якобы научные статьи, от которых у вас начинаются колики смеха, потому что все там перепутано и вся терминология поставлена с ног на голову. Когда они знают, о чем пишут, они пишут совсем неплохо, если, если их учили русскому языку, что совершенно не обязательно. Это ведь тоже проблема, я ведь не хочу сказать, что у нас журналисты с точки зрения русского языка более образованы, чем социологи. Упаси Бог! Я думаю, что владеют они русским языком так же, может быть даже социологи лучше, просто потому что им чаще задумываться приходится, чем журналистам. Это вообще не думающая, на сегодняшний день, почти не думающая профессия. Всем досталось! Речь Никиты Евгеньевича. Симонов: Спасибо вам Никита Евгеньевич за такую высокую оценку действующей журналистики. Я во все это не верю с 96-го года и должен сказать, что это был единственный мой опыт работы с крупнейшими средствами массовой информации и с крупнейшими социологами. В 96-м году в период выборов мы с Всеволодом Михайловичем Вильчеком, недавно от нас ушедшим, надеюсь, многие знают этого замечательного журналиста и социолога сделали целую программу о том, как ведет себя социология на выборах, и как средства массовой информации используют результаты этой социологии. То есть у нас была абсолютно, так сказать, объективная позиция, мы вычисляли, скажем, средние прогнозы, и насколько отличаются от них индивидуальные прогнозы каждого из участников. 7 Участниками этого всего были Левада, Ядов, тогда еще живой Бетанелли, Ослон, короче говоря, вся ведущая социология счетно-цифровая, которая этим занимается, она вся была. И вот два раза за эту программу мы должны были встречаться за круглым столом с тем, чтобы обсудить сначала предварительные, а потом окончательные результаты этого дела. Здесь я понял, насколько журналистика поверхностная профессия. На этот круглый стол те социологи, с кем мы работали, пришли, и это был блистательный состав. А журналисты прислали мальчиков и девочек об этом написать. Из тех, кто участвовал всерьез, было два человека - Сережа Торчинский и заведующий отделом политики газеты «Правда». Все! Все остальные прислали мальчиков и девочек об этом написать. Зеваки. Помните рассказ О’Генри про двух зевак, которые встретились в толпе зевак и решили пожениться и долго стояли в этой толпе, выжидая, когда невеста с женихом, наконец, выйдут из церкви, хотя они стояли в толпе и ждали, оказывается, самих себя. Вот что такое журналисты, и это, к сожалению, тоже надо иметь в виду. Понимаете, какая штука, там вы говорите, про что молчать, а я говорю, что мы договорились говорить, про что говорить. Это немножко другое, это чуть-чуть другая сфера. Я не отнес бы ее к сфере языковой. Вообще всякое документальное кино, поверьте мне, я их снял довольно много – это, с одной стороны способ что-то рассказать, а с другой стороны – способ о чем-то умолчать. Где рассказ, и каким образом он сочетается с умолчанием – это знамение времени, а не языка. Вы сейчас код времени пытаетесь выдать за код языка. Это неправда, с моей точки зрения, нет особого языка у средств массовой информации, даже у визуального, то есть, не считая индивидуальных особенностей каждого режиссера, который по-своему строит сюжет и так далее и тому подобное. Кстати говоря, документалистика очень усредняется в информационном пространстве, то есть, становясь частью информации, она индивидуальность, глубину теряет, но это то, что вы называете форматом, это не особый язык. Это не особый язык, это другая система, то есть вы хотите сказать, нет ли у журналистов такого же особого языка, на котором они между собой…. Ни фига подобного! Это просто конкретная ситуация, в том числе и конкретная ситуация ТЭФИ. Ведь в ТЭФИ голосуют, как известно, все академики их там человек, сейчас уже стало сто пятьдесят, им привозят эти безумные горы пленок, они сами, естественно, не успевают все посмотреть, сажают своего главного редактора или кого-то из приближенных это смотреть. Потом с ними согласовывают это голосование, то есть ли у этого какой-то условный код? Конечно, есть, даже само название ТЭФИ – уже свидетельство того, что существуют какие-то отдельные правила. Но это не относится к тому, о чем мы сегодня говорим. 8 Высшая школа экономики, Конференция «Модернизация экономики и государство» Апрель, 2006