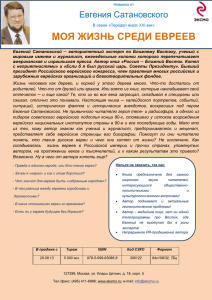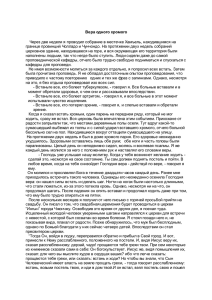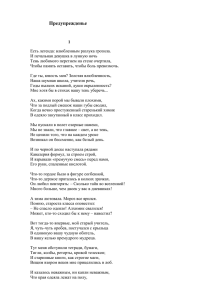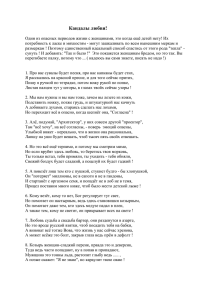Хрестоматия: учебник, материалы
advertisement
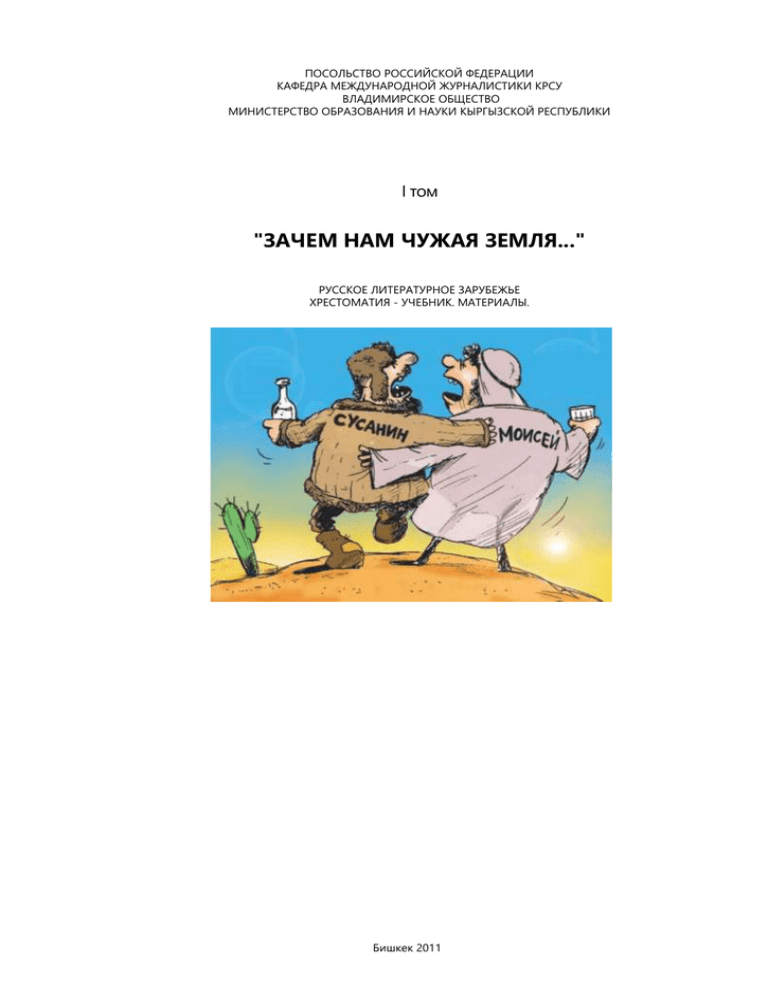
ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ КРСУ ВЛАДИМИРСКОЕ ОБЩЕСТВО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ I том "ЗАЧЕМ НАМ ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ..." РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ХРЕСТОМАТИЯ - УЧЕБНИК. МАТЕРИАЛЫ. Бишкек 2011 УДК 82/821.0 ББК 83.3 Р. 3-39 Рецензенты: канд. филол. наук И.В. Деева, зав. каф. ист. и теор. литер. КРСУ, доцент Б.Т. Койчуев. Рекомендовано к печати Советом факультета международных отношений и НТС КРСУ "ЗАЧЕМ НАМ ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ..." РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ХРЕСТОМАТИЯ - УЧЕБНИК. МАТЕРИАЛЫ. Идея и предисловие: А.С. Кацев; Сост.: А.С. Кацев, Я.А Моше, при участии Е.Д. Куприяновой. ISBN 978-9967-05-717-3 Работа создана в помощь изучающим литературу русского зарубежья, необычна и отличается от аналогичных работ. Ее охват – от посланий князя Курбского до наших дней – дает возможность представить многообразие русской литературы, существующей за границами отечества. Различные тематические и стилевые группы произведений представляют мозаику художественной словестности разных потоков эмиграции. Где возможно, представляется биография автора, произведение и различные отклики о нем или интервью с писателем. Данная работа поможет лучше представить и понять русскую литературу, развивающуюся в диаспоре. Изданно при поддержке Посольства Российской Федерации З4603020101-11 УДК 82/821.0 ББК 83.3 Р. ISBN 978-9967-05-717-3 © А. С. Кацев Составление Предисловие Примечания 2011 2 Содержание Предисловие ........................................................................................................................... Эмигрантская литература............................................................................................... Андрей Курбский Первый русский диссидент. .............................................................................................. Третье послание Курбского Ивану Грозному..................................................... Андрей Курбский .................................................................................................................... Александр Герцен Биография .................................................................................................................................. Долг прежде всего. ............................................................................................................... Аркадий Аверченко Биография .................................................................................................................................. Короли у себя дома. ............................................................................................................. Дюжина ножей, не убивших революцию ................................................................. Владимир Набоков Биография .................................................................................................................................. Весна в Фиальте................................................................................................................... Королек. ..................................................................................................................................... Илья Эренбург Биография .................................................................................................................................. Бурная жизньЛазика Ройтшванеца. ..................................................................... Василий Аксенов Биография .................................................................................................................................. Таинственная страсть................................................................................................... Интервью с Эрнстом Неизвестным .............................................................................. Александр Солженицын Биография .................................................................................................................................. Какннам обустроить Россию. ..................................................................................... Владимир Войнович Биография .................................................................................................................................. Портрет на фоне мифа .................................................................................................. Эдуард Лимонов Биография .................................................................................................................................. Первый панк. ......................................................................................................................... Коньяк. "Наполеон". ............................................................................................................ Татьяна Толстая Биография .................................................................................................................................. Надежда и опора. ................................................................................................................. Сергей Довлатов Биография .................................................................................................................................. Соло на Ундервуде................................................................................................................ Интервью .................................................................................................................................... Игорь Губерман Биография .................................................................................................................................. Не думал, что кому зачтется. ................................................................................... Интервью .................................................................................................................................... Эфраим Севела Биография .................................................................................................................................. Остановите самолет - я слезу. .................................................................................. Примечания ............................................................................................................................ 3 Предисловие Различные по-именования часто говорят о распространенности того или другого явления, «Эмигрантская литература», «литература русского зарубежья», «русская литература рассеяния», «русская литература в диаспоре» и т.д., и т.п. Авторы, произведения, судьбы авторов и произведений как произведения. За каждым культурный феномен. Если обратить внимание на истоки, то яркой вспышкой мелькнут письма А.Курбского И.Грозному, в которых протестный мотив определяющ. Он-то и станет одним из присущих данной литературе качеств. Были ли более ранние произведения, которые можно было отнести к аналогичной литературе? Скорее всего, да. Но они требуют поиска и определения. Произведения, созданные вне метрополии, в которых в той или иной степени проявляется национальная и социально-культурная идентификация. Можно спорить, почему А.Герцен - писатель русского зарубежья, а Н.Гоголь - нет. Можно определять границы бытования литературы русского зарубежья и глубину воздействия на литературу метрополии и литературу государства, в котором создавалась литература диаспоры. И даже возможно ли существование литературы диаспоры на языке страны, в которой эта диаспора сосуществует. Вопросов много, как много писателей и книг, составляющих понятие, «литература русского зарубежья». Одна книга не может, да и не должна включать все произведения, подходящие «по формату», поэтому субъективность в подборе материала, конечно же, проявила себя. Вошли одни авторы, другие подразумевались, третьи еще ждут своего места и времени. Конечно же, не удалось избежать фрагментарности и пунктирности в представлении явления. Но, получив о нем представление, читатель начнет свой поиск, и у него сложится своя «литература русского рассеяния», и не надо ахать: «А имярек не вошел, а этого стихи вы упустили, а этого - статью». Данная книга не антология, жанр «Хрестоматия-учебник. Материалы». Исходя из него и формировалось содержание, в котором была осуществлена попытка представить литературу в многожанровости и многостильи, тематически ностальгирующую и тематически осваивающую новую реальность в теоретическом представлении тех, кто осмысливал ее вдали от границ Отечества и практическом воплощении тех, кто воссоздал потерянную и возвращенную Родину. ЭМИГРАЦИЯ А. С. Кацев Эмиграция большой части русских писателей (и часто значительных) — это явление столь же знаменательное для развития русской литературы после 1917, сколь и стремление КПСС руководить литературной жизнью на подвластных ей территориях, исходя из политической целесообразности. Различают три волны эмиграции. Первая была непосредственным следствием гражданской войны, ее кульминация приходится на 1920 г. Вторая возникла при возможности покинуть страну под прикрытием немецких войск в 1943-44 гг. или остаться в 1945 г. в Западной Германии. Третья — результат разочарования верхнего интеллектуально-художественного слоя общества в кратковременности оттепели после смерти Сталина, что сказалось в сворачивании либеральных начинаний, развивавшихся в первую очередь из-за активной критики и протестов со стороны этого слоя, с которым советское руководство стремилось совладать не только посредством преследования в СССР, но и высылками и разрешениями на выезд. До сих пор самое большое число выездов приходится на 70-е гг. Общее число русских, покинувших свою родину во время первой эмиграции, насчитывает от 1 до 2 миллионов человек. Среди них известными писателями были: А. Аверченко, М. Агеев, Г. Адамович, М. Алданов, Л. Алексеева, Дон Аминадо, А. Амфитеатров, Л. Андреев, К. Бальмонт, А. Белый, Н. Берберова, Д. Боборыкин, И. Бунин, Д. Бурлюк, В. Варшавский, Т. Величковская, А. Величковский, Г. Газданов, А. Гингер, 3. Гиппиус, М. Горлин, М. Горький, Г. Гребенщиков, Р. Гуль, О. Дымов, Н. Евреинов, Б. Зайцев, В. Злобин, B. И. Иванов, Г.В. Иванов, Ю. Иваск, И. Кнорринг, Д. Кнут, В, Корвин-Пиотровский, П. Краснов, В. Крымов, А. Куприн, А. Кусиков, А. Ладинский, В. Линденберг, И. Лукаш, Л. Лунц, В. Лурье, С. Маковский, Ю. Мандельштам, Д. Мережковский, Н. Минский, C. Минцлов, П. Муратов, В. Набоков (Сирин), Е. Нагродская, В. Нарциссов, А. Несмелое, Ю. Одарченко, И. Одоевцева, М. Осоргия, Н. Оцуп, В. Перелешин, Г. Песков, Б. Поплавский, А. Присманова, Г. Раевский, С. Рафальский, А. Рахманова, А. Ремизов, Н. Рерих, В. Ропшин (Савинков), И. Северянин, А. Седых, Вл. Смоленский, Ф. Степун, И. Сургучев, Е. Скобцова (Мать Мария), Е. Таубер, Ю. Терапиано, А. Толстой, Н. Тэффи, Ю. Фельзен, В. Ходасевич, М. Цветаева, И. Червинская, С. Черный, Е. Чириков, И. Шмелев, А. Штейгер, И. Яссен. Этот, разумеется, не полный список включает и писателей т.н. «старшего поколения» — тех, чьи имена сделались известными в России до 1917 г., и молодых, начинавших писать уже в эмиграции. Они покидали Россию, либо спасаясь бегством от смертельной опасности, либо в потоке эвакуации через Крым в 1920 г., либо легально, с выездными визами; некоторые оказались на Западе еще до большевистского переворота и остались там. Кратковременным перевалочным пунктом беженцев через Крым был Константинополь. Остальные находили первое убежище в Берлине, Париже, Праге, Белграде, Риге, Таллине, Харбине, Шанхае. До ноября 1923 г. литературным центром эмиграции был Берлин. Здесь поддерживались также постоянные контакты с советскими авторами, здесь задерживались писатели, не решавшиеся сделать выбор, и те, которые вернулись в СССР, например, А. Белый, М. Горький, И. Эренбург, И. Соколов-Микитов, А. Толстой и В. Шкловский. Дружественная по отношению к СССР внешняя политика Германии (Рапалльский договор) и экономические обстоятельства привели к перемещению литературного центра эмиграции в Париж, где существовали литературные салоны, в частности, салон 3. Гиппиус и Д. Мережковского. Оккупация Парижа немецкими войсками обусловила 4 дальнейшую эмиграцию части здешней русской колонии в США. Во времена Сталина выехать не мог почти никто: Ю. Трегубов получил визу как ребенок со своей матерью, М. Булгаков тщетно просил разрешения выехать из страны, в то время как в 1931 г. Е. Замятину власти дали такое разрешение — единственному между двумя волнами эмиграции. Вторая эмиграция насчитывает гораздо меньше писателей. Наиболее известны: Г. Андреев, О. Анстей, И. Елагин, Ю. Иваск, О. Ильинский, Д. Кленовский, С. Максимов, Н. Моршен (Н. Марченко), Б. Нарциссов, Н. Нароков, Л. Ржевский, В. Сиикевич, И. Чиннов, Б. Ширяев, В. Юрасов. Этот поток также неизбежно шел сначала в Германию, образуя центры собственной культурной и литераторской жизни в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. В 1945 г. советская сторона была заинтересована в том, чтобы побудить этих эмигрантов (равно как и эмигрантов первой волны) к возвращению в СССР. Эмигрантам 1917-20 гг. до 1.11.1946 предлагались советские паспорта, часть эмигрантов 1943-44 гг. была насильственно репатриирована. Многие из этих «перемещенных лиц» к 1950 году переселились в США. История третьей эмиграции начинается с того, что Б. Пастернаку в самый разгар кампании против него настойчиво предлагалось покинуть СССР, выехав за границу. Лишь покаянное прошение избавило Пастернака от высылки. Первым советским автором, которому разрешили выезд за границу, подразумевавший изгнание, был В. Тарсис (1966). В 70-х гг. советское правительство ослабило категорический запрет покидать страну для евреев, выезжающих в Израиль, и для некоторых, обладавших известностью, представителей интеллигенции. К наиболее известным писателям третьей волны эмиграции принадлежат: В. Аксенов, Ю. Алешковский, A. Амальрик, В. Бетаки, Д. Бобышев, И. Бродский, И. Бурихин, П. Вегин, Л. Владимирова, Г. Владимов, Ю. Вознесенская, B. Войнович, А. Волохонский, Н. Воронель, А. Галич, Ю. Гальперин, А. Гладилин, Н. Горбаневская, Ф. Горенштейн, М. Демин, С. Довлатов, Л. Друскин, 3. Зиник, А. Зиновьев, Ф. Кандель, Б. Кенжеев, Ю. Колкер, Л. Копелев, Н. Коржавин, В. Крейд, М. Крепе, Ю. Кублановский, А. Кузнецов, Э. Лимонов, Л. Лосев, А. Львов, Вл. Максимов, Ю. Мамлеев, Вл. Марамзин, Д. Маркиш, В. Некрасов, И. Ратушинская, Вл. Рыбаков, Э. Севела, C. Соколов, А. Солженицын, В. Тарсис, Е. Терновский, А. Терц (А. Синявский), Б. Хазанов, А. Цветков, Б. Шапиро, С. Юрьенен. Лишь некоторые получили разрешение на выезд благодаря браку с гражданами стран Запада (например, Ю. Гальперин, А. Кторова, Б. Шапиро, С. Соколов). Некоторые из эмигрантов сначала занимали видные места в системе советской литературы, отчасти и в качестве членов КПСС. Они вошли в конфликт с представителями политической власти, потому что в своих произведениях вместо требуемой Пропаганды они отражали правду в соответствии со своим жизненным опытом и выступали против подавления прав человека. Часто их произведения, не разрешенные к печати цензурой, распространялись в самиздате. Третья эмиграция рассеяна по западному миру. Часть этой «волны» живет в Израиле, другие — в Париже и США, многие писатели обосновались и в Федеративной Республике Германии. Каждая из эмигрантских групп имеет свои журналы, газеты и издательства (литературные журналы). Из парижских журналов первой эмиграции особенным признанием пользовались «Современные записки», «Вестник Русского Христианского Движения», «Числа» и «Возрождение». Представители этой эмигрантской группы после переселения в США основали там в 1910 газету «Новое русское слово» (в настоящее время ежедневная). Вторая эмиграция публиковалась в журнале «Грани», выходящем и по сей день, и в «Русской мысли», еженедельной газете с регулярно выходящим литературным приложением, а также в значительных альманахах «Мосты» и «Воздушные пути». Третья эмиграция выпускает около 100 журналов (на 1980), среди которых наибольшим вниманием пользуются: «Континент», «Время и мы», «Эхо», «Третья волна», «Ковчег», «Гнозис», «Синтаксис», «Стрелец». При этом «Континент» (как и параллельно издававшееся, не идентичное русскому, издание на немецком языке «Kontinent Ost-West-Forum») выходит и за национальные рамки, привлекая изгнанников из всего подсоветского мира. Вследствие перестройки в начале 90-х гг. возникли различные формы сотрудничества между журналами Эмиграции и Россией. Живущие на родине авторы смогли публиковать свои произведения за рубежом, ввоз журналов больше не запрещался, издательство некоторых из них стало осуществляться в России и, таким образом, политические задачи журналов Эмиграции исчерпали себя. В своих глубочайших устремлениях литература русской эмиграции не отличается от всех других литератур мира, для нее важны языковое воплощение земного и духовного бытия людей, смысл жизни и смерти, любви и вообще отношений между людьми. Но и по всем этим темам формы ее высказываний были свободнее, чем у советской литературы, которой коммунистически-атеистическая идеология в принципе запрещала обращение к метафизическим началам. Разительно резко расходится русская литература за рубежом с советской подцензурной литературой в изображении современных, а часто и исторических явлений. Так, у истоков первоэмигрантской литературы — документ, отчеты об ужасах гражданской войны; так, уже вторая Эмиграция запечатлела неприкрашенную картину советских исправительно- трудовых лагерей и военной реальности; так, литература третьей Эмиграции, наряду с тем, что написано в СССР, но до перестройки опубликовано за границей, в истинной полноте рассказывает об истории Советского Союза и повседневной жизни этой страны, равно как об унизительных для человека условиях в лагерях, психиатрических больницах и ссылках. Тема России, особенно в традиционном соединении с православием, занимает большое место в произведених первых эмигрантов; тема жизни в новом окружении и обмена с другой культурой возникает в большинстве случаев после нескольких лет пребывания писателя за границей. Едва ли найдется русский писатель, полностью замолчавший на Западе. Некоторые авторы третьей волны привезли с собой на Запад готовые произведения, многие только в изгнании смогли в полной мере проявить свою творческую активность, но у других качество литературных произведений явно снизилось. Можно найти и немногочисленные примеры полной интеграции в новую культуру: появляются произведения целиком или отчасти написанные на языке страны жительства (В. Набоков, В. Линденберг [Челишев], В. Перелешин, И. Бродский, Б. Шапиро). Присуждение И. Бунину Нобелевской премии в 1933 принесло эмигрантской литературе международное признание. Та же форма признания и почета, оказанного Б. Пастернаку в 1958 и А. Солженицыну в 1970 (еще до его высылки) обнаружили, что правдивая современная русская литература до 5 перестройки могла быть напечатана только вне советских границ, независимо от того, живет ли автор в СССР или в изгнании. Отношение советских властей к зарубежной литературе менялось в зависимости от политической ситуации в стране. Не сразу их отношение к зарубежной литературе стало столь враждебным, как при Сталине. Тогда факт эмиграции представлялся как полнейшая творческая дискредитация, писатели-эмигранты либо замалчивались, либо были оклеветаны. Оттепель привела к весьма ограниченному возвращению произведений некоторых эмигрантов, в частности И. Бунина, И. Шмелева, Л. Андреева, А. Аверченко, А. Ладинского, А. Куприна (больше, чем после его приезда в 1937). Избранные произведения отдельных эмигрантов публиковались и после оттепели (К. Бальмонт, И. Северянин, Вяч. Иванов, А. Ремизов). Коренные изменения по отношению к эмиграции вызвала перестройка в конце 80-х гг. Несколько первых журнальных публикаций (например, Набокова, Замятина, Ходасевича) проложили пути эмигрантской литературе в СССР, и год от года ее печатали все больше и больше, причем за первой волной Эмиграции последовала третья: сначала в 1987 был опубликован Бродский, а в 1989, с преодолением больших трудностей, Солженицын. И, наконец, последней нерешительно начали издавать произведения писателей второй волны Эмиграции Эта полная интеграция эмигрантской литературы происходила параллельно с появлением произведений вовсе не эмигрировавших авторов — например, Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама и многих других. Примерно с 1986 эмигранты смогли снова посещать свою родину и выступать публично. Однако, кроме И. Одоевцевой, которая вскоре умерла, до 1991, кажется, никто не вернулся в Россию насовсем, хотя многие несколько месяцев в году проводят там. После провалившегося путча в августе 1991 заявил о своем возвращении по окончании некоторых литературных трудов Солженицын. В Институте Мировой Литературы АН СССР был создан отдел литературы Эмиграции В августе 1990 указы о лишении гражданства 23-х писателей были отменены (Реабилитация). Вопрос о въезде и выезде, как и вопрос о публикациях в стране или за рубежом, связан исключительно с финансовыми возможностями и личным решением. В «круглых столах», дискуссиях, опросах вместе с писателями, живущими на родине, принимают участие и эмигранты, и западные исследователи (например, в первой половине 1991 — о Солженицыне, см. «Лит. газ.», с 27.2. по 17.7.). Единство русской литературы восстанавливается. Антологии: На Западе. Антология заруб, поэзии, сост. Ю. Иваск, New York, 1953; Лит. зарубежье, MQnchen, 1958; Муза диаспоры. Избр. стихи заруб, поэтов 1920-1960, сост. Ю. Терапиано, Frankfurt/M., 1960; Modern Russian Poetry (russ./engl.), сост. и пер. VI. Markov and M. Sparks, New York, 1966; Рус. альм, под ред. 3. Шаховской, Р. Герра, Е. Терновского, Paris, 1981; A Russian Cultural Revival. A Critical Anthology of Emigre Literature Before 1939, ed. by T. Pachmuss, Knox- ville, 1981; Руссика-81, под ред. А. Сумеркина, New York, 1982; Рус. поэты на Западе, сост. А. Глезер, С. Петрунис, Paris, New York, 1986; Russen in Berlin 1918-33. Eine kulturelle Begegnung. Сост. F. Mireau, Weinheim—Berlin, 1988; Лит-ра рус. зарубежья. В 6-ти тт., 1990; Третья волна. Антология, 1991; Берега. Стихи поэтов второй эмиграции. Сост. В. Синкевич, Philadelphia, 1992 (ср. Д. Бобышев, «Рус. мысль», 1992, 27.11.—18.12); Б. Хазанов, Exili- um, ж. «Новый мир», 1994, №12. Лит.: Н. v. Rimscha. Russland jenseits der Grenzen 1921-26, Jena, 1927; L Loewenson, Russ. Schriftum im Ausland (библиография), ж. «Osteuropa» №4 (1928-29), №5 (1929-30); А. Амфитеатров, Лит-ра в изгнании, Beograd, 1929; J. Delage. La Russie en exil, Paris, 1930; W. Ch. Huntington. The Homesick Million. Russia-out-of-Russia, Boston, 1933; H. Лидин, ж. «Рус. записки», №1 и 2, 1937; Н. Ульянов, ж. «Новый журн.», №28, 1952; Ю. Терапиано. Встречи, New York, 1953; В. Варшавский. Незамеченное поколение. New York, 1956; Г. Струве. Русская лит-ра в изгнании. New York, 1956, 2-е изд. — 1984; Ю. Болыпухин, Лит. зарубежье, Miinchen, 1958; Н.-Е. Volk-man. Die nissische Emigration in Deutschland. 1919- 29, Wurzburg, 1966; И. Окунцов. Рус. эмиграция в Северной и Южной Америке, Buenos Aires, 1967; L Foster. A Bibliography of Russian Emigre Literature 1918-1968, В 2-х тт., Boston, 1971; M. Beyssac. La vie culturelle de Immigration russe en France, Chronique 1920- 1930, Paris, 1971; Рус. лит-ра в эмиграции. Сб. статей, сост. Н. Полторацкий, Pittsburgh, 1972; 3. Шаховская. Отражения, Paris, 1975; L'emigration russe en Europe. Catalogue collectif des plriodiques en langue russe 1855-1940, сост. Т. Ossorguine-Bakounine, Paris, 1976, 1940-1979, сост. A. Volkoff, Paris, 1981; Ю. Мальцев. Вольная рус. лит-ра, Frankfurt/M., 1976; The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West 1922-1972, ed. S. Karlinsky and A. Appel, Berkeley, Los Angeles; London, 1977; M. Геллер (о высылке 1922), ж. «Вестник РХД», №127, 1978; Г. Свирский. На лобном месте, London, 1979; Одна или две рус. лит-ры, Lausanne, 1981; L. Dienes, L. Rievskij, L. Losev, в кн.: MERSL, №6 (1982); В. Янович. Поля Елисейские, Paris, 1983; G. Seide, Geschichte der Rus. Ortodoxen Kirche im Ausland, Wiesbaden, 1983; Рус. Берлин 1921-23, Paris, 1983; О. Duric. Ruski emigrantski knjiievni kruioci u Beogradu (1920-24), ж. Savremenik, Beograd, 1984, №8-9; Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg, Berlin, 1987; D.M. Bethea, «Slavic and East European Journal», №4, 1987; H. Резникова. В рус. Харбине, ж. «Новый журн.», №172-173, 1988; W. Kasack, Заруб, публикации рус. литры, ж. «Вопросы лит-ры», 1989, №3; М. Raeff, Russian abroad. A cultural history of the russian emigration, 1919-39, Oxford, 1990; H. Струве, «Лит. газ.». 1921- 14.11.; А. Афанасьев, ж. «Москва», 1990, №7; В. Бондаренко, «День», 9.; «Рус. рубеж», 1991, №11; Б. Миллер (NTS) «Лит. газ.», 1993, 22.9.; A. Д. Алексеев, Лит-ра рус. зарубежья. Книги 1917-1949; Сводный каталог рус. заруб, периодических и продолжающихся изд. в библиотеках С.-Петербурга, 1993; Лит-ра рус. зарубежья в фондах библиотек Москвы. Краткий справочник, 1993; В. Казак, Конец эмиграции?, ж. «Знамя», 1994, №11. 6 Андрей Курбский Первый русский диссидент Мифологизация образа князя как положительного героя началась уже в XVII веке в Речи Посполитой. В 1641 году в Кракове был издан первый том «Orbis Poloni» («Польский мир»), в котором помещены герб Курбского и краткий комментарий к нему геральдиста Симона Окольского. В нем содержалась похвала Курбскому: «Крупский был поистине великим человеком: во-первых, великим по своему происхождению, ибо был в свойстве с московским князем Иоанном; во-вторых, великим по должности, так как был высшим военачальником в Московии; в-третьих, великим по доблести, потому что одержал такое множество побед; в-четвертых, великим по своей счастливой судьбе: ведь его, изгнанника и беглеца, с такими почестями принял король Август». Здесь что ни строка, то выдумка и миф. При обращении к фактам биографии князя очевидно, что он не был ни таким уж великим полководцем, ни тем более «высшим военачальником». Да и его родство с царицей Анастасией Романовой было столь дальним, что вряд ли позволяло говорить о близком «свойстве» царю Ивану IV. Нет на счету князя и «множества побед». Очень горький оттенок носили и «милости» короля Сигизмунда II Августа. Особенно примечателен здесь пассаж о победе князя над московской деспотией. В реальности бегство князя от царя Ивана вряд ли можно считать «викторией». Но Окольский разъяснил читателям, в чем именно состояла победа Курбского над Иваном «Невозможно и представить худшего наказания и бедствия для Московского царства, чем то, что этот Геракл — боярин и государственный муж, принимавший участие в важнейших делах Московии, - стал вассалом и подданным польского короля. Ни днем, ни ночью не мог забыть тиран о Крупском и его льве и, видя во сне, трепетал от ужаса. Ибо: лев, увиденный во сне, предвещает гибель от руки врагов». По Окольскому, лев в гербе Курбского «обозначает высочайшее превосходство- превосходство, данное природой, данное судьбой... Лев — знак всех победителей, но особенно он пристал победителю тиранов». Остается только гадать, откуда польскому автору XVII века стали известны сны и нравственные терзания русского царя, скончавшегося в прошлом, XVI веке... В России XVII века Курбский как борец с тиранией стал известен благодаря проникновению из Речи Посполитой так называемых Сборников Курбского — подборки его сочинений, нередко объединенных с другими произведениями, описывающими жестокости Ивана Грозного — например, главы «О московской тирании» из хроники польского историка XVI века Мацея Стрыйковского «Описание Европейской Сарма- тии», переработанной Александром Гваньини. Тем самым Сборники Курбского, известные более чем в 120 списках, как бы создавали альтернативу официальной «благопристойной» истории правления Ивана Грозного. Как отмечено К. Ю. Ерусалимским, «копирование Сборника имело привкус "литературного скандала"... Сами масштабы копирования этого сборника могут быть истолкованы как знак участия Курбского в жизни российской литературы и общества. Информация, собранная князем, не находила аналогов в официальных русских текстах о времени Ивана Грозного. Брошенный Курбским вызов тирании иногда воспринимался как вызов власти как таковой. Особенно заметными такие подтексты становились в эпохи, когда возрастало противостояние между властью и оппозицией. Неслучайны замечания Екатерины II на полях рукописи Сборника, запреты на публикацию сочинений Курбского, выступления "Курбского" против тирании в трудах историков М. М. Щербатова, Н. М. Карамзина, В. Ф. Тимковского и в литературных опытах А. С. Пушкина и декабристов». Один из первых неудачных опытов использования сочинений Курбского для критики Ивана Грозного был предпринят в петровское время. В 1708 году работнику московской типографии Федору Поликарпову было поручено в течение пяти лет написать русскую историю от великого княжения Василия III до современности. Поликарпов взял у Курбского несколько описаний злодейств Грозного и примеров его деспотического правления. В 1716 году Петр I рассмотрел рукопись и забраковал, хотя и велел выплатить 200 рублей «за труды». Возможно, ему не понравились как раз выпады против его царственного предка, которого он считал своим предшественником. На триумфальной арке, сооруженной в 1722 году, с правой стороны было сделано в натуральную величину изображение Ивана Грозного в царской короне с надписью: «Incipit» («Начал»), а слева—Петра в императорской короне с надписью «Perficit» («Усовершенствовал»). Критические выпады Курбского вызывали отторжение у части российского общества, отсюда очень рано возникает своеобразная цензура, попытки отредактировать и переписать Курбского в духе, более угодном властям. К. Ю. Ерусалимским показано, что такие случаи не редкость. В 1740-е годы возникла так называемая Сокращенная редакция Сборника Курбского, автор которой удалял из него богословские отрывки, выпады против царя, рассуждения и интерпретации. Переписчик списка Саровской пустыни просто вычеркнул наиболее резкие характеристики Ивана Грозного при копировании источника. Переписчик Овчинниковского списка в приписке к рукописи проклинал Курбского за его ложь на царя. Очень примечательна правка Тихомировского списка сочинений Курбского студентом Академии наук Семеном Девовичем в 1760 году. Вместо слов: «царь старшего сына Дмитрия своим безумием погубил» после редакторской правки оказалось: царь Дмитрия «лишился»; в источнике царь противится Максиму Греку «яко гордый человек» — после правки читается только: «противился, в сем ему»; в источнике царь еще до гонений на «Избранную раду» «лют и бесчеловечен начал, быти» — у Девовича он «от времени до времени жесточайшим казался»; затерты отрывки в тех местах, где в источнике говорится о царе как о «мучителе варварском, кровоядном и ненасытимом»; митрополит Филипп проклинает царя у Курбского — и лишь не благословляет у Девовича; у Курбского царь «гонение воздвиг» на Новгород — после редакторской правки в 7 этом месте читается: «жестокость... оказал». Как исторический источник по периоду правления Ивана Грозного использовал сочинения Курбского князь М. М. Щербатов, однако он также предостерегал от чрезмерного доверия к эмоциональным разоблачениям эмигранта, поскольку Курбский «был огорчен» и желал очернить память о царе. В 1816 году первое биографическое сочинение о Курбском составил В. Ф. Тимковский. Он осторожно поставил вопрос: не следует ли отойти от однозначных оценок князя как предателя и акцентировать внимание прежде всего на его борьбе с тиранией и служении высшим идеалам, в том числе — патриотическим? Тимковский составил одну из первых развернутых характеристик Курбского: «Он имел ум твердый, проницательный и светлый, дух высокий, предприимчивый и решительный... Сердце его расположено было к глубоким чувствованиям любви к отечеству, братской нежности и искреннейшей благодарности; душа его открыта была для добра. Он был верный слуга самодержавия и враг мучительского самовластия. Презирал ласкателей и ненавидел лицемерие. Его просвещенная набожность и благочестие были, кажется, выше понятий того века, в котором он жил... Храбрость и вообще воинские доблести почитал он весьма высоко и, чувствуя в себе дар сей, позволил себе некоторую рыцарскую гордость, которая презирала души слабые и робкие. В самом деле, храбрость его была чрезвычайна, даже походила иногда на запальчивую опрометчивость и дерзость необузданную, и во всяком случае напоминает она мужество древних Русских Богатырей, или Витязей Гомеровых» Труд Тимковского остался неопубликованным, известен только в рукописи и особого влияния на последующую традицию не оказал, хотя и предвосхитил многие высказывания последователей. На страницах VIII (1818) и IX (1821) томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина имя Курбского звучит каждый раз, когда «придворный историограф» обличает «кровавые злодейства Иоанна». И хотя он осуждает князя за предательство, называя «беглецом», все равно в глазах читателя именно Курбский оказывался человеком, сказавшим правду о тиране, «врагом Иоанна». По выражению К. Ю. Ерусалимского, Карамзин открыл «трагедию Курбского как одновременно тираноборца и предателя... Журбский, хотя и был под запретом цензуры, "торжествовал" в "Истории Государства Российского". В VIII и IX томах Курбский, как свидетель тирании, "враг Иоаннов", становится частью эпического театрализованного повествования». Важно, что Карамзин цитировал Курбского в своих примечаниях столь обильно, что можно говорить о первой серьезной публикации значительных фрагментов сочинений беглого князя, причем на страницах книги, очень популярной в русской обществе. Читать Карамзина было модным. Отсюда поколение современников Карамзина, который, как говорили, открыл русскому обществу его историю, как Колумб открыл Америку, усвоило миф о князе Андрее — борце с деспотизмом. Беглого воеводу полюбили декабристы. В нем они видели своего предшественника. К. Ф. Рылеев в 1821 году так представлял себе монолог Курбского: На камне мшистом в час ночной, Из милой родины изгнанник, Сидел князь Курбский, вождь младой, В Литве враждебной грустный странник, Позор и слава русских стран, В совете мудрый, страшный в брани, Надежда скорбных россиян, Гроза ливонцев, бич Казани... «Далеко от страны родной, Далеко от подруги милой, — Сказал он, покачав главой, — Я должен век вести унылый. Уж боле пылко я дружин Не поведу к кровавой брани, И враг не побежит с равнин От покорителя Казани. До дряхлой старости влача Унылу жизнь в тиши бесславной, Не обнажу за Русь меча, Гоним судьбою своенравной. За то, что изнемог от ран, Что в битвах край родной прославил, Меня неистовый тиран Бежать отечества заставил: Покинуть сына и жену, Покинуть все, что мне священно, И в чуждую уйти страну С душою, грустью отягченной. В Литве я ныне стал вождем; Но, ах! ни почести велики Не веселят в краю чужом, Ни ласки чуждого владыки... Увы! всего меня лишил Тиран, отечества драгова. Сколь жалок рок, кому судил Искать в стране чужой покрова» К. Ф. Рылеев заложил основы художественного образа Курбского как романтического трагического героя, патриота, изгнанного тираном из любимого Отечества. Эта тема получила развитие в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина (1825). Образ Курбского понадобился поэту для иллюстрации центральной идеи трагедии о неотвратимости возмездия. Правда, здесь была привлечена фигура не самого Андрея Курбского, а его выдуманного безымянного сына, вступившего в войско Самозванца для похода на Москву. Пушкин с сочувствием говорит о Курбском- старшем, изображает его патриотом потерянной Родины: Уединен и тих, В науках он искал себе отрады; Но мирный труд его не утешал: От юности своей отчизну помнил, И д о конца о ней он тосковал... Несчастный вождь!.. Вторжение сына Курбского на Русь в составе польско-литовской армии изображено Пушкиным как восстановление исторической справедливости в отношении его отца. При этом не важно, каковы истинные 8 цели Самозванца, в войске которого следует потомок князя Андрея. Юный Курбский — «чистая душа», которая ликует при возвращении на Родину: Вот, вот она! Вот русская граница! Святая Русь, Отечество! Я твой! Чужбины, прах с презреньем отряхаю С моих одежд — пью жадно воздух новый: Он, мне родной! Теперь твоя, душа, О мой отец, утешится, и в гробе Опальные возрадуются кости! Блеснул опять наследственный наш меч! Сей добрый меч, слуга царей московских! С. О. Шмидтом совершенно верно замечено, что «в первой трети XIX века тему "Курбский" связывали с вопросами нравственности в их общечеловеческом аспекте (исходя, естественно, из общехристианских представлений) и с неизменно волнующей проблемой нашей общественной жизни "Государь и общество", и, соответственно, с вопросом о формах публичного выражения отношения к государю, к стилю взаимодействия его с окружающими... "Примечательно то, что все, о чьем восприятии Курбского и написанного им, нам известно, были убежденными монархистами (кроме разве что К. Ф. Рылеева) и понимали, что и сам Курбский не мыслил иной системы государственной власти, чем монархическое правление. Но приводимые им свидетельства тирании и злодейств Ивана Грозного были использованы с конца XVIII века для обоснования различия "самодержавия" и "самовластия", значения "совета" государю — и в исторической литературе (М. М. Щербатов, В. Ф. Тимковский и особенно пространно и, так сказать, доходчиво Н. М. Карамзин), и в художественной (М.М.Херасков... и, конечно, Пушкин в "Борисе Годунове" и в стихах 1836 года). Добавим к этому, что образ Курбского не только привлекался в качестве символичной фигуры в рассуждениях на морально-этические темы в первой трети XIX века, но востребован в этом качестве вплоть до наших дней. В 1843 году вышло первое издание романа Б. М. Федорова «Князь Курбский» (2-е издание — 1883 год). Тональность повествования задана эпиграфом из М. М. Хераскова: «Не миру рабствовал, он Богу был служитель». Курбский изображен в панегирических тонах: «...Сопровождаемый степенным тысяцким и боярами, шел воевода большого полка князь Курбский, беседуя с воеводой Даниилом Адашевым о священном пении. Почтительно отступили граждане, чтобы дать дорогу защитнику земли русской. "Доблестный Курбский! Славный воитель!"— говорили друг другу, указывая на любимца Иоаннова, и не одна стыдливая красавица, одернув фату, из любопытства взглянула украдкою на боярина». Здесь перед нами и набожный, и тонко чувствующий князь (ценитель церковного пения), и любимец царя и народа, и прославленный воевода, спаситель Отечества, и даже предмет женской страсти. При этом князь честен и беден: вотчиной предков Курбских было княжение Ярославское, но «одна любовь к Отечеству осталась в наследие им!». Особое место в романе уделено ратным подвигам воеводы: «Одно его имя уже было грозою Ливонии. Никто не устоял против его порыва, никто не удержал его стремления». Курбский бесстрашен, о чем толкуют его враги: «Грози не грози Курбскому, не покается». Жизнь князя сопровождают мистические видения, грозные пророчества: то юродивый поклонится не князю, а его слуге Шибанову, вопрошая Курбского: «А ты знаешь, кем он будет?» То дворянин Туров перескажет князю сон, что он идет по мосту, который проваливается под ногами при виде Адашева и Курбского. Кликуша перед лицом царя пророчествует, что Курбский умрет на день раньше Грозного (на самом деле князь умер за год до царя). Юродивый водит Курбского по полям под Псковом и, указывая на природные катаклизмы (расщепленный ударом молнии дуб), толкует будущую судьбу князя. Курбский изображен писателем сторонником партии «адашевцев» — лучших людей государства, которых с помощью лжи и клеветы свергли злодеи, отвратительные даже своим порочным или уродливым видом, Басмановы, священник Левкий, другие будущие опричники. Князь решает избавить Русь от тирана и поднять восстание против Грозного во главе верных дружин. Но его отговаривает жена Гликерия, посоветовав бежать в Литву. Дрогнувший князь согласился на совет слабой женщины (которую, впрочем, при этом бросил в России) и бежал в одежде своего слуги, напугав городскую охрану: «Стражу казалось, что сам ангел тьмы, под покровом ночи, перелетает чрез городскую стену». При этом жену Курбского похитили эстонские разбойники, которые завезли ее в уединенный замок, и главарь негодяев стал домогаться любви княгини. Но Бог не оставил несчастную, и злодей вскоре погиб в бурном море прямо под стенами замка на глазах своей несостоявшейся жертвы. Гликерия Курбская стала странницею, бродящей по Ливонии. Для нее ударом было известие из Литвы о новой женитьбе ее мужа и о том, что он «вооружается на Россию». Несчастной ничего не оставалось, как постричься в монахини и уйти из этого грешного мира. Князь Андрей же в Литве «казался богатырем Владимирова века», легко очаровывавшим прекрасных панночек. Но сердце его ожесточилось, было полно честолюбия и желания отомстить, и он выступил с полками против своей бывшей родины. Выступил — и ужаснулся своей измене. Теперь он уже не святорусский герой, он — жестокое чудовище, которое при этом еще и терзается душевными муками от своих злодеяний: "Не устоять против этого зверя!" — кричали русские воины, рассыпаясь в бегстве; между тем несколько голосов гремело в слух его: "Предатель! Изменник! Судит Бог тебе за кровь русскую!" 9 Вслед за Пушкиным, в романе возникает тема сына Курбского, но совсем в другом аспекте. В одном из боев Курбский нечаянно чуть не убил своего сына, сражавшегося на стороне Москвы, из-за этого «изнемог от силы чувств и впал в жестокую болезнь». Другим ударом стало известие, что князь оказался двоеженцем: его жена Гликерия жива и в монастыре, а он, заочно «похоронив» ее, женился на литовке! Князь теперь завидует боярам, служащим тирану Иоанну: «По крайней мере, на жизни их не будет пятна». В соответствии с законами романтического жанра биографии героев пересекаются. Сын Курбского Юрий сперва находит свою мать-инокиню, а потом добирается и до Ковельского замка отца. Дальнейшая судьба персонажей романа исключительна: Гликерия Курбская, инокиня Глафира, благословляет постриженную в монахини жену Грозного Анну Колтовскую, которая позже благословит династию Романовых. А Юрий Курбский с Ермаком отправляется на покорение Сибири. Сам же князь Андрей будет искупать грех, печатая в Литве православные книги и проводя дни в уединении и молитве, заклиная: «Для чего смерть не сразила меня под Казанью? Для чего не пал я от мечей Ливонских? Я не изменил бы Отечеству!» Заканчивается роман Б. М. Федорова довольно неожиданной сентенцией: «Уже протекает третий век... изгладились следы и знаменитой гробницы князя Ковельского. Но, кажется, небо примирилось с ним: давно уже русские орлы улетели за Ковель; Россия отодвинула границы свои и приняла под материнскую сень свою прах изгнанника». Тем самым факт эмиграции Курбского как бы дезавуируется: земли, в которые он бежал из России, уже теперь русские. Это символизирует прощение Родиной раскаявшегося эмигранта. Как борец с тиранией Курбский вошел даже в дореволюционные учебные пособия по истории. Например, в учебнике С. М. Соловьева князь изображен «одним из самых ревностных» сторонников Адашева и Сильвестра, после их опалы он решается бежать во имя спасения своей жизни. «Курбский принадлежал к числу образованнейших, начитаннейших людей своего времени», он не хотел «молча расстаться с Иоанном» и написал ему обличительное письмо. С. М. Соловьев изобразил князя защитником боярских привилегий, в особенности права отъезда и ограничения власти монарха. При этом «Курбский был представителем целой стороны: он упрекал Иоанна не за одного себя, но за многих». Примерно так же о Курбском говорилось в знаменитом дореволюционном учебнике для гимназий С. Ф. Платонова: Курбский упомянут как член «Избранной рады», который бежал в 1564 году в Литву. После этого началось «жестокое гонение» на бояр. Упомянута и переписка с царем, в которой князь обвинял монарха в «жестокости и несправедливости». Властям, конечно, такие трактовки не нравились, и в более официозном учебнике Д. М. Иловайского акцент делался не на борьбу с тиранией, а на предательские деяния князя. Образ Курбского оказался востребован и в СССР в период «Оттепели» в связи с ростом в стране диссидентского движения. Поэт Олег Чухонцев в 1967 году сформулировал в «Повествовании о Курбском» вывод, востребованный тайной оппозицией советской власти для самооправдания антигосударственной деятельности: «право на измену присяге», «право на восстание». Примечательно, что для декларации данного вывода потребовался исторический пример Андрея Михайловича Курбского: Чем же, какие изменой,, воздать за тиранство, если тот, кто тебя на измену обрек, государевым гневом казня государство, сам, отступник, добро возводящий в порок? На рубеже XX и XXI веков образ Курбского вновь мелькает на страницах публицистики. Среди журналистов в последние годы популярно сравнение Курбского с Борисом Березовским (причем как комплиментарного, так и обличительного характера). В Интернете можно найти сатирические стихи (под псевдонимом Л. Левин) «Баллада о верном пути», начинающиеся со слов «Бежал Березовский от гнева царя», основанные на аллюзиях известного стихотворения А. Толстого «Князь Курбский от царского гнева бежал...». Встречается и совсем уж неожиданное сравнение Курбского с бывшим олигархом М. Ходорковским (тоже покаялся перед лицом власти) и даже с несостоявшимся кандидатом в президенты 2008 года М. Касьяновым (тоже оппозиционер)! Образ князя-диссидента, обличающего царя, привлекается в сатирических пародиях политического характера, направленных против тех или иных действий современных российских властей или политической оппозиции. Например, размещенный в Рунете памфлет «Эпистола Андрея Курбского царю Иоанну Васильевичу Путину» пародирует Первое послание Курбского Грозному, в котором «Курбский» обвиняет уже современных правителей России. Привлекается образ Курбского и как рупор пропаганды националистических и даже фашистских идей. Это показывает, что данный образ не имеет отношения к реальному Курбскому и в наши дни стал шаблонным символом правдолюбца, обличающего власть, причем даже не важно, с каких позиций. Третье послание Курбского Ивану Грозному (перевод) Ответ царю Великому Московскому на его второе послание от убогого Андрея Курбского, князя Ковельского В скитаниях пребывая и в бедности, тобой изгнанный, титул твой великий и пространный не привожу, так как не подобает ничтожным делать этого тебе, великому царю, а лишь в обращении царей к царям приличествует употреблять такие именования с пространнейшими предложениями. А то, что исповедуешься мне столь подробно, словно перед каким-либо священником, так этого я не достоин, будучи простым человеком и чина воинского, даже краем уха услышать, а всего более потому, что и сам обременен многими и бесчисленными грехами. А вообще-то поистине хорошо было бы радоваться и веселиться не только мне, 10 некогда рабу твоему верному, но и всем царям и народам христианским, если бы было твое истинное покаяние, как в Ветхом завете Манассиино, ибо говорится, как он, покаявшись в кровопийстве своем и в нечестии, в законе господнем прожил до самой смерти кротко и праведно и никого и ни в чем не обидел, а в Новом завете — о достойном хвалы Закхеином покаянии и о том, как в четырехкратном размере возвращено было все обиженным им. И если бы последовал ты в своем покаянии тем священным примерам, которые ты приводишь из Священного писания, из Ветхого завета и из Нового! А что далее следует в послании твоем, не только с этим не согласно, но изумления и удивления достойно, ибо представляет тебя изнутри как человека, на обе ноги хромающего и ходящего неблагочинно, особенно же в землях твоих противников, где немало мужей найдется, которые не только в мирской философии искусны, но и в Священном писании сильны: то ты чрезмерно уничижаешься, то беспредельно и сверх меры превозносишься! Господь вещает к своим апостолам: «Если и все заповеди исполните, все равно говорите: мы рабы недостойные, а дьявол подстрекает нас, грешных, на словах только каяться, а в сердце себя превозносить и равнять со святыми преславными мужами». Господь повелевает никого не осуждать до Страшного суда и сначала вынуть бревно из своего ока, а потом уже вытаскивать сучок из ока брата своего, а дьявол подстрекает только пробормотать какие-то слова, будто бы каешься, а на деле же не только возноситься и гордиться бесчисленными беззакониями и кровопролитиями, но и почитаемых святых мужей учит проклинать и даже дьяволами называть, как и Христа в древности евреи называли обманщиком и бесноватым, который с помощью Вельзевула, князя бесовского, изгоняет бесов, а все это видно из послания твоего величества, где ты правоверных и святых мужей дьяволами называешь и тех, кого дух божий наставляет, не стыдишься порицать за дух бесовский, словно отступился ты от великого апостола: «Никто же, — говорит он, — не называет Иисуса господином, только духом святым». А кто на христианина правоверного клевещет, не на него клевещет, а на самого духа святого в нем пребывающего, и неотмолимый грех сам на свою голову навлечет, ибо говорит господь: «Если кто поносит дух святой, то не простится ему ни на этом свете, ни на том». А к тому же, что может быть гнуснее и что прескверное, чем исповедника своего поправлять я мукам его подвергать, того, кто душу царскую к покаянию привел, грехи твои на своей шее носил и, подняв тебя из явной скверны, чистым поставил перед наичистейшим царем Христом, богом нашим, омыв покаянием! Так ли ты воздашь ему после смерти его? О чудо! Как клевета, презлыми и коварнейшими маньяками твоими измышленная на святых и преславных мужей, и после смерти их еще жива! Не ужасаешься ли, царь, вспоминая притчу о Хаме, посмеявшемся над наготой отцовской? Какова была кара за это потомству его! А если таковое свершилось из-за отца по плоти, то насколько заботливей следует снисходить к проступку духовного отца, если даже что и случилось с ним по человеческой его природе, как об этом и нашептывали тебе льстецы твои про того священника, если даже он тебя и устрашал не истинными, но придуманными знамениями. О, по правде и я скажу: хитрец он был, коварен и хитроумен, ибо обманом овладел тобой, извлек на сетей дьявольских и словно бы из пасти льва и привел тебя к Христу, богу нашему. Так же действительно и врачи мудрые поступают: дикое мясо и неизлечимую гангрену бритвой вырезают в живом теле и потом излечивают мало-по-малу и исцеляют больных. Так же и он поступал, священник блаженный Сильвестр, видя недуги твои душевные, за многие годы застаревшие и трудноизлечимые. Как некие мудрецы говорят: «Застаревшие дурные привычки в душах человеческих через многие годы становятся самим естеством людей, и трудно от них избавиться», — вот так же и тот, преподобный, ради трудноизлечимого недуга твого прибегал к пластырям: то язвительными словами осыпал тебя и порицал и суровыми наставлениями, словно бритвой, вырезал твои дурные обычаи, ибо помнил он пророческое слово: «Да лучше перетерпишь раны от друга, чем ласковый поцелуй врага». Ты же не вспомнил о том и забыл, будучи совращен злыми и лукавыми, отогнал и его от себя и Христа нашего вместе с ним. А порой он словно уздой крепкой и поводьями удерживал невоздержанность твою и непомерную похоть и ярость. Но на ею примере сбылись слова Соломоновы: «Укажи праведнику, и с благодарностью примет», и еще: «Обличай праведного, и полюбит тебя». Другие же, следующие далее стихи не привожу: надеюсь на царскую совесть твою и знаю, что искусен ты в Священном писании. А потому и не слишком бичую своими резкими словами твое царское величие я, ничтожный, а делаю, что могу, и воздержусь от брани, ибо совсем не подобает нам, воинам, словно слугам, браниться. А мог бы ты и о том вспомнить, как во времена благочестивой жизни твоей все дела у тебя шли хорошо по молитвам святых и по наставлениям Избранной рады, достойнейших советников твоих, и как потом, когда прельстили тебя жестокие и лукавые льстецы, губители и твои и отечества своего, как и что случилось: и какие язвы были богом посланы — говорю я о голоде и стрелах, летящих по ветру, а напоследок и о мече варварском, отомстителе за поругание закона божьего, и внезапное сожжение славного града Москвы, и опустошение всей земли Русской, и, что всего горше и позорнее, царской души падение, и позорное бегство войск царских, прежде бывших храбрыми; как некие здесь нам говорят — будто бы тогда, хоронясь от татар по лесам, с кромешниками своими, едва и ты от голода не погиб! А прежде тот измаильский пес, когда ты богоугодно царствовал, от нас, ничтожнейших твоих, в поле диком бегая, места не находил и вместо нынешних великих и тяжелых даней твоих, которыми ты наводишь его на христианскую кровь, выплачивая дань ему саблями нашими — воинов твоих, была дань басурманским головам заплачена. А то, что ты пишешь, именуя нас изменниками, ибо мы были принуждены тобой поневоле крест целовать, так как там есть у вас обычай, если кто не присягает, то умрет страшной смертью, на это все тебе ответ мой: все мудрые с тем согласны, что если кто-либо по принуждению присягает или клянется, то не тому зачтется грех, кто крест целует, но всего более тому, кто принуждает. Разве и гонений не было? Если же кто не спасается от жестокого преследования, то сам себе убийца, идущий против слова господня: «Если преследуют вас в городе, идите в другой». А пример этому показал господь Христос, бог наш, нам, верным своим, ибо спасался не только от смерти, но и от преследования богоборцев-евреев. 11 А то, что ты сказал, будто бы я, разгневавшись на человека, поднял руку на бога, а именно церкви божьи разорил и пожег, на это отвечаю: или на нас понапрасну не клевещи, или выскобли, царь, эти слова, ибо и Давид принужден был из-за преследований Саула идти войной на землю Израилеву вместе с царем язычников. Я же исполнял волю не языческих, а христианских царей, по их воле и ходил. Но каюсь в грехе своем, что принужден был по твоему повелению сжечь большой город Витебск и в нем 24 церкви христианские. Так же и по воле короля Сигизмунда-Августа должен был разорить Луцкую волость. И там мы строго следили вместе с Корецким князем, чтобы неверные церквей божьих не жгли и не разоряли. И воистину не смог из-за множества воинов уследить, ибо пятнадцать тысяч было тогда с нами воинов, среди которых было немало и варваров: измаильтян и других еретиков, обновителей древних ересей, врагов креста Христова; и без нашего ведома и в наше отсутствие нечестивые сожгли одну церковь с монастырем. И подтверждают это монаха, которые вызволены были нами из плена! А потом, около года спустя, главный враг твой — царь перекопский, присылал к королю, упрашивал его, а также и меня, чтобы пошли с ним на ту часть земли Русской, что под властью твоей. Я же, несмотря на повеление королевское, отказался: не захотел и подумать о таком безумии, чтобы пойти под басурманскими хоругвями на землю христианскую вместе с чужим царем безбожным. Потом и сам короля тому удивился и похвалил меня, что я не уподобился безумным, до меня решавшимся на подобное. А то, что ты питаешь, будто бы царевну твою околдовали и тебя с ней разлучили те прежденазванные мужи и я с ними, то я тебе за тех святых не отвечаю, ибо дела их вопиют, словно трубы, возглашая о святости их и добродетели. О себе же вкратце скажу тебе: хотя и весьма многогрешен и недостоин, но, однако, рожден от благородных родителей, из рода я великого князя Смоленского Федора Ростиславича, как и ты, великий царь, прекрасно знаешь из летописей русских, что князья того рода не привыкли тело собственное терзать и кровь братии своей пить, как у некоторых вошло в обычай: ибо первый дерзнул так сделать Юрий Московский, будучи в Орде, выступив против святого великого князя Михаила Тверского, а потом и прочие, чьи дела еще свежи в памяти и были на наших глазах. Что с Углицким сделано и что с Ярославичами и другими той же крови? И как весь их род уничтожен и истреблен? Это и слышать тяжело и ужасно. От сосцов материнских оторван, в мрачных темницах затворен и долгие годы находился в заточении, и тот внук вечно блаженный и боговенчанный! А та твоя царица мне, несчастному, близкая родственница, и убедишься в родстве нашем из написанного на той же странице. А о Владимире, брате своем, вспоминаешь, как будто бы его хотели возвести на престол, воистину об этом и не думал, ибо и недостоин был этого. А тогда я предугадал, что подумаешь ты обо мне, еще когда сестру мою силой от меня взял и отдал за того брата своего, или же, могу откровенно сказать со всей дерзостью, в тот ваш издавна кровопийственный род. А еще хвалишься повсеместно и гордишься, что будто бы силою животворящего креста лифляндцев окаянных поработил. Не знаю и не думаю, что в это можно было поверить: скорее, под сенью разбойничьих крестов! Еще когда король наш с престола своего не двинулся, а вся шляхта еще в домах своих пребывала, и все воинство королевское находилось подле короля, а уже кресты те во многих городах были подвергнуты некиим Жабкой, а в Кеси — стольном городе—латышами. И поэтому ясно, что не Христовы это кресты, а крест распятого разбойника, который несли перед ним. Гетманы польские и литовские еще и но начинали готовиться к походу на тебя, а твои окаянные воеводишки, а правильнее сказать — калики из-под сени этих крестов твоих выволакивались связанные, а здесь, на великом сейме, на котором бывает множество народа, подверглись всеобщим насмешкам и надругательствам, окаянные, к вечному и немалому позору твоему и всей святорусской земли, и на поношение народу — сынам русским. А то, что ты шипеть о Курлятеве, о Прозоровских и о Сицких, и не пойму, о каких узорочьях, о каком проклятии, и тут же припоминания деяния Крона и Афродиты, и стрелецких жен, то все это достойно осмеяния и подобно россказням пьяных баб, и на все это отвечать не требуется, как говорит премудрый Соломон: «Глупцу отвечать не подобает», поскольку уже всех тех вышеназванных, не только Прозоровских и Курлятевых, но и других многочисленных благородных мужей, поглотила лютость мучителей их, а вместо них остались калики, которых силишься ставить воеводами, и упрямо выступаешь против разума и. бога, а поэтому они вскоре вместе с городами исчезают, не только трепеща при виде единственного воина, но и пугаясь листка, носимого ветром, пропадают вместе с городами, как во Второзаконии пишет святой пророк Моисей: «Один из-за беззаконий ваших обратит в бегство тысячу, а два — десятки тысяч». А в том же послании напоминаешь, что на мое письмо уже отвечено, но и я давно уже на широковещательный лист твой написал ответ, но не смог послать из-за постыдного обычая тех земель, ибо затворил ты царство Русское, свободное естество человеческое, словно в адовой твердыне, и если кто из твоей земли поехал, следуя пророку, а чужие земли, как говорит Иисус Сирахов, ты такого называешь изменником, а если схватят его на границе, то казнишь страшной смертью. Так же и здесь, уподобившись тебе, жестоко поступают. И поэтому так долго не посылал тебе письма. А теперь как этот ответ на теперешнее твое послание, так и тот — на многословное послание твое предыдущее посылаю к высокому твоему высочеству. И если окажешься мудрым, да прочти их в тишине душевной и без гнева! И к тому же прошу тебя: не пытайся более писать чужим слугам, ибо и здесь умеют ответить, как сказал некий мудрец: «Захотел я сказать, да не хочешь услышать», то есть ответ на твои слова. А то, что пишешь ты, будто бы тебе не покорялся и хотел завладеть твоим государством, и называешь меня изменником и изгнанником, то все эти наветы оставляю без внимания из-за явного на меня твоего наговора или клеветы. Также и другие ответы оставляю, потому что можно было писать в ответ на твое послание, либо сократив то, что уже тебе написано, чтобы не явилось письмо мое варварским из-за многих лишних слов, 12 либо отдавшись на суд неподкупного судьи Христа, господа бога нашего, о чем я уже не раз напоминал тебе в прежних моих посланиях, поэтому же не хочу я, несчастный, перебраниваться с твоим царским величеством. А еще посылаю тебе две главы, выписанные из книги премудрого Цицерона, известнейшего римского советника, жившего еще в те времена, когда римляне владели всей вселенной. А писал он, отвечая недругам своим, которые укоряли его как изгнанника и изменника, подобно тому, как твое величество, не в силах сдержать ярости своего преследования, стреляет в пас, убогих, издалека огненными стрелами угроз своих понапрасну и попусту. Андрей Курбский, князь ковельский. Андрей Курбский Подобно тому как произведения Ивана Грозного, а главное, стиль его произведений освещаются его поведением, так и характер, стиль и идейная сторона произведений Курбского являются частью его биографии, его стремления найти свою «позицию» в жизни. Курбскому надо было оправдать себя в глазах общественного мнения России и в Польско-Литовском государстве, но прежде всего в собственных глазах. Основное в занимаемой Курбским «жизненной позиции» — не сколько поза правдолюбца перед своими читателями, сколько игра перед самим собой, стремление оправдать себя в своих собственных глазах. Князь Андрей Курбский, изменив родине и даже участвуя в дальнейшем в военных и дипломатических действиях против России, писал не столько для русского, польско-литовского и даже мирового общественного мнения, как это не без основания предполагает С. О. Шмидт сколько для самого себя. Его писания были самооправдательными документами, в которых он позировал перед другими, перед своими читателями, но прежде всего, как я уже сказал, перед собой. Он играл так же, как играл и Грозный. Различие заключалось не только в несходстве занятых ими позиций и даже попросту поз, сколько в разной степени талантливости обоих: Грозный был несомненно талантливее Курбского и соответственно более смел и оригинален в своих произведениях. Андрей Курбский был довольно плодовитым писателем. К сожалению, не все им написанное для распространения издано, а многое еще просто не атрибутировано или найдено. Среди наиболее известных его сочинений следует прежде всего упомянуть о его письмах царю Ивану Грозному. Своеобразным продолжением переписки Курбского с Грозным служит его «История о великом князе Московском», где в целом продолжаются те же темы и где Курбский уже обращается не только к Грозному, но и ко многим читателям в Польско-Литовском и Русском государствах. Известны несколько писем Курбского в ПсковскоПечерский монастырь. Писал Курбский и Константину Острожскому, и к Марку, ученику еретика Артемия, и к Кузьме Мамоничу, и к Кодияну Чапличю, и к пану Федору Бокею, и к княгине Чарторыйской, и многим другим. Переводил он Цицерона, Иоанна Златоуста, Дионисия Ареопагита, защищал в особых сочинениях православие в Литве от униатства, составлял богословские сочинения, но в нашем обзоре мы не можем всего этого касаться. Анализируя стиль сочинений Курбского, мы будем опираться только на его послания к Грозному и на непосредственно связанную с этими посланиями «Историю о великом князе Московском». Такое выделение только этой группы сочинений оправдывается тем, что стиль произведений Курбского постоянно менялся, а именно эти произведения отличаются наибольшей литературностью. Как человек, неоднократно менявший свое поведение, а вместе с тем и стиль своих произведений. Курбский был лишен строго творческой цельности . В известной мере он был «перевертнем», вынужденным приспособляться к меняющейся обстановке и даже изменять характер своего языка, системы аргументации и жизненной позиции. Стиль выделенных нами для анализа произведений Курбского в значительной мере определялся той позицией, которую он стремился занять по отношению к своим читателям: в одних случаях—по отношению к Грозному, в других — по отношению к его новым западнорусским читателям. По отношению к Грозному он стремился занять позу человека не только более высокого в моральном отношении, но и более образованного — человека утонченной западной культуры. Он упрекает Грозного не только в «варварстве», но и в литературной неумелости, необразованности и отсутствии литературного вкуса. Себя Курбский стремится изобразить человеком западной просвещенности. Он нарочито цитирует поэтому не только отцов церкви, но и античных авторов. В своем интереснейшем исследовании «А. Курбский и эпистолография его времени» Д. Фрейданк показал, что Андрей Курбский имел все основания противопоставлять свою осведомленность в эпистолографическом искусстве неискусности, с этой своей «западной» точки зрения, писаний Грозного. В своем Втором письме к Ивану Курбский очень ясно придерживается правил латинских риторик и эпистолографии гуманистического периода, хотя и далеко не всех. Основываясь на исследовании Л. Винничук, Д. Фрейданк пишет, что в Польше культура эпистолографии стояла ко времени приезда туда Андрея Курбского на довольно высоком уровне. Еще в 1485 г. Конрад Цельтис прочитал в Краковском университете первую лекцию по эпистолографии. С 1530 по 1538 г. руководство Эразма Роттердамского было официальным учебником по эпистолографии в Краковском университете. В 1538 г. там было введено изучение писем Цицерона. В отличие от средневековой эпистолографии, которая изучалась по преимуществу писцами и делопроизводителями, гуманисты считали искусство составления писем обязательным для каждого образованного человека. Одним из главных достоинств письма считалась его краткость (brevilo- quentia). Вот почему Курбский в своем Втором письме упрекал Грозного в том, что тот пишет ему «широковещательное и многошумящее» писание, недостойное не только «ученого и искусного мужа», но даже «простого, убогого воина». Не 13 следовало бы Грозному писать такие неискусные письма «в чюждую землю, иде же некоторые человецы обретаются, не токмо в грамматических и риторских, но и в диалектических и философских ученые» . Курбский пишет Грозному с «высот» своей новой образованности. Его позиция, которую он стремился занять в своих письмах по отношению к Грозному, — это позиция утонченного и вкусившего западной образованности интеллигента, поучающего грубого неуча. Важной задачей гуманистической эпистолографии, как указывает Д. Фрейданк, считалось разграничение различных типов писем. Значительная роль отводилась утешительным письмам. Поводом для утешительных писем могли служить смерть близких, горе, болезнь, несправедливое отношение, ссылка. Курбский чувствовал себя в «ссылке» — «без правды изгнанным» и поэтому, как это ни парадоксально, требовал от Грозного в чисто «теоретическом» эпистолографическом плане утешительного письма: «И вместо утешения, во скорбех мнозех бывшему, аки забыв и отступивши пророка — не оскорбляй, рече, мужа в беде его, довольно бо таковому, — яко твое величество меня, неповиннаго, в странстве таковыми, во утешения место, посещаешь». Согласно теории Эразма лучший утешитель — философия. Эразм ссылается в этом отношении на «Парадоксы» Цицерона, и характерно, что Курбский переводит «Парадоксы» Цицерона, находя в них при этом не только утешения, но и оправдания своему поведению. Было и еще нечто, очень характерное и чисто личное в позиции, которую занимал Курбский в своих зарубежных сочинениях: это «нечто» состояло в его типичной психологии эмигранта. В различных своих сочинениях, обращаясь к своим западным читателям, Курбский неизменно стремится подчеркнуть знатность своего рода, свое былое высокое положение в Русском государстве, свое большое прошлое влияние на Грозного, свою значительную роль в военной истории царствования Грозного — особенно в завоевании Казани. Отчасти этим объясняется стремление Курбского разграничить всю историю царствования Ивана на две половины: первую, в которой Грозный прислушивался к мнению своих добрых советников и в том числе Курбского, и вторую, в которой Иван отринул от себя всех добрых советников, стал слушаться злых «ласкателей». Такое изображение царствования Грозного позволяло Курбскому оправдать свое прошлое влиятельное положение в Московском государстве, свои боевые подвиги при взятии Казани и свое сравнительно позднее решение уйти от Грозного в Польско-Литовское государство. Изображая этот перелом в Грозном к злу и злодеяниям, Курбский выставлял на первый план свою принципиальность, морально обелял себя в глазах своих западных читателей, оправдывая свою былую близость к Ивану, и вместе с тем подчеркивал и даже преувеличивал свою весомость в Московском государстве, пока оно еще не озарилось пожаром лютости. Курбский как бы заявлял таким изображением событий царствования Грозного, что он-то был всегда неизменен, всегда — самим собой, менялся же только Грозный, его поведение, и тем самым именно на Грозном лежит ответственность за «отъезд» Курбского из России. Эта «концепция» изложена Курбским в первых же строках его Первого послания к Грозному. Оно открывается следующим обращением к Грозному: «Царю, от бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся». По мере того как Курбский осваивался со своею новою родиною, он в своем Третьем послании к Грозному пишет уже о России как о посторонней для него стране: «тамо есть у вас обычай», а в приписке к посланию прямо называет Россию «отечеством твоим» (т. е. Грозного), а не своим. Характерны в этом отношении и перемены, которые происходили в языке его произведений. <...>Вступив в полемику с Грозным, Курбский быстро потерял вкус к этой своей переписке с царем и больше был занят желанием сохранить позу благородства перед своими новыми читателями. Для этого, очевидно, он и предпринимает (не ранее 1573 г.) свою «Историю о великом князе Московском». В первых же строках своей «Истории» он пишет: «Много крат ото многих светлых мужей вопрошаем бых, с великим стужанием; „Откуды сия приключишася…"» Спрашивать так могли только «светлые мужи», общавшиеся с ним в Литве. Следовательно, и писал он свою «Историю» для них же. Великорусская речь стала в это время для него уже языком чужим — «их языком», языком московитов. Чтобы быть понятным своему читателю в Польско-Литовском государстве, Курбский приводил всю государственную и социальную терминологию на языке его новой страны: название чинов, положений, военные термины он брал из языка своей новой родины, изредка давая к ним и их русский эквивалент. При этом он до такой степени считал уже московскую терминологию чужой себе, что говорил о ней как о посторонней: «велицые гордые паны, по их языку боярове» — это он пишет о боярах, к которым когда-то принадлежал и сам. «С стремнин высоких мечюще их (животных. — Д. Л.), а по их языку крылец, або с теремов»: здесь уже прямо имеется в виду русский язык. В другом месте он называет войска правого фланга: «правый рог, а по их правая рука». «Знамение, а по их языку ясак». Пытаясь быть понятным на своей новой родине, он сравнивает Казань по величине с Вильной: «А место (город. — Д. Л.) оно не мало, мало что от Виленского мнейше». Как полемист Курбский - историк, а как историк — полемист, он стремится размышлять и захватывать как можно глубже самую суть описываемых им событий и явлений. В своей «Истории о великом князе Московском», где он пытается представить Ивана IV в самом черном свете, он прибегает к полемическому приему, в силу которого основной тезис считается как бы само собой разумеющимся, давно доказанным, и Курбский только объясняет — почему так произошло, откуда явилась на Руси тирания Грозного, из каких обстоятельств жизни Грозного она выросла. <. >Обращаясь к злодеяниям Грозного, Курбский пытается снова изложить свою теорию их происхождения. Грозный сменил советников: вместо советников умных и нелицеприятных он приблизил «ласкателей» таких, как Вассиан Топорков — олицетворение «лютости». Этой концепции он придерживался и в своих посланиях Грозному. Он поэтому во многом повторяет то, о чем уже писал ему, и вот теперь, еще раз 14 отступая от повествования о Грозном и его царствовании, обращается к жанру посланий. Он как бы на время забывает о своем западнорусском читателе и пишет как бы еще одно послание царю. Через некоторое время он снова обращается к царю, полемизируя с ним и разоблачая его. Он вспоминает свою былую роль доброго и прямодушного советника. Эта роль, о которой он неоднократно вспоминает на протяжении всей 28 истории, была морально выгодна ему и перед западнорусским читателем. Он обращается к Грозному, но пишет для западнорусских читателей. Это чисто риторический прием. Прием, усиливающий впечатление от злодеяний Грозного и вместе с тем напоминающий читателю, что перед ним «прямодушный» советник. <...>Курбский был несомненным мастером находить нужные слова и определения. Так, например, он назвал Первое послание Грозного к нему «широковещательным и многошумящим», и это выражение осталось в науке для определения стиля Первого послания к нему Грозного. А выражение «паремьями, целыми посланьми» осталось в русском языке для определения манеры давать большие цитаты из авторитетных сочинений. Именно Курбский назвал манеру Грозного «грызти кусательне», а слова его — «кусательными словесами». И это также перешло у исследователей в определение стиля Грозного как «кусательного» (А. С. Орлов и др.). Популярными стали и слова Курбского о том, что Грозный «затворил. . . царство Руское. . . аки во адове твердыни». Многие образы Курбского были им глубоко продуманы и поэтому неоднократно им повторялись. Так, в «Истории о великом князе Московском» он сравнивает мудрых советников с хирургами, срезающими дикое мясо и «согнившие гагрины» на ранах больного тиранией государства. Тот же образ он применил перед тем в своем Третьем послании к Грозному: добрых советников, не боящихся вызвать неудовольствие своих властителей, Курбский сравнивает с премудрыми врачами, которые срезают разросшееся на ранах дикое мясо «аж до живого мяса». Курбский был мастером ритмизованной прозы с синтаксически параллельно построенными фразами, с единоначатиями, противопоставлениями, риторическими вопросами и т. д. Например: избиенные тобою… отмщение на тя просят; зареченные же и прогнанные… ко богу вопием; или не токмо внешней философии искусны, но и во священных писаниях сильны; или ово преизлишне уничижаешися, ово преизобильне и паче меры возносишися; или: почто…. сильных во Израили побил еси и воевод… вмертем предал еси? <.>Произведения Курбского стали хорошо известными в Московской Руси только в XVII в. Однако они являлись важными свидетельствами возможных и готовящихся перемен в литературе древней Руси, которые либо уже совершались, либо должны были произойти в литературе древней Руси по всему ее фронту. Из этих перемен главное заключалось в том, что литературные произведения приобретали все более и более личностный характер. В период Смутного времени этот личностный и мемуарный характер произведений, посвященных одной группе событий, одному лицу или одному периоду русской истории, выступят в дальнейшем с достаточной определенностью. Александр Герцен Герцен Александр Иванович, псевдоним - Искандер [25.III (6.IV). 1812, Москва -- 9(21). 1.1870, Париж] прозаик, публицист, революционный деятель. Герцен был сыном И А. Яковлева, принадлежавшего к, знатному дворянскому роду, и Г.А. Гааг, дочери мелкого чиновника из Штутгарта. Брак родителей оформлен не был, и ребенок, получил вымышленную фамилию (от нем Herz). Герцен считался воспитанником Яковлева. Это обстоятельство надолго окрашивает его чувство к, отцу, вызывая протест против "ложного" положения, усиливая симпатии ко всем угнетенным и одновременно рождая сознание независимости. Между тем Яковлев любил сына, его по-своему незаурядная личность сказалась на характере развития Герцена. Служивший в гвардии при Екатерине II и вышедший в отставку с началом царствования Павла Яковлев отличался вольномыслием и чуждался официальных форм жизни. В доме бывали его сослуживцы по Измайловскому полку ("екатерининские оригинальности"), участники войны 1812 г. ("отваги и удали люди"). Среди учителей Герцен был якобинец 1789 г., эмигрант Бушо и студент И Е. Протопопов, приносивший запрещенные стихи Пушкина и Рылеева. Большие возможности для чтения давала собранная во Франции библиотека. В результате "Катехизис попался в руки после Вольтера" (Собр. соч.: В 30 т.- Т. VIII.- С. 53). Герцен читает Руссо,, Бомарше, Гете, затем Плутарха, Шиллера и Байрона. "Восторг ' и "восхищение" вызывают первая гмва "Евгения Онегина" Пушкина и "Горе от ума" Грибоедова. В 14 лет Герцен совершает выбор на всю жизнь, поклявшись отомстить за казненных декабристов. Через год клятва бьл,а повторена вместе с другом - И. П. Огаревым - "в виду всей Москвы", на Воробьевых горах на том месте, где был заложен памятник, в честь победы русского народа в войне 1812 г. Дружба Герцена и Огарева, пронесенная через всю жизнь, принадлежит истории русского революционного движения и является средоточием высоких нравственных ценностей. Юные друзья осознавали в себе будущее России Они мечтали о союзе, который продолжил бы дело декабристов. В 1829 г. Герцен поступил в Московский университет на физико- математическое отделение, где тогда преподавались естественные науки (к, ним у Герцена развилась "сильная страсть"). Герцен сотрудничает в Московском обществе испытателей природы. В 1832 г. написал статью "О месте человека и природе". Овмдевая научной "методой", Герцен особенно ценит лекции М Г. Павм>ва (курс общей физики), знакомившие с новейшими философскими системами. Московский университет этих лет отличался духом вольнолюбия. Вокруг Герцена и Огарева, также посещавшего лекции в университете, складывается кружоксярко выраженными политическими интересами. Падение 15 июльской монархии во франции в 1830 г. и польское восстание 30 1830-1831 гг. Герцен воспринимает как^непосредственно относящиеся к,его личной судьбе. Герцен окончил университет в июне 1833 г. со степенью кандидата, получив серебряную медаль за сочинение "Аналитическое изложение солнечной системы Коперника" (труд "наполовину астрономический, наполовину философский). Первый послеуниверситетский год отмечен углубленным интересом Герцена и его кружка к, идеям утопического социализма (Сен-Симон, Фурье). В круге интересов Герцена - труды Шеллинга, Аерминье, фихте, Бэкона, Кузена, исторические работы ММишле, Тьерри, Бюше. 1833 г. Герцен считал торжественным заключением первой юности. < . . . > В 40 гг. (1842-1847) достигает расцвета философская деятельность Герцена. Он завершает и публикует в "Отечественных, записках"' начатый еще в Новгороде цикл статей "Дилетантизм в науке" (1842-1843). Герцен развивает гегелевские идеи о единых, закономерностяхбытия и мышления. Особенно дорога ему идея борьбы и единства противоположностей в процессе развития природы и истории. Герцен подчеркивает, что подлинно современный человек не может жить вне науки. Однако наука не может быть целью человека, цель его - деяние. Герцен высказывает надежду, что именно русская мысль достигнет "действительного единства науки и жизни, слова и дела". Во второй статье цикла ("Дилетанты-романтики") сконцентрированы эстетические воззрения Герцена. Он излагает концепцию исторических типов мировоззрения от античности до XIX в. Равно обращаясь к, мыслителям и поэтам, впервые в истории русской общественной мысли он столь глубоко раскрывает философское содержание искусства. "Совершеннолетию" человечества, по его мнению, адекватен "реализм" как мировоззрение и метод познания действительности как основа построения нового мира. Второй философский цикл Герцена, "Письма об изучении природы" (1844-1846), занимает выдающееся место в истории не только русской, но и мировой философской мысли. Одна из главных идей работы необходимость преодолеть исторически сложившийся разрыв естествоведения и философии. Герцен дает материалистическое прочтение гегелевской диалектики, рассматривая ее как закон существования и развития самой природы, и тем самым делает значительный шаг к соединению материализма и диалектики. Он пытается применить диалектику и к^философии истории. Однако в своей философско-исторической концепции он останавливается перед историческим материализмом философские произведения Герцена сыграли выдающуюся роль в воспитании поколения демократической интеллигенции второго этапа освободительного движения в России. Их высоко ценил Н Г. Чернышевский. Рост философской мъсли Герцена способствовал развитию его художественного таланта, выявлению его оригинальности. В 1845 г. был завершен начатый еще в 1841 г. в Новгороде роман "Кто виноват?" (Отечественные записки..- 1845.- No 12; 1846.- No 4; отд. изд. в 1847 г.). В 1846 г. написаны повести "Сорока-воровка" (,Современник 1848.- No 2), после двух, лет цензурных мытарств и "Доктор Крупов" (Современник.- 1847.- No 9). Вопрос: кто виноват в трагической судьбе одних и моральном уродстве других? - революционизировал общественное сознание. Он в равной мере звучит во всех трех произведениях В "Докторе Крупове" заключена революционно- просветительская идея о нелепости политического гнета и социальной несправедливости, о всеобщем заблуждении, мешающем это понять. Повесть "Сорока-воровка" явилась откликом Герцена на споры между западниками и славянофилами о положении русской женщины, о возможности существования в России гениальной актрисы Героиня повести, крепостная актриса,- человек, огромной духовной силы, источник которой и в гордом протесте против рабства, и в сознании своего таланта. < . . . > 2 1 января 1847 г. Герцен с семьей уезжает за границу, не предполагая еще, что покидает родину навсегда. Он полон веры в будущее, в свои силы и надеется, что грядущая революция принесет социальное освобождение народам Европы и явится началом освобождения его родины. "Письма из Avenue MMargny" (Современник.- 1847.- No 10-11) содержат анализ положения в предреволюционной и революционной франции. С симпатией Герцен рассказывает о французском народе. Он разоблачает буржуазную мораль, буржуазное искусство, буржуазную прессу. Критический пафос Герцена отталкивает от него большинство западников. Лишь Белинский поддерживает его, хотя и не соглашается с ним в определении исторической роли буржуазии Осенью 1847 г. в Риме Герцен участвует в народных шествиях и манифестациях присутствует на митингах посещает революционные клубы Он знакомится с виднейшими деятелями итальянского национально- освободительного движения: Чичеровакккио, Маццини, Гарибальди, Пизакане, Спини Близким другом Герцена становится Саффи Свои впечатления об Италии Герцен передает в "Письмах с Via deC Corso" (1847), которые в России, однако, цензурой пропущены не были: в ответ на революционные события в Европе там начиналась общественная реакция. Оба цикла вошли в знаменитую книгу Герцена "Письма из франции и Италии" (1847-1852). В мае 1848 г. Герцен возвратился в революционный Париж. Крах иллюзий в буржуазной республике с наибольшей очевидностью обнаруживается в июньские дни 1848 г., когда "озлобленные, взбесившиеся лавочники", одетые в мундиры Национальной гвардии, топили в крови парижских рабочих шедших до конца в своих социальных требованиях Герцен расходится с представителями буржуазной демократии, которые продолжают питать иллюзии в отношении характера революции и республики, и надолго теряет веру в революционный Запад. Переживаемая Герценом духовная драма запечатлена в книге "Стого берега" (1847-1850; впервые опубликована в 1850 г. в немецком переводе), которую Герцен считал лучшим произведением из всего им написанного. Диалогическая форма книги воссоздает 16 сложный, подчас мучительный процесс расставания с иллюзиями и направление дальнейших поисков истины. Важнейшие выводы Герцена: человек- "не самовластный хозяин" в истории; "законы исторического развития... не совпадают в своих путях с путями мысли"; необходимо серьезно заняться историей "как действительно объективной наукой". Герцен считал себя ответственным за будущее России. На первом этапе своей заграничной деятельности Герцен считает необходимым "знакомить Европу с Русью", с ее подлинной историей, "скрываемой за фасадом империи". В книге "О развитии революционных идей в России" (впервые опубл. в 1851 г. на немецком языке; в том же году издан французский оригинал; в русском переводе вышла нелегально в Москве в 1861 г.) Герцен рассказывает о русском народе, его борьбе против рабства, о передовой общественной мысли России, о русской литературе, защищающей интересы народа ("единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести"). Герцен впервые рассматривает историю русской литературы в ее связи с освободительным движением Одновременно он разрабатывает теорию "русского социализма", которая станет идеологической основой народничества 60-70 гг. Этому посвящены его работы "Россия" (1849), "Письмо русского к,Маццини" (1850), "Русский народ и социализм" (1851) Г. полагает, что в России, где буржуазно-собственнические отношения не получили развития, социалистические идеи смогут быть осуществлены легче, чем в Западной Европе. В общинной собственности на землю он усматривает "зародыш социализма". Развитие его возможно лишь при условии совершенствования общинного самоуправления и полной свободы лица, т. е. при ликвидации самодержавно-крепостнического строя. Герцен надеялся в то время, что Россия может миновать буржуазный путь развития. Социалистический идеал Герцена, оставаясь утопическим, становится выражением революционных требований русского крестьянства. В 1853 г. Герцен основывает Вольную русскую типографию в Аондоне. Это "лучшее дело" своей жизни Г. назовет "наиболее практически революционным, какое русский может сегодня предпринять в ожидании исполнения иных, лучших дел" (XII, 79). Первая прокламация "Юрьев день! Юрьев день!" была обращена к русскому дворянству, на образованное меньшинство которого Герцен еще возлагает надежды. Блестящим образцом антикрепостнической публицистики, является брошюра "Крещеная собственность" f1853). В 1855 г. Герцен начал издавать альманах "Полярная звезда" (название повторяет издание Рылеева и Бестужева; на обложке - профили пяти казненных декабристов). Здесь были опубликованы "Путешествие из Петербурга в Москву" Радищева, запрещенные стихи, Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Полежаева, первое "философическое письмо" Чаадаева, знаменитое письмо Белинского к Гоголю, печатались произведения Герцена и Огарева, "Записки" декабристов, русские мемуарыXVIII в. и др. мемуарные материалы. 1 июля 1857 г. (вскоре после приезда в Лондон Огарева) вышел первый лист газеты "Колокол", ставившей главной задачей борьбу за освобождение крестьян. Вскоре в "Колокол" стали поступать корреспонденции из России. Газета, тайно перевозимая в Россию и все более широко распространявшаяся там, стала одним из факторов складывающейся революционной ситуации 1859-1861 гг. "Мы крик русского народа, битого полицией, засекаемого помещиком",- писал Герцен. Однако обличительная мощь "Колокола" вступала в противоречие с сохранявшейся у Герцена надеждой на освобождение крестьян сверху и его обращениями к Александру II. Либеральные колебания Герцена вызвали критику со стороны руководителей революционно-демократического движения в России. Для объяснения с Герценом в Лондон в 1859 г. приезжал Чернышевский. В "Колокол" было адресовано "Письмо из провинции" за подписью Русский человек (опубл 1 марта 1860 г.), побуждающее Герцена открыто призывать к, революционной борьбе. В русле этих противоречий и полемика Герцен с Добролюбовым по вопросам о значении обличительной литературы в России и месте "лишнихлюдей" в общественной жизни и литературе (статьи Г. "Very Dangerous!!!" и "Лишние люди и желчевики). 1861 г., вершина революционной ситуации в России, стал решающим в преодолении Герценом либеральныхиллюзий. Восстания в селах Бездна и Кандеевка, выявившие отношение крестьянства креформе, заставили Герцена по-иному взглянуть на родную страну. увидев революционный народ, Герцен непосредственно обращается кинему в своих памфлетах "Двенадцатое апреля 1861 г. (Апраксинские убийства)", "Мартиролог крестьян", "Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ". В своей публицистике и "Былом и думах" Герцен приветствует в разночинной интеллигенции "молодых штурманов будущей бури" (XI, 341) Герцен участвует в создании и деятельности "Земли и воли", крупнейшей революционной организации 60 гг. Исключительное значение для морального авторитета русской общественной мысли и революционного движения имела поддержка "Колоколом" польского восстания 1863 г. Посвященные Польше публикацииГерценав "Колоколе""Плач", "Протест", "1863", "Братская просьба к,русским воинам") остаются лучшими страницами русской публицистики. Наступившая в России общественная и политическая реакция, разгул шовинистической и антидемократической пропаганды, арест руководителей революционного лагеря не могли не отозваться на судьбе "Колокола". Его популярность в России падает. Герцен и Огарев тем не менее продолжают издание. В 1865 г. Вольная русская типография была переведена в Женеву, ставшую центром русской революционной эмиграции. В 1867 г. Герцен прекращает издание 'Колокола" (еще год газета издавалась на фр. яз. с русскими прибавлениями). Он полагал, что "Колокол" сыграл свою роль в истории освободительного движения России. Своей гмвной задачей 17 теперь Герцен считал разработку революционной теории. Новый этап развития теоретической мысли Герцен находит отражение в опубликованных уже посмертно письмах "К старому товарищу" (1869). В "международных работничьих съездах"' (конгрессы 1 Интернационала) Герцен усматривает "первую сеть и первый всход будущего экономического устройства" (XX, 582). Выступая против анархизма Бакунина, Герцен настаивает на необходимости глубокого теоретического обоснования грядущего социального переворота. Он должен быть результатом сознательного исторического действия масс. Только при этом условии возможно сохранение материальных и духовных ценностей культуры ("Горе бедному духом и тощему художественным, смыслом перевороту"). Утверждая идею творческого характера социализма, Герцен предостерегает от опасности, таящейся в идеях "казарменного коммунизма" ("каторжное равенство" Гракха Бабёфа и "коммунистическая барщина" Кабе). Смерть оборвала несомненное начало нового этапа в жизни Герцена. Весной 1869 г., после нескольких лет скитаний по Европе, он решил обосноваться в Париже, чувствуя там "электрическую атмосферу", близкую к, грозе. 21 октября 1869 г. он писал Огареву: "Мы бродим на вулкане... Через три месяца Герцена не стало. Он был похоронен на кладбище Пер-Аашез; позже прах Герцена был перенесен в Ниццу и погребен рядом с могилой его жены Место Герцена в истории русской литературы определяется прежде всего своеобразием и масштабом идейных исканий писателя. В его личности и судьбе, в обретенном им реальном историческом деле нашла воплощение живая связь важнейших эпох русской и европейской жизни XIX столетия. Герцен высказывал неудовлетворенность известными ему литературными типами. Он проявлял особый интерес к людям, обладающим известной независимостью от среды, таящим возможности роста, не останавливающимся в своем идейном развитии и потому не поддающимся общим ("гуртовым") социальным, определениям Тем самым, он обосновывал и свое преимущественное внимание креальнымлицам и событиям, и свое право на автобиографию. Автобиографические и документальные жанры мы находим у истоков творческого пути Герцена. Вершиной его творчества стала мемуарно-автобиографическая книга "Былое и думы". Творческие открытия Герцена следует рассматривать в русле исканий русской литературы второй половины XIX в. ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО Повесть «Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год священного долга моего и не принес бы вашему превосходительству наиусерднейшего поздравления с наступающим высокоторжественным праздником». I ЗА ВОРОТАМИ Сыну Михайла Степановича Столыгина было лет четырнадцать... но с этого начать невозможно; для того, чтоб принять участие в сыне, надобно узнать отца, надобно сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных. Мне даже хотелось бы основательно познакомить читателей моих с ним, но не знаю, как лучше приняться. Мне приходило в голову начать с исторических преданий их знаменитого рода. Я хотел слегка упомянуть, как Трифон Столыгин успел в две недели три раза присягнуть: раз Владиславу, раз Тушинскому вору, раз не помню кому — и всем изменил; я хотел описать их богатые достояния, их села, в которых церкви были пышно украшены благочестивыми и смиренными приношениями помещиков, повидимому, не столь смиренных в светских отношениях, что доказывали полуразвалившиеся, кривые, худокрытые и подпертые шестами избы; но, боясь утомить внимание ваше, я скромно решаюсь начать не дальше, как за воротами большого московского дома Михайла Степановича Столыгина, что на Яузе. Ограда около дома каменная, вороты толстого дерева, с одной стороны калитка истинная, с другой ложная, для симметрии, в ней вставлена доска, на доске сидит обтерханный старик, повидимому, нищий. Старик этот, впрочем, не был нищий, а дворник Михайла Степановича. Пятьдесят второй год пошел с тех пор, как красивый русый юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота с метлою в руках и горькими слезами на глазах. Дядя Михайло Степановича, объезжая свои поместья, привез его из Симбирска, не потому что ему особенно нужен был мальчик, а так, ему понравился добрый вид Ефимки, он и решился устроить его судьбу. Устроил он ее прочно, как видите, Ефимка мел юношей, мел с пробивающимся усом, мел с обкладистой бородой, мел с проседью, мел совсем седой и теперь метет с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят. Одно сберег он от юности — название Ефимки; впрочем, страннее этого патриархального названия было то, что он действительно не развился в Ефимы. По мере того как он свыкался с своей одинокой жизнию, по мере того как страсть к двору и к улице у него делалась сильнее и доходила до того, что он вставал раза два-три ночью и осматривал двор с пытливым любопытством собаки, несмотря на то, что вороты были заперты и две настоящие собаки спущены с цепи — в нем пропадала и живость и развязность, круг его понятий становится уже и уже, мысли смутнее, тусклее. Раз, лет за двадцать до нашего рассказа, ему взошла в голову дурь — жениться на кучеровой дочери; она была и непрочь, но барин сказал, что это вздор, что он с ума сошел, с какой стати ему жениться — тем дело и кончилось. Ефимка потосковал, никому не говорил о том ни слова и 18 стал попивать. К старости он сделался кротким, тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, чтоб он мел улицу перед лавочкой. Других сильных страстей у него не было, если мы не примем за страсть его безусловной послушливости всем, кто хотел приказывать, и безграничного страха перед Михайлом Степановичем. Нельзя сказать, чтобы сношения Ефимки с Михайлом Степановичем были особенно часты или важны; они ограничивались строгими выговорами, сопряженными с сильными угрозами за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гниют, за то, что за них зацепляются телеги и сани; Ефимка чувствовал свою вину и со вздохом поминал то блаженное время, когда улиц не мостили и тротуаров не чинили по очень простой причине, потому что их не было. Сношение другого рода, более приятное и торжественное, повторялось всякий год один раз. В светлое воскресение вся дворня приходила христосоваться с барином. Причем Михайло Степанович, обыкновенно угрюмый и раздраженный, менял гнев на милость и дарил своих слуг ласковым словом — отчасти в предупреждение других подарков. «А помнишь,— говорил ежегодно Михайло Степанович Ефимке, обтирая губы после христосования,— помнишь, как ты меня возил на салазках и делал снеговую гору?» Сердце прыгало от радости у старика при этих словах, и он торопился отвечать: «Как же, батюшка, кормилец ты наш, мне-то не помнить, оно ведь еще при покойном дядюшке вашей милости, при Льве Степановиче, было, помню, вот словно вчера». — «Ну, оно вчера не вчера, — прибавлял Михайло Степанович, улыбаясь, — а небось пятой десяток есть. Смотри же, Ефимка, праздник праздником, а улицу мети, да пьяных много теперь шляется, так ты, как смеркнется, вороты и запри. Что, не крадут ли булыжник?» — «Словно глаз свой берегу, батюшка, и ночью выхожу раз-другой поглядеть», отвечал дворник — и барин давал знак, чтоб он шел с красным яйцом, данным ему на обмен. Этим периодическим разговором ограничивались личные сношения двух ровесников, живших лет пятьдесят под одной крышей. Ефимка бывал очень доволен аристократическими воспоминаниями и обыкновенно вечером в первый праздник, не совсем трезвый, рассказывал кому- нибудь в грязной и душной кучерской, как было дело, прибавляя: «Ведь подумаешь, какая память у Михайла- то Степановича, помнит что — а ведь это сущая правда, бывало меня заложит в салазки, а я вожу, а он- то знай кнутиком погоняет — ей-богу — а сколько годов, подумаешь» и он, качая головою, развязывал онучи и засыпал на печи, подложивши свой армяк (постели он еще не успел завести в полвека), думая, вероятно, о суете жизни человеческой и о прочности некоторых общественных положений, например, дворников. Итак, Ефимка сидел у ворот. Сначала он медленно, больше из удовольствия, нежели для пользы, подгонял грязную воду в канавке метлой, потом понюхал табаку, посидел, посмотрел и задремал. Вероятно, он довольно долго бы проспал в товариществе дворной собаки плебейского происхождения, черной с белыми пятнами, длинною жесткою шерстью и изгрызенным ухом, которого сторонки она приподнимала врозь, чтоб сгонять мух, если бы их обоих не разбудила женщина средних лет. Женщина эта, тщательно закутанная, в шляпке с опущенным вуалем, давно показалась на улице; она медленно шла по противуположному тротуару и с беспокойным вниманием смотрела, что делается на дворе Столыгина. На дворе все было тихо, казачок в сенях пощелкивал орехи, кучер возле сарая чистил хомут и курил из крошечного чубука, однако, и этого довольно было, чтоб отстращать ее; она прошла мимо и через четверть часа явилась на том тротуаре, на котором спал Ефим. Собака заворчала было, но вдруг бросилась со всеми собачьими изъявлениями радости к женщине; она испугалась ее ласк и отошла как можно скорее. Осмотревши еще раз, что делается на дворе, она решилась подойти к Ефиму и назвать его. — Ась, — пробормотал Ефим, — чего вам? Он не был так счастлив, как его приятель с раздвоенным ухом, и не узнал, кто с ними говорит. — Ефимушка, — продолжала незнакомка, — вызови сюда Кирилловну. — Настасью Кирилловну, а на что вам ее? — спросил дворник, что- то запинаясь. — Да ты меня разве не узнаешь? — Ах ты мать, пресвятая богородица, — отвечал старик и вскочил с лавки, — глаза-то какие стали, матушка... эк я кого не спознал, простите, матушка, из ума выжил на старости лет, так уж никуда не гожусь. — Послушай, Ефим, мне некогда, коли можно, вызови Настасью. — Слушаю, матушка, слушаю, отчего же нельзя, — оно все можно, я сейчас для тебя-то сбегал бы, — вот, мать ты моя родная, — и старик чесал пожелтелые волосы свои, — да как бы, то есть Тит-то Трофимыч не сведал? — Женщина смотрела на него с состраданием я молчала; старик продолжал: — Боюсь, ох боюсь, матушка, кости старые, лета какие, а ведь у нас кучер Ненподист, не приведи господь, какая тяжелая рука, так в конюшне богу душу и отдашь, христианский долг не исполнишь. Старик еще не кончил своей речи, как из ворот выскочила старушонка, худощавая, подслепая, вся в морщинах, с седыми волосами. — Ах, матушка, не извольте слушать, что вам старый сыч этот напевает, пожалуйте ко мне, я проведу вас,—ведь из окна, матушка, узнала, походку-то вашу узнала, так сердце-то и забилось, ах, мол наша барыня идет, шепчу я сама себе, да, на половину к Анатолию Михайловичу бегу, а тут попался казачок Ванюшка, преядовитой у нас такой шпионишка мерзкой; что, спросила я, барин-то спит? — Спит еще — чтоб ему тут, право не при вас будь сказано. Все это она так проворно говорила с пресильной мимикой, что Марья Валериановна не успела раскрыть рта и, наконец уж, перебила ее вопросом: — Настасьюшка, да здоров ли он? 19 — Ничего, матушка, ну только худенькой такой. Какое и житье- то! Ведь аспид-то наш на то и взял их, чтоб было над кем зло изливать, человеконенавистник, ржа, которая, на что железо, и то поедом ест. У Натоль же Михайловича, изволите знать, какой нрав, весь в маменьку, не то, что наше холопское дело, выйдешь за дверь да самого обругаешь вдвое, прости господи, ну, а они все к сердцу принимают. Марья Валериановна утерла наскоро слезу и шепнула: — Пойдем же, Настасьюшка. Настасья строго-настрого наказала Ефимке, если Тит подошлет казачка спросить, с кем она говорила за воротами и с кем взошла, сказать со швеей, мол, с Ольгой Петровной, что живет у Покровских ворот. После этого она повела Марью Валериановну через двор на заднее крыльцо, потом по темной лестнице, которую вряд ли мели когда-нибудь после отстройки дома. Лестница эта шла в маленькую каморку, отведенную Настасье; эта каморка была цель ее желаний, предмет домогательств ее в продолжение пятнадцати лет. Ни у кого в доме не было особой комнаты, кроме у Тита. Михайло Степанович, наконец, дозволил занять ее, с условием не считать ее своею никогда в ней не сидеть, а так покамест положить свои пожитки. В этой маленькой комнате стоял небольшой деревянный стол, окрашенный временем, на нем покоился покрытый полотенцем самовар в соседстве чайника и двух опрокинутых чашек. На стене висели две головки, рисованные черным карандашом; одна изображала поврежденную женщину, которая смотрела из картины, страшно вытаращив глаза, вместо кудрей у нее были черви — должно думать, что цель была представить Медузу. Другая представляла какого- то жандарма в каске, вероятно, выходившего из воды, судя по голому плечу, лицо у него было отвратительно правильно, нос вроде ионийской колонны, опрокинутой волютами вниз, голову он держал крепко на сторону; разумеется, этот жандарм был Александр Македонский. Но перед этими картинами, нарисованными детской рукой, остановилась Марья Валериановна и не могла более удерживаться. Она закрыла глаза платком, и Настасья плакала от всей души, приговаривая: «Да это он, мой голубчик, в именины подарил». — Ну, как кто взойдет сюда, Настасьюшка, что тогда делать? — Не извольте беспокоиться, матушка, фискала-то нашего дома нет. Вишь, староста приехал, да обоз с дровами, что ли, пришел, так он и пошел в трактир принимать; самый вредный человек и преалчной, никакой совести нет, чаю пары две выпьет с французской водкой как следует, да потребует бутылку белого, рыбы, икры; как чрево выносит, небось, седьмой десяток живет, да ведь что, матушка, какой неочестливой, и сына-то своего приведет, и того угощай. Ну, да он угодит еще под красную шапку, сын-то, озорник. Покуда старой-то пес жив, так все шито и крыто, а как бог по душу пошлет, мы все выведем: и как синенькая у кучера пропала... Длинная речь in Titum осталась неоконченной, молодой человек лет тринадцати, стройный, милый и бледный от внутреннего движения, бросился, не говоря ни слова, на шею Марьи Валериановны и спрятал голову на ее груди; она гладила его волосы, смеялась, плакала, целовала его. «Ну, привел же бог, привел же бог, — говорила она. — Да дай же посмотреть на тебя...», и она всматривалась долго, с тем упоением, преданным, святым, с каким может смотреть одна любовь матери. Она была счастлива, он так хорош, черты его так невинно чисты и открыты, она молилась ему. — Дружок ты мой, какой ты худенькой, — говорила она ему, — здоров ли ты? — Я здоров, маменька,— отвечал молодой человек. — Я только боюсь, что папаша узнает, спросит меня. — И, батюшка, — вмешалась няня,—что это уж такой умник и не умеете держать ответ. Правду сказать, это только ваш папаша воображает, что его в свете никто не проведет, а его вся дворня надувает. Молодой человек не отвечал, но сделал движение, которое делают все нервные люди, когда нож скрипит по тарелке. II ДЯДЮШКА ЛЕВ СТЕПАНОВИЧ Кажется, что и хорошо я начал мой рассказ, а опять приходится отступить, далеко отступить, иначе не объяснишь сцены, происходившей в маленькой комнатке Настасьи. Начнемте там, где оканчиваются воспоминания Ефимки; он возил молодого барина в салазках при жизни «дяденьки». Дяденька Лев Степанович уже потому заслуживает, чтобы начать с него, что несмотря на всю патриархальную дикость свою, он первый ручной представитель Столыгиных. Этим он обязан слепой любви родителей к его меньшему брату. Степушку никогда бы не решились они отправить на службу, отдать в чужие руки; Левушку, напротив, родители не жалели, и как только он кончил курс своего воспитания, то есть научился читать по-русски и писать вопреки всем правилам орфографии, его отправили в Петербург. Послуживши лет десять в гвардии, он перешел в гражданскую службу, был советником, был впоследствии президентом какой-то коллегии и в большой близости с кем-то из временщиков. Патрон его, долго умевший искусно удержаться в силе в классическое время падений и успехов, воцарений и низвержений после Петра I и до Екатерины II, потерял, наконец, равновесие и исчез в своих малороссийских вотчинах. Помощник и ставленник его, Лев Степанович, премудро и во-время умел отделить свою судьбу от судьбы патрона, премудро успел жениться на племяннице другого временщика, которую тот не знал куда девать, и, наконец, что премудрее всего вместе, Лев Степанович, получив аннинскую кавалерию, вышел в отставку и отправился в Москву для устройства имения, уважаемый всеми как честный, добрый, солидный и деловой человек. Не надобно думать, чтоб в его удалении был один расчет или дипломатия; причина столько же сильная звала его воротиться к более родной среде. В Петербурге, несмотря на успехи по службе, ему все было что-то неловко, точно в гостях; ему захотелось покоя в почетном раздольи помещичьей жизни, захотелось пожить на своей воле. Родители его давно померли, Степушка был отделен, именье, доставшееся Льву Степановичу, было одно из богатейших под Москвою, верст сотню по Можайке от города. Как же не ехать ему было в свои 20 березовые и липовые рощи, в свой старый отцовский дом, где, подобострастная дворня и испуганное село готово было его встретить с страхом и трепетом, поклониться ему в землю и подойти к ручке. В Москве он остался недолго, заложил на Яузе, вместо деревянного дома, каменные палаты и уехал в Липовку, изредка наезжая присмотреть за постройкой. За хозяйство Лев Степанович принялся усердно; он и на службе своего именья не расстроил, а, напротив, к родовым тысяче душам прикупил тысячи полторы; но теперь, не вдаваясь в агрономические рассуждения, он разом сделался смышленым помещиком, с той сноровкой, с которой из лейб-гвардии капитанов стал в год времени деловым советником. Удвоивая доходы, он улучшил состояние крестьян. Он и хлебом поможет, и овса на посев даст, и корову или лошадь даст в замену падшей, ну да после держи ухо востро. Вдруг никто не думает, не гадает, барин с старостой и с десятскими на двор. «Эй ты, Акулька, покажи- ка горшки для молока», не вымыты, тут бабе и расправа, «а ты Нефед, покажь-ка соху, да и борону, выведи лошадь-то», — словом, поучал их, как неразумных детей, и мужички рассказывали долго после его смерти «о порядках старого барина», прибавляя: «точно бывало спуску не дает, ну, а только умница был, все знал наше крестьянское дело досконально и правого не тронет: то есть учитель был». Дворовых он держал без числа и меры. У него были мальчики, единственно употрябляемые днем на то, чтоб чистить клетки соловьев, а ночью ходить по двору, чтоб собаки не лаяли близ господского дома. У него были девочки, которых все назначение состояло в том, чтобы зимой стирать воду с оконниц, а летом носить уголья и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтоб такое количество прислуги его вводило в особенно важные траты; все, начиная с самих личностей, было домашнее, рожь и гречиха, горох и капуста, и не один корм... умрет корова, выделают кожу, сапожник сошьет портному сапоги в то время, как портной ему кроит куртку из домашнего сукна цвету маренго клер и широкие панталоны из небеленого холста, которым были обложены рабочие бабы. Притом у Льва Степановича был неотъемлемый талант воспитывать дворню, талант совершенно утраченный в наше время; он вселял с юных лет такой страх, что даже его фаворит и долею лазутчик, камердинер Тит Трофимов, гроза всей дворни, не всегда обращавший внимание на приказы барыни, сознавался в минуты откровенности и сердечных излияний, что ни разу не входил в спальню барина без особого чувства страха, особенно утром, не зная, в каком расположении Лев Степанович. Дивиться нечему. Выгоды и почет барского фавора очень недаром доставались Титу, особенно потому, что он часто попадался на глаза. Лев Степанович был человек характерный, сдерживать себя не считал нужным, и когда утром он выходил к чаю с красными глазами, сама Марфа Петровна долго не смела начать разговор. В эти «характерные» минуты сильно доставалось Титу, — побьет его бывало, да и пошлет к барыне, «поди, — говорит, — покажи ей свою рожу и скажи, вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов». Для Марфы Петровны в ее скучной и однообразной жизни, подобные случаи служили развлечением, даже она находила своего рода удовольствие в унижении гордого и высокомерного Тита. Действительно, развлечений в ее жизни было мало, особенно светских. Пыталась она и ворожить, и заговариваться, и пить всякую дрянь, и к Троице-Сергию ходила пешком, и Титову сестру посылала в Киево- Печорскую лавру, откуда она ей принесла колечко с раки Варварымученицы, но детей все не было. Нельзя сказать, чтоб Лев Степанович особенно был оттого несчастен, однако он сердился за это, как за беспорядок, и упрекал в минуты досады свою жену довольно оригинальным образом, говоря: «У меня жену бог даровал глупее таракана; что такое таракан, — нечистота, а детей выводит». При этом видно было гордое сознание, что он с своей стороны себя в этом не винит, — да, и в самом деле, без вопиющей несправедливости мудрено было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей. Главное, что сердило Льва Степановича, — это отсутствие цели в хозяйстве и устройстве именья. «Я, — говорил он, — денно и нощно хлопочу, и запашку удвоил, и порядок завел, и лес берегу, и денег не трачу; а подумаю — на что, сам не знаю; точно управляющий братнина сына, а тот возьмет все, да и спасибо не скажет, я его знаю, по матери пошел, баба продувная была, и в нем хамовой крови довольно. Оно, конечно, это мой долг, на то я и поставлен богом в помещики, чтобы хозяйничать, на том свете с меня спросится; все же лучше, если бы был настоящий наследник!» И Лев Степанович грустно качал головою, сидя на жестких креслах, обитых черной кожей, приколоченной медными гвоздочками, Марфа Петровна горько плакивала от подобных разговоров и за светские лишения прибегала к духовным утешениям. Возле самого господского дома иждивением Льва Степановича была воздвигнута каменная церковь о трех приделах. Спальня выходила окнами к колокольне; при первом благовесте Марфа Петровна поспешно одевалась и являлась ранее всех в храм божий. Лев Степанович приходил позже, и то по большим праздником и в воскрасные дни. Марфа же Петровна являлась при всех богослужениях, на похоронах, крестинах, бракосочетаниях. Лев Степанович становился впереди, подтягивал клиросу и бдительным оком смотрел за порядком, сам драл за уши шаливших мальчишек и через старосту показывал, когда надо было креститься и когда класть земные поклоны. Он был любитель и знаток богослужения, он на дом к себе призывал молодого диакона и месяца три всякий день учил кадить и делать возглас, поднимая орарь с полуоборотом на амвоне; диакон действительно так мастерски делал возглас и полоборота, что можайские купцы приезжали любоваться и находили, что иеродиакон Савина монастыря далеко будет пониже липовского. Монастырь этот был верст тридцать от усадьбы Льва Степановича. Он постоянно посылал туда не столько богатые, сколько постояные приношения — возов десять прошлогоднего и несколько сгоревшего сена, овес, не годный на семена, сырые и почерневшие дрова. Марфа Петровна с своей стороны делала приношения тоже более ценные по усердию, нежели по чему иному; она посылала в монастырь розовую и мятную воду, муравьиный спирт, сушеную малину (иноки, не зная, что с ней делать, настаивали ее пенным вином), несколько банок грибов в уксусе, искусно уложенных так что с которой стороны ни посмотришь, все видно 21 одни белые грибы, а как ложкой ни возмешь, все вынешь или березовик или масленок. Иноки иногда посещали благочестивый дом богоприбежного помещика и всегда находили радушный прием Марфы Петровны, которая любила их и как-то боялась. Других гостей почти никогда не являлось у Столыгиных. Кроме их двоих, еще проживали у них дядя Марфы Петровны с своей женой. Ехавши из Петербурга, Лев Степанович пригласил к себе дядю своей жены, не главного, а так, дядю-старика, оконтуженного в голову во время турецкой кампании, вследствие чего он потерял память, ум и глаза. Настоящий дядя, не зная куда его деть, намекнул Льву Степановичу, который хотя уж тогда и был в отставке, но все же не смел поперечить особе. Слепой старик был женат на молдаванке, у которой в доме лежал раненый; она была не первой молодости и, несмотря на большой римский нос и на огромные орлиные глаза, отличалась великим смирением духа. Ее Столыгин употреблял на прием талек, холстины, орехов, на чищение ягод, сушение трав, варение грибов; Марфа Петровна, призревая родственников, была уверена, что этим загладит все свои грехи, а может, сделает доступною и свою молитву о даровании детей. Обращение, сложившееся между хозяевами и гостями, было простое, патриархальиое. Марфа Петровна называла старика дядей, но жену его не только не называла теткой, но говорила ей «ты» и в иных случаях позволяла целовать у себя руку. Лев Степанович говорил обоим «ты» и обращался с ними так, как следует обращаться с людьми, вполне зависящими от нас,— с холодным презрением и с оскорбительным выказыванием своего превосходства. Он их трактовал, как мебель или вещь не очень нужную, но к которой он привык. Утро слепой обыкновенно проводил в своей комнате во флигеле, где курил сушеный вишневый лист, перемешанный с венгерскими корешками. В час девка, приставленная за ним, надевала на него длинный синий сюртук, повязывала белый галстук и приводила в столовую. Здесь он дожидался, сидя в углу, торжественного выхода Льва Степановича. Горе бывало старику, если он опоздает, тут доставалось не только ему, но и Таньке, служившей при нем карнаком, и молдаванке. Старику повязывали на шею салфетку и сажали его за стол, где он смиренно дожидался, пока Лев Степанович ему пришлет рюмку настойки, в которую он ему подливал воды. За столом старик не смел ничего просить, да не смел ни от чего и отказаться; даже больше двух стаканов квасу (хозяева пили кислые щи, но для дяди с теткой приносили людского квасу, кислого, как квасцы) ему не дозволялось пить. Подадут ли дыню, Лев Степанович вырежет лучшую часть, а корки положит ему на тарелку. Марфа Петровна делала то же с зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущий вздор и почти грех думать, что бог так создал дыню, что одну закраинку можно употреблять в снедь. В редкие минуты, когда Лев Степанович был весел, слепой старик служил предметом всех шуток и любезностей Льва Степановича. «А, добро пожаловать, — кричал он, — добро пожаловать, отец Ксенофонтий! Ей, Васильич (так называл он дядю), не видишь, что ли, отец Ксенофонтий идет тебя благословить». — «Не вижу, государь мой, не вижу», — отвечал слепой. «Да вот с правой-то стороны», — и он посылал Тита (благословлять старика, и тот ловил его руку. Лев Степанович хохотал до слез, не догадываясь, что самое забавное в этой комедии состояло в том, что выживший из ума старик, с тою остротой слуха, которая обща всем слепым, очень хорошо знал, что отец Ксенофонтий не входил, и представлял только для удовольствия покровителя, что обманут. Но верх наслаждения для Столыгина состоял в том, чтобы накласть на тарелку старику чего-нибудь скоромного в постный день, и когда тот с спокойной совестью съедал, он его спрашивал: «Что это ты на старости лет в Молдавии, что ли, в турецкую перешел, в какой день утираешь скоромное». У старика делались спазмы, он плакал, полоскал рот, делался больным — это очень забавляло Столыгина. Иногда Лев Степанович будил в старике что-то похожее на чувство человеческого достоинства, и он дрожащим голосом напоминал Льву Степановичу, что ему грешно обижать слепца и что он все-таки дворянин и премиермайор по чину. «Ваше высокородие, — отвечал Столыгин, у которого кровь бросалась в лицо от такой дерзкой оппозиции, — да ты бы ехал в полк — ну, я тебе пришелся не по нраву, прости великодушно, а уж переучиваться мне поздно, мне не под лета; да и что же, я тебя не на веревочке держу, ступай себе в Молдавию в женино именье». — Лев Степанович,— робко прибавляла Марфа Петровна,— ведь как бы то ни было, он мне дядя и вам сродственник». — «Вот? В самом деле? — возражал еще более разъяренный Столыгин. — Скажите пожалуйста, новости какие! А знаешь ли ты, что, если бы он не был твой дядя, так у меня не только б не сидел за столом, да и под столом». Испуганная майорша дергала мужа за рукав, начинала плакать, прося простить неразумного слепца, не умеющего ценить благодеяний. У старика текли по щекам тоже слезы, но как-то очень жалкие, он походил на беспомощного ребенка, 44 обижаемого грубой и пьяной толпой. После обеда барин ложился отдохнуть. Тит должен был стоять у дверей и, когда Лев Степанович ударит в ладоши, подать ему графин кислых щей. Иногда в это время Тит бегал в девичью и приказывал, по именному назначению, той или другой горничной налить ромашки и подать барину, что «де на животе нехорошо», и горничная с каким-то страхом бежала к Агафье Ивановне. Агафья Ивановна, ворча сквозь зубы, сыпала вонючую траву в чайничек. Марфа Петровна никогда не навещала мужа во время его гастрических припадков; она ограничивала свое участие разведыванием, кто именно - носил ромашку, для того чтобы при случае припомнить такую услугу и такое предпочтение. Лев Степанович, запивши кислыми щами или ромашкой сон, отправлялся побродить по полям и работам и часов в шесть являлся в чайную комнату, где у стены уже сидел на больших креслах слепой майор и вязал чулок, единственное умственное занятие, которое осталось у него. Иногда старик засыпал; Лев Степанович, разумеется, этого не мог вынести и тотчас кричал горничной: «Танька, не зевай», и Танька будила старика, который, проснувшись уверял, что он и не думал спать, что он и по ночам плохо спит, от поясницы. После чая Столыгин вынимал довольно не новую колоду карт и играл в дураки с женою и молдаванкой. Если он бывал в особенно хорошем расположении, то середи игры рассказывал в тысячный раз отрывки из аристократических 22 воспоминаний своих: как покойник граф его любил, как ему доверял, как советывался с ним; но притом дружба дружбой, а служба службой. «Бывало задаст такую баню, и бумаги все по полу разбросает, и раскричится. Ну, иной раз и чувствуешь что прав, да и не отвечаешь, надо дать место гневу. Он же у нас терпеть не мог, как отвечают; тогда было жутко, а теперь с благодарностью вспоминаю». Всего же более любил он останавливаться с большими подробностями на том, как граф его посылал однажды с бумагой к князю Григорию Григорьевичу... «Утром встал я часов в пять. Тит тогда мальчишкой был, не разъедался еще, как теперь, что гадко смотреть,—ну, только и тогда был преленивой и преглупой. Вхожу я в передню, насилу его растолкал, чтобы скорей за парикмахером сбегал. Парикмахер пришел, причесал меня... тогда носили вот так, три пукли одна над другой; я надел мундир и отправляюсь к князю. Вхожу в переднюю, говорю официанту, что вот по такому делу, от графа и его светлости прислан. Официант посмотрел на меня, видит с двумя лакеями приехал — и говорит: «Раненько изволили пожаловать, князь не встает раньше десяти, а в десять я, мол, камердинеру доложу». — «А можно, — говорю я ему, — где-нибудь обождать?» — «Как не можно, комнат у нас довольно. Вот пожалуйте в залу». Я взошел, люди полы метут да пыль стирают; я сел в уголок и сижу. Часика так через два вышел секретарь ли, камердинер ли и прямо ко мне: «Вы от графа?» — «Я, батюшка, я». — «Пожалуйте за мной к его светлости в гардеробную». Вхожу я, князь изволит в пудермантеле сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане, причесывает, а другой держит на серебряном блюде помаду, пудру и гребенки. Князь, взявши бумагу, таким громким ласковым голосом мне и молвили: «Благодари Штрафа, я сегодня же доложу об этом деле. Мне граф говорил о тебе, что ты деловой и усердный чиновник, старайся вперед заслуживать такой отзыв». — «Светлейший, мол, князь, жизнь свою предпочитаю положить за службу». — «Хорошо, хорошо,— сказал князь и изволил со стола взять табакерку, золотую. — Государыня тебе жалует в поощрение». Как это он изволил сказать, у меня слезы в три ручья. Я хотел было руку поцеловать, но он отдернул. Я его в плечо, князь взглянул на меня да пальчиком парикмахеру показал, — да оба так и вспрыснули от смеха. Я ничего не понимаю, что за причина. В а дело-то было просто: целуя светлейшего в плечо, я весь вымарался в пудре. Князь потом за ее величества столом рассказывал об этом, ей-богу». И во всем лице Льва Степановича распространялась гордая радость. Но большей частью, вместо аристократических рассказов и воспоминаний, Лев Степанович, угрюмый и «гневный», как выражалась молдаванка, притеснял ее и жену за игрой всевозможными мелочами, бросал, сдавая, карты на пол, дразнил молдаванку, с бешенством критиковал каждый ход и так добивал вечер до ужина. В десятом часу Лев Степанович отправлялся в спальню, замечая: «Ну, слава богу, вот день-то и прошел», — как будто он ждал чего-то или как будто ему хотелось поскорее скоротать свой век. Перед спальней была образная, маленькая комната, В которой восточный угол был уставлен большими и драгоценными иконами, в киоте красного дерева. Две лампадки горели беспрестанно перед образами. Лев Степанович всякий вечер молился иконам, кладя земные поклоны или, по крайней мере, касаясь перстом до земли. Потом он отпускал Тита. Тит, пользуясь единственным свободным временем, отправлялся на село к Исаю-рыбаку или к обручнику Никифору, всего же чаще к старосте, который на мирской счет покупал для дворовых сивуху. Тит брал с собою кого-нибудь из лакеев, особенно же Митьку-цирюльника, отлично игравшего на гитаре. Долго жил так доблестный помещик Лев Степанович, бог знает для чего устраивая и улучшая свое именье, усугубляя свои доходы и не пользуясь ими. Дом его с селами и деревнями составлял какой-то особенный мир, разобщенный со всем остальным миром чертою, проведенной генеральным межеванием. Даже Московские ведомости не получались в Липовке. Воины раздирали Европу, миры заключались, троны падали; в Липовке все шло нынче, как вчера, вечером игра в дурачки, утром сельские работы, та же жирная буженина подавалась за обедом. Тит все также стоял у дверей с квасом, и никто не только не говорил, но и не знал и не желал знать всемирных событий, наполнявших собою весь свет. Но так как всему временному есть конец, то пришел конец и этому застою, и притом очень крутой. Однажды после обеда Лев Степанович, употребивший довольно рассольника с потрохами жирной индейки и разных сдобных и слоеных пирожков и смочив все это кислыми щами, перешел в гостиную закусить обед арбузом и выпить княжевишной наливки. Освежившись арбузом и разгорячившись наливкой, он в самом лучшем расположении духа пошел в кабинет уснуть. Но как нарочно в зале застал Настьку, говорившую в дверях передней с известным нам музыкантом и цирюльником Митькой. Лев Степанович был чрезвычайно ревнив во всем, что касалось до горничных. Ему что-то померещилось не совсем хорошее в выражении Митькина лица. Он закричал страшным голосом и схватил в углу стоящую палку. Митька, горячая голова, как все артисты, ударился бежать. Столыгин за ним, со всем грузом индейки, потрохов, под квасом и арбузом; Митька от него, он за ним, Митька на чердак по узенькой лестнице, Столыгин сунулся было, но увидел, что судьба его не создала матросом. На крик барина сбежалась вся дворня. Багровый от гнева, сбиваясь в словах и буквах, барин велел поймать Митьку, где бы он ни был, и посадить в колодку, пока он решит его судьбу; отдавши приказ, он, усталый и запыхавшись, удалился в кабинет. Случай этот распространил ужас и беспокойство в доме, в людских, в кухне, на конюшне и, наконец, во всем селе. Агафья Ивановна ходила служить молебен и затеплила свечку в девичьей перед иконой всех скорбящих заступницы. Молдаванка, сбивавшаяся во всех чрезвычайных случаях на поврежденную, бормотала сквозь зубы «о царе Давиде и всей кротости его» и беспрестанно повторяла «свят, свят, свят», как перед громовым ударом. Титу не пришлось долго Митьку искать; он сидел босиком в питейном доме, уже выпивши на сапоги сивухи, и громко кричал: «Не хочу служить аспиду такому, хочу- царю служить, в солдаты пойду, у меня нет ни отца ни матери, за народ послужу, а уж я ему не слуга и назад не пойду, а силой возьмет, так грех над собой совершу, ей-богу, совершу». — «Митрий, Митрий, ты не горлань,— говорил ему Тит,— и такого вздора не ври; 23 барина рука длинная, она тебя везде достанет, а ты лучше ступай со мной, а не то ведь и руки свяжем, на то барский приказ». Красноречие Тита победило, наконец, Митьку, и он, протестуя и говоря, что завтра же грех совершит, пошел прибавляя: «Нет, Тит Трофимович, вязать меня не нужно, я не вор и не собака, чтобы меня на веревке водить— мы дойдем и без веревки». На дороге Митька во весь голос пел «Ай, барыня, барыня!» с теми богатыми вариантами, которыми изобилуют все передни. Неумытный Тит, посадив своего друга в колодку, побежал к дверям с кислыми щами. В пять часов Марфа Петровна прислала узнать, проснулся ли барин; Тит молча помахал рукой и приложил палец к губам. В шесть пришла сама Марфа Петровна к дверям. «Кажется, еще не изволили просыпаться», доложил Тит. Марфа Петровна тихо отворила дверь и так вскрикнула вдруг, что Тит опрокинул кувшин с кислыми щами. Закричать было немудрено. Старый барин лежал, растянувшись возле кровати, один глаз был прищурен, другой совершенно открыт с тупым и мутно-стеклянным выражением; рот был перекошен и несколько капель кровавой пены текло по губам. С минуту продолжалась совершенная тишина, но вдруг, откуда не возьмись, хлынула в комнату вся дворня; грозный Тит не препятствовал, а стоял как вкопанный. Марфу Петровну вынесли в обмороке и положили ей под ложечку образ, в котором были мощи св. Антипия; молдаванка вбежала в комнату с каким-то неестественным хныканьем и, подскользнувшись в луже кислых щей, чуть не сломила ногу. Тит, как более сильный характер, первый пришел в себя и снова тем повелительным голосом, которым отдавал барские приказы лет двадцать, сказал: «Ну, что тут зевать! Сенька, втащи сюда корыто да воды. А ты, Ларивон, сбегай-ка за батюшкой. Да нет ли у вас, Агафья Ивановна, медного пятка, на правый глаз-то ему надобно положить... » И все пошло как по маслу. Освобожденный арестант Митька без малейшего злопамятства приготовлялся, как записной грамотей, ночью читать взапуски псалтырь с земским и пономарем, просил только молдаванку дать ему табаку позабирательнее, на случай, если сон клонить будет. Дворня была испугана. Она доставалась человеку неизвестному; к нраву старого барина применились, теперь приходилось вновь начинать службу, и как, и что будет, и кто останется в Липовке, кто поедет в Питер, на каком положении — все это волновало умы и заставляло почти жалеть покойника. Через два дня, после необыкновенных напряжений, написал Тит будущему обладателю следующее письмо: «Все Милостивейший Государь, Государь батюшка и единственный заступник наш Михайло Степанович. По приказанию Ее Превосходительства тетушки вашей, а нашей госпожи Марфы Петровны. Приемлю смелость начертать Вам, батюшка Михайла Степанович, сии строки, так как по большому огорчению они сами писать сил не чувствуют богу же угодно было посетить их великим несчастием утратою их и нашего отца и благодетеля о упокоении души коего должны до скончания дней наших молить Господа и Дядюшки Вашего ныне в бозе представившегося Его Превосходительства Льва Степановича, изволившегося скончаться в двадцать третье месяца число в 6 часов по полудни. Онаго же телу вынос завтрашнего числа. Так как мы по известности ваши, то батюшка и все милостивейший Государь, могите призреть нас яко сирот отца лишенных и не оставить милосердием вашим недостойных подданных; а мы чувствуем как обязаны усердием Вашему здоровью до конца нашей жизни, что покойному дядюшки так и вам все едино, как вся дворня так и выборный Трофим Кузьмин с миром. Пребывая Нижайший раб ваш — Тит — если изволите помнить, что при покойном Дядюшке камардинером находился. Село Липовка. 1794 года Июня 25 дня». III НЕЖНЫЙ БРАТЕЦ ПОКОЙНОГО ДЯДЮШКИ Михайл Степанович был сын брата Льва Степановича — Степана Степановича. В то время, как Лев Степанович посвящал дни свои блестящей гражданской деятельности, получал высокие знаки милости и целовал светлейшее плечо, карьера его меньшого брата разыгрывалась на ином поприще, не столько громком, но более сердечном. Любимец родителей, баловень и «неженка», как выражалась дворня, он постоянно оставался в деревне под крылом материнским. В двенадцать лет старуха-няня мыла его еще всякую субботу в корыте и приносила ему с села лепешки, чтобы он хорошенько позволил промылить голову и не кричал бы на весь дом, когда мыльная вода попадала в глаза. Лет четырнадцати признаки раннего совершеннолетия начинали ясно оказываться в отношениях Степушки к девичьей. Матушка его, не слышавшая в нем души, не токмо не препятствовала развитию его ранних способностей, но даже не без удовольствия смотрела на удаль сынка и исподволь помогала ему, что при ее средствах и гражданских отношениях к девичьей не представляло непреоборимых трудностей. Нежные чувства, питаемые с такого нежного возраста, вскоре поглотили сего Степушку; любовь, как выражаются поэты, была единственным призванием его, он до кончины своей был верен избранному пути буколико-эротического помещика. Степушка недолго пользовался покровительством родителей. Ему было семнадцать лет, когда он лишился матери, года через три спустя умер его отец. Смерть родителей и честное предание их тела земле не доставили Степану Степановичу столько беспокойств и сердечных мук, как приезд брата: он вообще не отличался храбростью брата же он особенно боялся. Не зная, что делать, он совещался с своими подданными и не мог без содрогания вздумать как они будут делить дворовых, к числу которых принадлежала и девичья. Он взял некоторые меры: всех горничных велел запереть в поваровой комнате, оставивши налицо только таких, которые имели значительные недостатки в лице, сильную шадровитость, косые глаза. Лев Степанович 24 все понял, обделил брата, закупив его пустыми уступками, предоставил ему почти весь прекрасный пол и благословляемый им уехал назад. Проводивши брата, Степан Степанович принялся с своей стороны за устройство именья. Он купил двух музыкантов и приказал им учить дворовых девок петь. Хоры составились хоть куда, учителя играли один на торбане, другой на кларнете. В праздничные дни сгоняли после обедни крестьянских девок и баб на лужок перед домом для хороводов и песней. Степан Степанович, откушавши, выходил в сени, в халате нараспашку, окруженный горничными, тут он садился, горничные готовили чай и обмахивали мух павлиновыми перьями. Благодетельный помещик угощал гостей цареградскими стручками, пряниками, брагой грошевыми серьгами, иногда сам участвовал в хороводах, но чаще засыпал под конец; чай имел на него очень сильное влияние, хотя он и подливал французской водки, чтобы ослабить его действие. Материальной частью хозяйства Степан Степанович, как все сантиментальные натуры, заниматься не любил; староста и повар управляли вотчиной; до барина доступ был не легок, кому и случалось с ним молвить слово, остерегался проболтаться, барин все рассказывал горничным. Случилось раз, что крестьянка с большими черными глазами пожаловалась барину на старосту, Степан Степанович, не давая себе труда разобрать дела и вечно узлекаемый своим нежным сердцем велел старосту на конюшне посечь. Староста обмылся пенничком и кротко вынес наказание, не думая оправдываться, несмотря на то, что он в деле прав; тем не менее желание мести сильно запало в его душу. Спустя неделю, другую староста через повара доложил барину, что-де, несмотря на барское приказание, такая-то баба сильно балуется и находится в очень близких отношениях с своим мужем, возвратившимся с работы в городе. Поступок этот, так грубо неблагодарный, глубоко огорчил Степана Степановича, и он велел бабу назначать без очереди в работу. Похудев, состарясь через год, она на себе носила доказательства, что приказ был исполнен в точности. После этого примера никто, кроме горничных, не смел делать оппозицию старосте и повару. Веселая сельская жизнь Степана Степановича стала скоро известной в околотке; явились соседи, одни с целью его женить на дочери, другие обыграть, третьи более скромные познакомились потому, что им казалось нить чужой пунш приятнее своего. Он поддавался всему; весьма вероятно, что его бы женили и обыграли, но нежное сердце его спасло. Посещая одного из своих соседей, он увидел у него горничную — так сердце у него и опустилось... он приехал домой расстроенный, влюбленный, да как! Есть перестал, а пить стал вдвое больше. Подумал он, подумал, видит, что такой страсти переломить невозможно; опостылила ему девичья, и если он дозволял себе кой-какие шалости, то больше, чтобы не отставать от привычек, нежели из удовольствия. Пристал Степан Степанович к соседу, чтобы тот продал Акульку; сосед поломался, потом согласился с условием, чтобы Столыгин купил отца и мать — я, говорит, христианин и не хочу разлучать того, что бог соединил. Степан Степанович на все согласился и заплатил ему три тысячи рублей; по тогдашним ценам на такую сумму можно было купить пять Акулек и столько же Дуняшек с их отцами и матерями. Сельская Брунегильда поняла именно по сумме, заплаченной за нее, ширь своей власти и в полгода привела своего господина в полнейшую покорность. Померкло влияние повара, ослабла сила старосты. Отец Акулины Андреевны был сделан дворецким, мать ключницей, да она и им потачки не давала, а держала их в страхе и повиновении — и всего этого ей было мало, ей хотелось открыто и явно быть помещицей, она стала питать династические интересы. И года через два Степан Степанович поехал в четвероместной колымаге покойного родителя своего в церковь и обвенчался с Акулиной Андреевной. Брак их, не так как брак Льва Степановича, не остался бесплодным. В сенях господского дома, когда новобрачные воротились, сперва подошли к ручке и поздравили новую барыню ее родители, а потом кормилица в золотом повойнике поднесла десятимесячного сына; брак их был благословен заблаговременно. Грудной ребенок этот, — Михайла Степанович, которого Ефимка возил на салазках, а он его кнутиком подгонял. После свадьбы барин сделался призрак. Акулина Андреевна приняла бразды правления сильной рукой. Она с глубоким политическим тактом взяла все меры, чтобы упрочить свое самовластие — но, как всегда бывает, взявши все меры, она все-таки упустила из виду одну из возможных причин поворота, и на ней-то все оборвалось. Мало знакомая с врачебной наукой, она не только не ограничивала, но развивала в Степане Степановиче его страсть к наливкам и сладким водкам; она не знала, что человеческое тело только до известной степени противодействует алкоголю. Лет через семь после бракосочетания, синий Степан Степанович, отекший от водяной, полунемой от паралича, отдал богу душу — около того времени, когда Лев Степанович отделывал свой дом на Яузе. Получив весть о смерти брата, Лев Степанович впервые минуты горести попробовал опровергнуть брак покойника, потом законность его сына, но вскоре увидел, что Акулина Андреевна взяла все меры еще при жизни мужа и что седьмую часть ей выделить во всяком случае придется, и сыну имение предоставить, да еще заплатить протори. Больно было Льву Степановичу, но он покорился несправедливой судьбе, и как настоящий практический человек, тотчас придумал иной образ действия. Он написал к вдове письмо, полное родственного участия, звал ее в Москву для окончания дел и для того, чтобы показать ему наследника его брата, а может и его собственного, печься о котором он считал священной обязанностью, ибо богом и законом назначен ему в опекуны. Весьма вероятно, что Акулина Андреевна не повезла бы своего сына по письму дяди, но после смерти Степана Степановича люди стали что- то поговаривать, а иногда даже и перечить с таким видом, что Акулине Андреевне показалось безопаснее переехать в Москву. Лев Степанович плакал при свидании с Мишей, благословил его образом и взял на себя все хлопоты по опеке и управлению имением. Акулину Андреевну провести было не легко; но ее устранил совершенно неожиданный случай. Своей седьмой частью она прельстила одного поручика из ординарцев при московском главнокомандующем и сама прельстилась его ростом, его дебелой и свирепой красотой, совершенно противуположной аркадскому 25 покойнику. Акулина Андреевна не могла удержаться, чтобы не выйти за него замуж. Роли переменились. Поручик с четвертого дня начал ее бить, и уже Акулина Андреевна на этот раз стала пить подслащенные наливки. Лев Степанович сильно покровительствовал поручику и выхлопотал ему прибыльное место по комиссариатской части, где-то на Черном море. Лев Степанович требовал, чтобы племянник его остался в Москве для получения приличного его званию воспитания. Мать не хотела оставить его; но поручик прикрикнул и уговорил ее, основываясь на том, что место получил по ходатайству Столыгина и что его дружбу надо беречь на черный день. IV ТРОЮРОДНЫЕ БРАТЬЯ Мише было лет десять. Воспитание его не было сложно; простое, деревенское воспитание того времени, оно ограничивалось с физической стороны — развитием непобедимого пищеварения, с нравственной — укоренением верного взгляда на отношения столбового помещика к дворовым и крестьянам. Воспитание это не столько было отвлеченно и книжно, как практично, и потому самому имело несомненный успех. Десятилетний мальчик был окружен толпой оборванных, грязных и босых мальчишек, которых он теснил, бил и на которых жаловался матери, бравшей всегда его сторону. Один более свободный товарищ его игр был сын сельского священника, отличавшийся белыми волосами, до того редкими, что не совсем покрывали кожу на черепе, и способностью в двенадцать лет выпивать чайную чашку сивухи не пьянея. Он иногда обижал Мишу, не дозволял ему себя тотчас поймать в горелках, обгонял его взапуски, сам ел найденные ягоды. Мишу это оскорбляло, и Акулина Андреевна не могла оставаться равнодушной к такому нарушению приличий; она обыкновенно подзывала к себе поповича и поучала его следующим образом: «Ты, толоконный лоб, ты помни, дурак, и чувствуй, с кем я тебе позволяю играть; ты ведь воображаешь, что Михайло-то Степанович дьячков сын». Матушка попадья бывало как услышит подобное слово, тотчас, не вступая в дальнейшее разбирательство дела, поймает сына за бедные волосенки, как-то приправленные на масле, приносимом для лампады Тихвинской божией матери, и довольно удачно представляет, будто беспощадно дерет его за волосы, приговаривая: «Ах ты, грубиян эдакой поганый, вот истинно дурья порода. Простите, матушка Акулина Андреевна, изволите сами знать, какой ум в наших детях, в сраме и запустении живут; а ты благодари, дурак, барыню, что изволит обучать», — и она наклоняла его масленую голову и сама кланялась. Миша после подтрунивал над приятелем, но попович с досадой, улыбаясь, говорил: «Ведь все врет, мать-то, так для барыни в угоду горячку порет, пример делает». Лев Степанович не долго продержал у себя племянника; цель его была достигнута, он его разлучил с матерью и мог распоряжаться как хотел имением. Он думал отдать Мишу в пансион; но двоюродная тетка Льва Степановича выпросила его к себе воспитывать с своим сыном, который, говорила она, был один и скучал. Льву Степановичу не очень хотелось, но он побаивался княгини и согласился. Побаивался он ее потому, что она сильно любила болтать и имела большие связи в Петербурге; что она могла ему сделать болтовней и связями, — не знаю, да и он не знал, а трусил. Княгиня была богата, держала большой дом и занималась деланием визитов. При сыне находился француз-гувернер. Рекомендованный самим Вольтером Шувалову, Шуваловым княгине Дашковой, Дашковой нашей княгине, он безусловно управлял воспитанием. Гувернер был неглупый человек, как все французы, и не умный человек, как все французы; он имел все забавные недостатки своей стороны, лгал, острил, был дерзок и не зол, высокомерен и добрый малый. Он смотрел с улыбкой превосходства на все русское, отроду не слыхал, что есть немецкая литература и английские поэты, зато знал на память Корнеля и Расина, все литературные анекдоты от Буало до энциклопедистов, он знал даже древние языки и любил в речи поразить цитатой из Георгик или из Фарсалы. Само собой разумеется что наш гувернер был поклонник Вовенарга и Гельвеция, упивался Жан-Жаком, мечтал о совершенном равенстве и полном братстве, что не мешало ему ставить перед своей звучной фамилией Дрейяк смягчающее «де», на которое он не имел права. Он с улыбкой сожаления говорил о католицизме и вообще о христианстве и проповедывал какую-то религию собственного изобретения, состоявшую из поклонения закону тяготения. «Без тяготения,— говорил он, морща лоб от усилий,— был бы хаос и атомы разлетелись бы, тяготение поддерживает великий порядок, в котором раскрывается великий художник». При развитии этих глубоких и ясных истин он никогда не забывал прибавить, что по этому Платон и называл бога геометром, а Ньютон снимал шляпу, когда произносил имя божье. Сверх своей религии тяготения, которою он был совершенно доволен, он упорно не хотел суда на том свете и язвительно смеялся над людьми, верившими в ад, — хотя против бессмертия души он не только ничего не имел, но говорил, что оно крайне нужно для жизни. Учение с де Дрейяком шло весело и легко. Он мог всегда говорить без различия времени, предмета, возраста и пола, а потому его ученики отлично выучивались сначала слушать по-французски, а потом говорить. Воспитание почти в этом и состояло. Миша сначала погрустил в доме княгини и, утирая слезы, поминал о Липовке. Он очень хорошо заметил, что первая роль не ему принадлежит, он был «братец», он был cher cousin, в то время как князь был самим собою. Различие это Миша равно видел и в обращении княгини, и в обращении гостей, и еще более в обращении дядьки. Старик без возражения исполнял приказы князя, а Мише часто говорил, что ему некогда, что он может послать кого-нибудь помоложе. Самолюбивый мальчик, глубоко оскорбленный всем этим, дулся, сидел в углу, смотрел исподлобья. Дрейяк это относил к дикости, другие вовсе не замечали. Видя безуспешность своих протестаций, Миша вдруг сделался шелковый, ласков, весел, приветлив. Через несколько месяцев он был любимец Дрейяка. Сама княгиня не могла надивиться, какой он не глупый мальчик, «точно можно сказать c'est un miracle се qu'en a fait мой Дрейяк, он совсем sauvage был, ну и теперь эдакий 26 дурнушка, а, право, премилый мальчик». В слове дурнушка выражалось сознание матери, что ее сын не так умен, не так даровит, и она торопилась утешиться его красотой. Молодой князь не любил учиться; он был рассеян и зевал за уроками; добрый, очень добрый, раскрытый всякому чувству и благородный по натуре, он был вял, и ум его дремал еще беспробудно, да и не знаю, просыпался ли впоследствии когда-нибудь. Лень и невнимание князя поощрили Мишу, и Миша бросился на занятия со всем усердием, которое дает зависть и затаенные желания превосходства. Дрейяк чуть не плакал, видя, как ловко Миша цитирует места из «Кандида», из «Девы Орлеанской» из «Жака-фаталиста»... Мало-помалу воспитание молодых людей пришло к концу. Они писали французские записочки правильней русских. При всей своей лени, даже князь знал довольно хорошо греческую мифологию и французскую историю, больше в то время не требовалось; тогда у нас еще не выдумывали своей литературы, о русских журналах и не снилось никому, разве одному Новикову; русской истории тоже еще не было открыто. Знали только, что царствовал мудрый правитель Олег, о котором сама императрица изволила писать пьесу, знали, еще благодаря Вольтеру, некоторые неверные подробности о царствовании Петра I. У княгини было-таки небольшое собрание русских книг — сочинения Сумарокова, «Россиада» Хераскова, «Камень веры» Стефана Яворского и томов сорок «Записок Вольного экономического общества», но молодые люди никогда не развертывали этих книг. Княгиня свезла детей в гвардию и сама поселилась в Петербурге. Служба тогда была легкая. Изредка приходилось надеть мундир, в кои веки доставалось побывать в карауле, это даже нравилось как разнообразие. Остальное время, кроме родственных визитов, визитов к важным людям, обедни по воскресеньям в домовой церкви княгининого брата и скучного обеда у самой княгини, было в полном распоряжении молодых людей. Князь радовался мундиру, радовался воле, пылко бросался на все наслаждения, на все удовольствия; отроду не останавливавшийся ни на чем и отроду ни на чем ни останавливаемый, он часто обжигался, был обманут, ссорился и при всем этом был славный товарищ и лихой малый. Столыгин был скромнее; он глядел на своего товарища с каким- то снисхождением, порицая внутри все, что делалось. Из всех историй Столыгин выходил чистым, так мастерски, он умел себя держать. Князь любил его, верил в его дружбу, признавал его превосходство и с детским простосердечием прибегал во всяком трудном случае к Мише за советом. Князь был хорош собою, румяный, нежный, отрочески мужественного вида, с легким пухом на губах, с чистым голубым взглядом, он нравился особенно сангвиническим девицам и молодым вдовам. Столыгин, бравший нестолько красотою, сколько дерзкой речью, любезностью и злословием, не мог простить своему другу его высокий рост, его красивые черты, и старался всякий раз затмить его остротами и колкостями. Они занялись исключительно волокитством; от боярских палат до швеи иностранного происхождения и до отечественных охтенок — ничего не ускользало от наших молодых людей. К тому же князь успел раза два проиграться впух, надавать векселей за страстную любовь, побить каких- то соперников, упасть из саней мертво пьяный, словом, сделать все, что в те счастливые времена называлось службой в гвардии. Когда Столыгин заметил, что, несмотря на все его красноречие, князь решительно берет верх у женщин, он стал его подбивать ехать в Париж. Действительно, только этого рукоположения и недоставало нашим друзьям. Сначала, как водится, княгиня не хотела пустить; потом сама им выпросила отпуск. Надзор за детьми снова был поручен Дрейяку, успевшему в антракте образовать еще двух русских помещиков греческою мифологией и французскою историей. Тогда еще существовали пространство и даль, не так как теперь, месяца два тащились они до Парижа. ...Улицы кипели народом, там-сям стояли отдельные группы, что- то читая, что-то слушая; крик и песни, громкие разговоры, грозные возгласы и движения, все показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и страстное настроение, в котором был Париж того времени; казалось, что у камней бился пульс, в воздухе была примешана электрическая струя, наводившая душу на злобу и беспокойство, на охоту борьбы, потрясений, страшных вопросов и отчаянных разрешений, на все, чем были полны писатели XVIII века. И все это выговорилось, заявилось, выказалось путникам прежде, нежели запыленный и тяжелый дормез остановился у отеля в улице Сент-Оноре и двое крепостных слуг стали отстегивать пряжки у важей... И вот Михайло Степанович, напудренный и раздушенный, в шитом кафтане, с крошечною шпажкою, с подвязанными икрами, весь в кружевах и цепочках, острит в Версале, как острил в Петербурге; он толкует о тьерс-эта превозносит Никкера и пугает смелостью опасных мнений двух старых маркиз, которые от страха хотят ехать в Берри в свои имения. Его заметили. Несколько колкостей, удачно им сказанных, повторялись. — Знаете, что меня всего более удивляет в этом marquis hyper- boreen, — сказал раз, сдавая карты, пожилой аббат с сухим и строгим лицом: — не столько ум — умом нас, слава богу, не легко удивить, — нет, меня поражает его способность все понимать и ни в чем не брать участия; для него жизнь, кипящая возле, имеет тот же интерес, как сказания о Сезострисе . — Это какой-то посторонний всему — «Скиф в Афинах», — заметил какой-то ученый. — Совсем нет,— возразил аббат, — у скифа было бы что-нибудь свое, дикое, а он с виду и с речи похож на меня с вами. Признаюсь вам, я мог бы ненавидеть такого человека, если б я не жалел его. Это болезненное произведение образования, привитого к корню, не нуждавшемуся в нем. Будьте уверены, что у него нет будущности. — Помилуйте, из него выйдет отличный дипломат, он даже лицом похож на Кауница. — В самом деле похож,— подхватила пожилая дама, старавшаяся скрыть свои годы, — и гиперборейский маркиз был забыт. 27 Пока Столыгин занимал собою гостиную, князь успел отбить маленькую актрису у сына какого-то посла, подраться с ним на шпагах, обезоружить его, простить и в тот же вечер ему спустить пятьсот червонцев. Но маленькая актриса была очень мила и очень благодарна своему рыцарю. Путешествие князя и Столыгина окончилось прежде, нежели они предполагали, виною этого был Дрейяк. Де Дрейяк, которого прислуга в трактире звала мсье ле шевалье, одобрительно и не без задних мыслей улыбался «успехам человечества и торжеству разума над предрассудками», но он, как все благоразумные люди, больше успеха любил безопасность и больше торжества, ума и разума — покой. А тут вышел вот какой случай. Погода раз была чудесная, Дрейяк пошел гулять утром; но только что он вышел на бульвар, как услышал за собой какой- то нестройный гул; он остановился и, сделав из руки зонтик от света, начал всматриваться; сначала он увидел облако пыли, блеск пик, ружей, наконец вырезалась нестройная пестрая масса людей. Прежде нежели Дрейяк что-нибудь понял, высокий плечистый мужчина без сюртука, с засученными рукавами, с тяжелым железным ломом, повязанный красным платком, поровнявшись с ним, спросил его громовым голосом: «Ты с нами?» Дрейяк, бледный и уж несколько нездоровый, не мог сообразить, какое может иметь последствие отказ, и потому медлил с ответом; но новый знакомец был нетерпелив, он взял нашего шевалье за шиворот и, сообщив его телу движение, весьма неприятное, повторил вопрос. Дрейяк вместо ответа, уронил трость; учтивая дама почтенного размера, с седыми космами, торчавшими из-под чепчика, подняла ее и, показывая более и более густевшей массе народа, заметила: «Да это акапарист, аристократ, посмотрите, какой набалдашник, золотой и с резьбою, что вы толкуете с ним, на фонарь его!» — «На фонарь», сказали несколько голосов спокойным, подтверждающим тоном, исполненным наивного убеждения, что действительно его необходимо повесить на фонарь, что это просто аксиома. Человека три выступили было с очень враждебным намерением, дело остановилось за веревкой; мальчик лет двенадцати обещался тотчас принести. Дрейяк воспользовался этим временем, чтобы сказать: «Помилуйте, что вы? С молодых лет я питался писаниями наших великих писателей и примерами римской и спартанской республики». — «Хорошо, очень хорошо», закричали несколько человек, слышавших только слово «республика». «Я с вами, — продолжал ободренный оратор, я принадлежу народу, я из народа, как же мне не быть с вами?» — и остановившаяся кучка двинулась вперед грозно и мрачно, принимая новые толпы из всех переулков и улиц и братаясь с ними. Долго спустя раздавался еще на бульваре рев, похожий на морские волны, гонимые ветром в скалистый берег, рев иногда утихавший и вдруг раздававшийся торжественно и страшно. Дрейяку удалось завернуть под самым суетным предлогом в переулок, выучив счастливую минуту, когда все внимание его соседей обратилось на аббата, которого толкали вперед три торговки, он дал оттуда стречка и пришел домой полумертвый, с потухшими глазами и с изорванным кафтаном. Дома он лег в постель, велел налить какой-то тизаны и в первый раз признался, что дорого бы дал если бы был на варварских, но покойных берегах Невы. Тизана помогла ему, он начал приходить в себя и собирался было прочесть Тите Ливии о народном возмущении против Тарквиния Старшего, как вдруг раздался ружейный залп, прогремела пушка, еще раз, и еще — а там выстрелы вразбивку; временами слышался барабан и дальний гул; и гул, и барабаны, и выстрелы, казалось, приближались. По улице бежали блузники, работники с криком «а ла Бастиль, а ла Бастиль!». Перед окнами остановили офицера из Roval AllemancT стащили с лошади и повели. «О боже мой, боже мой, пощади нас и помилуй», бормотал Дрейяк, изменяя закону тяготения и забывая, что Платон бога называл «великим геометром». Тут он вспомнил, что прислуга его называет шевалье, и это проклятое «де» перед фамилией. «Все люди, — говорил он гарсону, который вошел, чтобы вынести чайник, — равны, все люди — братья и могут отличаться только гражданскими добродетелями, любовью к народу и к неотъемлемым правам человека». Михаил Степанович ходил смотреть взятие Бастилии; Дрейяк был уверен, не видя его вечером, что он убит, и уже начинал утешаться тем, что нашел славную турнюру, как известить об этом княгиню, когда явился Столыгин, помирая со смеху при мысли, как его версальские приятели обрадуются новости о взятии Бастилии. Дрейяк объявил, что дольше в Париже не останется и, несмотря на все споры и просьбы, опираясь на полномочие княгини, отстоял свое мнение с тем мужеством, которое может дать один сильный страх; делать было нечего, дети воротились. И маленькая француженка очутилась как-то в то же время на Литейной и сильно хлопотала об отделке своей квартиры и топала ножкой с досады, что лакей Кузьма ничего не понимает, что она говорит. Раз вечером князь застал Михаила Степановича в слишком огненном разговоре с mademoiselle Nina. Князь был не в духе, рассердился и обошелся колко, сухо с Столыгиным. Столыгин и уступил бы, да на беду он взглянул на плутовские глазки маленькой француженки,— глазки помирали со смеху и, щурясь, как будто говорили: «какая ж ты дрянь». Взгляд этот подзадорил его. Ссора разгорелась. Князь, не помня себя, выбросил Столыгина за дверь и разругал его так, что на этот раз маленькая Нина ничего не поняла, а Кузьма все понял. Они дрались. Дуэль кончилась почти ничем. Столыгин ранил князя в щеку. Это подражание цезаревым солдатам в Фарсальской битве вряд ли было случайно, зато оно и не прошло ему даром: раны на щеке невозможно было скрыть. Княгиня узнала через людей о дуэли и приказала Столыгину оставить ее дом. Таким образом, лет двадцати восьми от роду Столыгин очутился впервые на собственных ногах. Привычный к роскоши княгинина дома, он так испугался своей бедности, хотя он очень прилично мог жить своими доходами, что сделался отвратительнейшим скрягой. Он дни и ночи проводил в придумывании, как бы разбогатеть. Одна надежда у него и была — на смерть дяди, но старик был здоров, почерк его писем был оскорбительно тверд. Он было принялся хозяйничать, дядя вручил ему бразды правления после его выезда из дома княгини, но как-то неловко, и знал-то он плохо сельское дело и время терял на мелочи. Но человек этот, как говорят, 28 родился в рубашке. К нему повадился ходить какой-то отставной морской офицер, основываясь на том, что он служил вместе с его вотчимом в Севастополе и знал его родительницу. Моряк имел процесс и знал, что через связи Столыгина может его выиграть. Столыгин обещал ему, чтоб отделаться от него, поговорить с тем и с другим и разумеется, не говорил ни с кем. Но моряк привык выжидать погоды, он всякий день стал ходить к Столыгину. Ему отказывали — он возвращался, его не пускали — он прогуливался около дома и ловил Столыгина на улице. Наконец, Михайло Степанович, выведенный из терпения исполнил его просьбу. Офицер был безмерно счастлив. —Чем вы намерены заниматься? — спросил его Столыгин, — перебивая длинное и скучное изъявление флотской благодарности. — Искать частной службы по части управления имением, — отвечал моряк. Михайло Степанович посмотрел на него и почти покраснел от мысли, как он до сих пор не подумал употребить его на дело. Действительно, человек этот был для него клад. Моряк, как нарочно, отчасти уцелел для благосостояния хозяйства Столыгина; он летал на воздух при взрыве какого-то судна под Чесмой, он был весь изранен, поломан и помят; но, несмотря на пристегнутый рукав вместо левой руки, на отсутствие уха и на подвязанную челюсть, эта хирургическая редкость сохранила неутомимую деятельность, беспрерывно разлитую желчь и сморщившееся от худобы и злобы лицо. Он был исполнителен и честен, он никого бы не обманул, тем более человека, которому был обязан важной услугой; но многим именно эта честность и исполнительность показались бы хуже плутовства. Михайло Степанович предложил ему ехать осмотреть его имение. Моряк отправился. V НАСЛЕДНИК Столыгин ждал моряка с часу на час со всеми его проектами и планами, когда вместо него пришло красноречивое письмо Тита. Он немедленно поскакал в Москву. В Москве его ожидала новая радость, которой он не мог и предполагать. Тит Трофимов и староста, приехавшие поклониться новому барину, известили его о смерти Марфы Петровны. — А что, есть завещание? — спросил с некоторым беспокойством Михайло Степанович. — Покойная тетушка письмо только изволила вашей милости оставить, —отвечал Тит, вынимая бумажник. — Ты бы с этого и начал, болван, — заметил Столыгин, поспешно вырывая из рук Тита письмо. Лицо его просветлело при чтении, он видел ясно, что смерть таким сюрпризом подкосила стариков, что они не успели сделать «никаких глупых распоряжений». — Кто при доме в деревне остался? За коим чортом вы оба приехали? — спросил Михайло Степанович. — Агафья Петровна ключница, батюшка, и покойной тетушки дядюшка, майор, с супругой. — Они-то первые и растащат все; да где же бумаги? — В кабинете покойного барина дверь вотчинной печатью запечатана и десятской приставлен в калидоре. — Я завтра собираюсь в Липовку, будьте готовы. — Милости просим, батюшка, —отвечал, низко кланяясь, староста. — Лошади дожидаются, моих тройка на вашем дворе да крестьянских еще две придут под вечер в Роговскую. — Хорошо, ступай. А ты, эй! Тит! сейчас с Ильей Антипычем (так назывались остатки морского офицера, задержанные в Москве вестью о кончине Льва Степановича) доме все по описи прими, слышишь. — Слушаю, батюшка, — ответил Тит густым голосом. На другой день барин и первый министр его отправились в подмосковную. На границе Липовской земли ждали Михайла Степановича дворовые люди и депутация от крестьян с хлебом и солью. Староста и Тит Трофимов, ехавшие впереди в телеге, остановили дормез и доложили Михайлу Степановичу, что этот большой камень и эта большая яма означают границы его владений. Он вышел из кареты: подданные повалились в ноги, старик, седой, как лунь, с длинной бородой и с лицом буонароттиевских статуй, поднес хлеб и соль. Михайло Степанович указал Титу, чтобы он принял хлеб, и дребезжащим голосом сказал крестьянам, что благодарит их за хлеб, за соль, но надеется, что они усердие свое докажут на деле. — А что, на оброчных есть недоимка? — Есть, невеликое, батюшка, дело,— отвечал староста. — А ты чего смотрел, у меня, чтобы слово «недоимка» не было известно. Слышишь?! Какой оброк платят, неслыханное дело, дядюшка так попустил от старости. Я, чай, вам, православные, перед соседями совестно так мало платить. — Они легко могут платить еще по десяти рублей с тягла—заметил моряк. — Еще бы, подмосковные мужики. Видите, что люди говорят. — Как вашей милости взгодно будет, как изволите, батюшка, установить, наше крестьянское дело сполнять,—сказал буонароттиевский старик, и мужики снова поклонились в землю, благодаря за доброе намерение лишить их стыда так мало платить. — Об этом я поговорю завтра, собери утром на барский двор стариков. — Это что за рожи? — продолжал помещик, обращая приветствие к дворовым. — Откуда это покойник набрал их, один Тит на человека похож. Кто это в засаленном нанковом сюртуке направа-то? — Земский Василий Никитин, —отвечал староста, -- то есть он, батюшка, по ревизии записан Львом, да покойный дядюшка, взямши во двор, изволили Васильем назвать. — Сюда от него вином пахнет. Дорогу к кабаку вы не будете у меня знать. После этой речи он быстрыми шагами пошел по дороге с моряком, 29 который шел возле без фуражки; староста и Тит плелись несколько отступя и неглядя друг на друга, а за ним дворовые, крестьяне, дормез и телега. Никто почти ничего не говорил, на сердце у всех было тяжело, неловко. Когда они шли по селу, дряхлые старики, старухи выходили из изб и земно кланялись, дети с криком и плачем прятались за вороты, молодые бабы с ужасом выглядывали в окна; одна собака какая-то, смелая и даже рассерженная процессией, выбежала с лаем на дорогу но Тит и староста бросились на нее с таким остервенением, что она, поджавши хвост, пустилась во весь опор и успокоилась, только забившись под крышу последнего овина. Так достигли господского дома; тут дожидались священник с женою и сотами от пчелок своих, тощий плешивой диакон и причетники с волосами, которых расчесать не было возможности. Слепой майор и молдаванка, повязанная белым платком и закутанная в черную шаль покойной благодетельницы, встретили в сенях нового обладателя Липовки. Михайло Степанович учтиво обошелся со всеми, но всем как-то стало жаль Льва Степановича больше, нежели прежде. Он попросил священника отслужить молебен с водосвящением и потом панихиду о покойнике; осведомился, говеют ли крестьяне, и отправился в запечатанный кабинет, сопровождаемый моряком. Он нашел все в порядке — и деньги и ломбардные билеты. Говорят, что он нашел еще записку, в которой дядюшка изъявлял желание отпустить на волю дворовых, но он, справедливо заметил моряку, что, стало быть, дядя раздумал, если сам не написал отпускных, и что в таком случае отпустить их было бы противно желанию покойника, — сжег эту записку на свече. На другой день Михайло Степанович возвестил майору и его супруге, что, свято исполняя волю покойной тетушки, поручившей ему не оставить их, он им жалует две тысячи рублей. Причем он вручил билет (по которому проценты были взяты). Потом он им объявил, что сколько ни желал бы, но не может по разным соображениям оставить за ними комнаты и советует им переехать в Москву. «Кирилле Васильевичу часто может быть, — прибавил он, — нужда в докторе, ему непременно надобно жить в городе». Молдаванка хотела было просить Михайла Степановича позволить им остаться хоть в людской избе, но, встретив холодные глаза его с рыжеватыми ресницами, она не смела вымолвить ни слова и пошла укладывать свои пожитки. Осмотревши прочие имения и повелев беспрекословно слушать во всем моряка, он уехал в Петербург, а через несколько месяцев отправился снова за границу. Где он был, что делал в продолжение целых четырех лет? Трудно сказать. И что, собственно, его привязывало к заграничной жизни?.. Когда он воротился в Москву, моряк подал ему отчеты; другие проживаются в путешествии, Михайло Степанович нашел во всем приращение, без всякого труда, без всяких пожертвований почти; он чрезвычайно мало давал моряку. Даже теперь, воротившись из путешествия, он отделался золотыми нортоновскими часами, которые купил по случаю и о которых рассказывал моряку, чтоб поднять их цену, что они принадлежали адмиралу Элфингстону. Один-одинехонек жил Михайло Степанович в огромном и запустелом доме на Яузе. Что-то страшно угрюмое было в его существовании, он ни с кем не знался, редко выезжал, ничего не делал, был скуп до отвратительности и скрытно, прозаически, дешево развратен. Каждую неделю приезжал из Липовки моряк, и Столыгин оставлял его дня на два под предлогом разных дел, а в сущности из потребности живого человека. Дворню свою он страшно теснил. У него в воображении все носился дом княгини, и он хотел достигнуть чего-то подобного, не тратя денег; задача была невозможная. На всяком шагу он видел, что ему не удается, бесился и вымещал это на слугах. При всей своей скупости он серьезно имением не занимался, иногда только без всякой нужды он врывался в управление моряка, распространял ужас и трепет, брил лбы, наказывал, брал во двор, обременял совершенно ненужными работами — там дорогу велит проложить, тут сарай перенести с места на место... показавши таким образом свою власть, он снова предоставлял моряку управление крестьянами. Сверх моряка являлся к Столыгину раза два в неделю высокий подслепый меняла в бесконечном сюртуке, моргая глазами и пошевеливая плечом, он называл все камни и все вещи наизнанку, что вовсе ему не мешало быть тонким знатоком. Через него Михайло Степанович помещал свои деньги за баснословные проценты. Меняла, не удовлетворяясь куртажем за безносых адонисов, за новые антики и старые картины, — занимался в свободное время приятною должностью сводчика. Михайле Степановичу не хотелось выступать ростовщиком, да не хотелось тоже и капитал оставлять на одни несчастные пять процентов, которые тогда платил ломбард, так он и прибегал к услугам менялы. Несмотря на все предосторожности его, меняла все-таки надул Столыгина. Завелся процесс. Ни один сенатский секретарь, ни один герой, поседевший в чернилах, вскормленный на справках и сандараке, не догадался бы никогда, чем окончится этот процесс. Хождение по делу было поручено Столыгиным знаменитому тогда в Москве стряпчему, отставному статскому советнику, Валериану Андреевичу Трегубскому. У стряпчего была дочь, скромная, запуганная отцом, дикая от одиночества и очень недурная собою. Михайле Степановичу она приглянулась, он любил эти скромные волокитства, не вовлекавшие в большие траты. Молодая девушка, совершенно неопытная и подбиваемая беспрерывна кухаркой, шла, сама не зная как, прямо на свою гибель. Кухарка статского советника, помогавшая Столыгину за беленькую бумажку и за золотые серьги, которые он обещал, но все не приносил, вдруг испугалась могущих быть из этой связи последствий и раз вечером, немного напившись все рассказала отцу, разумеется, кроме собственного участия. Старик разом убедился в справедливости доноса и в том, что предупредить поздно, но поправить самое время. Сказать по правде, новость эта больше обрадовала его, нежели опечалила; тем не менее он с свирепостью напал на дочь, разбранил ее, оттаскал по обычаю праотцев за косу, запер в чулан, словом, сделал все, что требовала оскорбленная любовь родителя. Исполнив эту тяжелую, хотя и святую обязанность, он снова сделался чем был — стряпчим и принялся делать повальный обыск в комнате дочери. Нашел он и записочки и вещицы разные, все пересмотрел внимательно, все перечитал раза два-три. Прочтенное явным образом 30 доставляло ему удовольствие. Он взял письмо к себе, принялся сам писать, писал долго, подгибая третий палец под перо и наклоняя левый глаз к самой бумаге. И перемарывал он, и перечитывал, и прибавлял, и сокращал, наконец, удовлетворенный редакцией, он раза два до кашля понюхал табаку и принялся переписывать набело. Переписавши он взял свечу и отправился к дочери. Бедная девушка, оскорбленная, униженная, пристыженная, заплаканная сидела в углу. «Убила, — говорил он ей, — убила старика- отца, седины покрыла позором»; девушка стояла ни живая, ни мертвая и шептала бледными губами: «Простите, простите». — «Поди сюда, —- закричал отец, — возьми перо, пиши, тут — ну же». «Батюшка!» — «Да ты еще не слушаться, опозорила отца, да и из повиновения вышла, тебе говорят — пиши», и он диктовал: «Дочь статского советника Марья Валериановна Трегубская... » Девушка писала в лихорадке, в безумии; когда отец взял у нее перо, руки ее опустились, она упала на колени перед пустым стулом и прижала к нему голову. Почтенный старец вышел, не говоря ни слова, он думал, что ему больше придется ломаться, он был даже несколько сконфужен легкой победой. На другой день Столыгин получил от статского советника длинное письмо; он сообщал ему, что весть о том, что Михайло Степанович, опутав коварными обещаниями, поверг его дочь в гибель несчастия, и лишил его последней опоры и последнего утешения, поразила его в самое сердце; что он находит, наконец, положение жертвы его соблазна сомнительным. А потому полагает, что он, наверно, свой поступок покроет божиим благословением через брак, которым возвратит ей честь, а себе спокойствие совести, которое превыше всех благ земных. Буде же (чего боже сохрани) Михайле Степановичу это не угодно, то он с прискорбием должен будет сему делу дать гласность и просить защиты у недремлющего закона и у высоких особ, богом и монархом поставленных невинным в защиту и сильным в обуздание; в подкрепление же просьбы, сверх свидетельства домашних, он с душевным прискорбием приведет разные документы, собственно Михайло Степановича рукою писанные. В заключение оскорбленный отец счел нужным присовокупить, что преступная дочь его есть с тем вместе его единственная наследница как дома, что в Хамовнической части в третьем квартале за № 99, так и капитала, имеющего ей достаться, когда господу богу угодно будет прекратить грешные дни его. Михайло Степанович задохнулся от гнева и от страха; он очень хорошо знал с кем имеет дело, ему представились траты, мировые сделки, грех пополам. О браке он и не думал, он считал его невозможным. В своем ответе он просил старика не верить клеветам, уверял, что он их рассеет, говорил, что это козни его врагов, завидующих его спокойной и безмятежной жизни, и, главное, уговаривал его не торопиться в деле, от которого зависит честь его дочери. Валериан Андреевич недаром лет сорок был стряпчим; он видел, что Столыгин выигрывает время, что следственно ему его терять не следует. Между разными делами, вверенными его хождению, был у него на руках длинный, запутанный процесс о горных заводах одного графа, находившегося в большой силе. Трегубский отправился к нему и вдруг, докладывая ему о течении дела, подобрал нижнюю губу, опустил щеки, сделал пресмешной вид и начал капать слезами. Граф удивился, встревожился, стал спрашивать; старик (просил прощения, извинялся своим нежным сердцем и безмерным горем, наконец рассказал всю историю, показал письма Столыгина и просьбы дочери. Граф, забывая вовсе ненужные в то время воспоминания собственных проделок, принял сердечное участие в горе несчастного старца и сказал ему, отпуская его: — Будь покоен, негодяю этому даром это не пройдет. Оставь письмо дочери у меня. Да, кстати, апиляционную записку по моему делу окончи поскорее. Старик успокоился. Через несколько дней предводитель дворянства пригласил к себе Михайла Степановича по «экстренному и конфиденциальному делу». Осведомившись о состоянии его здоровья и об урожае озимых хлебов, предводитель спросил его — как он намерен окончить неосторожный пассаж свой с девицей Трегубской, присовокупляя, что ему велено посоветовать Михайле Степановичу кончить это дело, как следует дворянину и христианину. Столыгин пустился в ряд объяснений. Предводитель выслушал их с чрезвычайным вниманием и заметил, что все это совершенно справедливо, но что он тем не менее уверен, что Михайло Степанович оправдает доверие высоких особ и поступит как христианин и дворянин; что, впрочем, он его просит дать себе труд прочесть письмо, полученное им по поводу этой неприятной истории. Михайло Степанович прочел письмо и положил его на стол молча и с изменившимся лицом. — Не угодно ли вам будет теперь, — спросил его предводитель, — подписать вот эту бумажку? Столыгин взял перо. — Позвольте, позвольте, — с жаром заметил предводитель, вежливо вырывая из его руки перо, — это перо не хорошо, вот это гораздо лучше. Столыгин взял лучшее перо и несколько дрожащей рукой подписал. Думать надобно, что первая бумага была очень красноречива и вполне убеждала в необходимости подписать вторую. Предводитель, прощаясь, сказал Столыгину, что он искренно и сердечно рад, что дело кончилось келейно и что он так прекрасно, как истинный патриот и настоящий христианин, решился поправить поступок, или, лучше, пассаж. Через неделю Михайло Степанович был женат. Несмотря на то, что Москва — классическая страна бракосочетаний, но я уверен, что со времени знаменитого кутежа, по поводу которого в летописях первый раз упоминается имя Москвы, и до наших дней не было человека, менее расположенного и менее годного к семейной жизни, как Столыгин. Благодетельное начальство исправило эти недостатки отеческим вмешательством своим. Трудно себе представить хуже, нелепее и неловче положения бедной новобрачной. Перейдя, по распоряжению высшего правительства, из затворничества, в котором ее держал старый писарь, в чужой дом, 31 в котором не было в ней нужды, в котором ничего не переменилось от ее появления,— положение ее, собственно, ухудшилось. Столыгин ее держал не как жену, а как крепостную фаворитку. У ней не было ни одной знакомой. Столыгин запретил ей принимать каких-то родственниц, раза два являвшихся из-за Москвы-реки позавидовать ее счастию; она сама не хотела делить досуги с племянницей моряка, которую Столыгин хотел ввести по части супружеской тайной полиции. Она никуда не выезжала, иногда только Михайло Степанович предлагал жене проехаться в карете одной, и тут кучеру и лакею давалась инструкция, какими улицами ехать. Несколько лет оставалась она потерянной, оскорбляемой и безгласной. Существо доброе, готовое любить, готовое на всякую преданность, она отдавалась молча своей судьбе, и, вспоминая страдания, выносимые от отца, она думала, что так и надобно, что такое положение женщины на свете. Первый утешитель, явившийся ей, был малютка Анатоль, родившийся через год после ее свадьбы; впоследствии он же и развил, и воспитал, и освободил ее. Рождение сына на несколько степеней поправило положение Марьи Валериановны. Столыгин был доволен сходством. Он до того расходился в первые минуты радости, что с благосклонной улыбкой спросил Тита: «Ты видел маленького?» и, когда Тит отвечал, что не сподобился еще этого счастия, он велел кормилице показать Анатоля Михайловича Титу. Тит подошел к ножке новорожденного и со слезами умиления три раза повторил: «Настоящий папенька, вылитой папенька, папенькин портрет». Михайло Степанович, очень довольный, тут же отдал приказ, чтобылюди вставали, когда проходит кормилица с маленьким барином; а кормилице, напротив, разрешил сидеть даже в своем присутствии, чего, впрочем, она никогда не делала, повинуясь инструкциям моряка. Кормилица была из Линовки. За две недели до родов Марьи Валериановны приказал Столыгин моряку выслать для выбора двух-трех здоровых, красивых и недавно родивших баб с их детьми. Моряк выслал шесть, и мера эта оказалась вовсе не излишней; от сильного мороза и слабых тулупов две лучшие кормилицы, отправленные на пятый день после родов, простудились, и так основательно, что потом, сколько их старуха-птичница не окуривала калганом и сабуром, все-таки водяная сделалась; у третьей на дороге с ребенком родимчик приключился, вероятно, от дурного глаза и, несмотря на чистый воздух и прочие удобства зимнего пути, в пошевнях он умер, не доезжая Репаловки, где обыкновенно липовские останавливались; так как у матери от этого молоко поднялось в голову, то она и оказалась не способною кормить грудью. Остались три для выбора, согласно желанию Михайла Степановича. Из них он сам с повивальной бабкой избрали женщину, действительно замечательную. Будучи третий год замужем, она еще не утратила ни красоты, ни здоровья и была то, что называется кровь с молоком, со сливками даже можно сказать. На организм, который не только безнаказанно, но так торжественно вынес бедность, работу, отца, мать, жнитво, мужа, двух снох, старосту, свекровь и барщину, можно было слепо положиться. Кормилица на барском дворе в два месяца сделалась вдвое толще и румянее. Так что свекровь, приходившая иногда из деревни, не могла без ненависти видеть ее и всякий раз бормотала, выходя из ворот: «Вишь,— разъелась на барских чаях какая. Дай срок, воротишься домой, спустим жир... Погоди». Говорят, что простодушная старушка добросовестно сдержала обещание. Для дворни малютка сделался новым источником гонений и несчастий. Стук во время его сна, сквозной ветер, отворенная дверь — все это выводило - из себя Столыгина. Что вынесла бедная няня, та самая Настасья, которая послужила невольной причиной смерти Льва Степановича, мудрено себе представить. Кормилице дозволялось иногда спать, Настасья должна была день и ночь быть налицо. Она раздевалась раз только в неделю — в бане. Настасье было приказано, чтобы летом в детской не было мух; она отвечала за крик ребенка, за то, что он падал, начиная ходить, за насморк, который делался от прорезывания зубов... И подите, исследуйте тайны сердца человеческого — Настасья любила до безумия ребенка, существованием которого отравлялась вся жизнь ее, за которого она вынесла сколько нравственных страданий, столько и физической боли. Марья Валериановна сколько могла вознаграждала ее и лаской и подарками, но сама чувствовала, какую бедную замену она ей дает за лишение всякого покоя, за вечный страх, вечную брань и вечное преследование. Пока ребенок был зверком, баловству со стороны Михайла Степановича не было конца; но когда у Анатоля начала развиваться воля, любовь отца стала превращаться в гонение. Болезненный эгоизм Столыгина, раздражительная капризность и избалованность его не могли выносить присутствия чего бы то ни было свободного; он даже собачонку, не зная как попавшую ему, до того испортил, что она ходила при нем повеся хвост и опустя голову, как чумная. Марья Валериановна, до тех пор кроткая и самоотверженная, явилась женщиной с характером и с волей непреклонной. Она не только решилась защитить ребенка от очевидной порчи, но, уважая в себе его мать, она сама стала на другую ногу. Эту оппозицию тотчас заметил Михайло Степанович и решился сломить ее во что бы то ни стало. Пяти-шестилетний Анатоль был свидетелем грубых, отвратительных сцен, нервный и нежный мальчик судорожно хватался за платье матери и не плакал, а после ночью стонал во сне и, проснувшись, дрожа всем телом, спрашивал няню: «Папаша еще тут, ушел папаша?» Марья Валериановна чувствовала необходимость положить предел этому и не знала как. Обстоятельства, как всегда бывает, помогли ей. В гостиной стояла горка, на которой были расставлены всякие ненужности, взятые у менялы, для поощрения его. Анатоль, тысячу раз игравший этой дрянью, подошел к горке и взял какую-то фарфоровую куклу. — Не тронь! — закричал отец. Анатоль посмотрел на него с испугом, оставил куклу и через две минуты опять ее взял. Михайло Степанович подошел к нему, схватил за руку и дернул его с такой силой, что он грянулся об пол и разбил себе до крови лоб. Мать и няня бросились к нему. 32 — Оставьте его, это вздор, капризы! — закричал отец. Няня приостановилась в недоумении, но мать, не обращая никакого внимания на слова мужа, подняла Анатоля и понесла его говоря: — Пойдем, дружок мой, в детскую, папаша болен. — Да ты слышала или нет, что я сказал? — спросил Михайло Степанович, — оставь его. — Ни под каким видом, — отвечала оскорбленная мать, — как можно оставить ребенка с человеком в припадке безумия? — Это что значит? — спросил Столыгин, дрожа всем телом от бешенства. — То,— отвечала Марья Валериановна, — что есть всему мера, и если вы сошли с ума, то мой долг положить предел вашему вредному влиянию на ребенка. Михайло Степановйч не дал ей кончить, он ударил ее. Анатоль взвизгнул и помертвел. Марья Валериановна, пришедшая в спальню, бросилась на колени перед образом и долго молилась, обливаясь слезами, потом она поднесла Анатоля к иконе и велела ему приложиться, одела его, накинула на себя шаль и, выслав Настю и горничную зачем-то из девичьей, вышла с Анатолем за вороты, не замеченная никем, кроме Ефима. На дворе смерклось; Марья Валериановна почти никогда не выходила вечером на улицу, ей было страшно и жутко; по счастию, извозчик, ехавший без седока, предложил ей свои услуги, она кое-как уселась на калибере, взяла на колени Анатоля и отправилась к отцу в дом. Сходя с дрожек, она сунула извозчику в руки целковый и хотела взойти в вороты, но извозчик остановил ее, он думал, что она ему дала пятак, и сказал: «Нет, барыня, постой, как можно», и, разглядевши, что это не пятак, а целковый, продолжал тем же тоном и нисколько не потерявшись: «Как можно целковый взять с двоих, синенькую следует получить, матушка». Она бросила ему какую-то манету и взошла в ту несчастную калитку, из- за которой лет шесть тому назад, бог знает под влиянием какой чары, вышла на первое свидание с человеком, которого судьба избрала на то, чтобы мучить ее целую жизнь. Когда Михайло Степанович пришел в себя, он понял, что переступил несколько границу. «Ну, да что ж делать, — думал он, — у меня нрав такой, пора в самом деле привыкнуть, сердит меня, как нарочно, et ensuite elle devient impertinente, я не могу своего сына воспитывать по моим идеям». Утешивши себя такими рассуждениями, он отправился в гостиную, однако на лице его было видно, что как ни убедительны они были, но совесть не совсем была покойна. Большая гостиная была пуста и мрачна, освещенная двумя сальными свечами. Он посидел на диване — пусто, не хорошо. «Сенька!» — закричал он, и мальчик лет двенадцати, одетый казачком, показался в дверях. «Скажи Наське, чтобы привела Анатоля Михайловича». Казачок вышел, но долго не возвращался, слышны были голоса, шопот, шаги. Тит бледный, как смерть, стоял в зале, Настасья с заплаканными глазами ему объясняла что-то, Тит качал головой и приговаривал: «Господи боже мой, прости наши прегрешения». Через несколько минут казачок взошел с докладом: «Анатоля Михайловича дома нет, их барыня изволили взять с собою». — Что... о... о... о? Казачок повторил. — Что ты врешь, пошли Наську и Тита. Наська и Тит взошли. — Куда барыня пошла? — спросил Столыгин. Не могу доложить,— отвечала старуха, дрожа всем телом,— меня изволили послать за водой, изволили надеть желтую шаль — я думала так, от холоду... — Молчи и отвечай только на то, что я спрашиваю. Ну, а ты, старый разбойник, ты чего смотрел, Тит Трофимович, домоправитель? Кто пошел за барыней? — Виноват, батюшка Михайло Степанович, бог попутал на старости лет, я не видал. — Виноват, батюшка, — передразнил его Столыгин, входивший более и более в ярость, — позови, старый дурак Кузьку и Оську, да дурака Ефимку и кучеров. Люди переглянулись с ужасом друг на друга, они очень хорошо знали, что значит приглашение кучеров... На другой день утром Тит, Настасья и двое лакеев валялись в ногах у Марьи Валериановны, утирая слезы и умоляя ее спасти их. Столыгин велел им или привести барыню с сыном или готовиться в смирительный дом и потом на поселение. Седой и толстый Тит ревел, как ребенок, приговаривая: — Сгубит он нас, матушка, со света божьего сгонит. — Марья Валериановна,— говорила Настасья,— спаси ты нас, заступница наша, или уж оставь меня здесь. — Я домой не пойду, — прибавил старик, — я с Каменного моста брошусь в воду, один конец. Марья Валериановна долго молчала, тяжело ей было; она еще раз взглянула на эти растерянные и отчаянные лица, встала и сказала грустным голосом: — Так и быть, я спасу вас, я не могу допустить, чтобы он замучил вас за меня, я возвращусь теперь, может, на свою собственную гибель. Только молите же бога, что- бы не на гибель малютки. — Мать ты наша родная! — говорил Тит,— Иверской божией матери отслужим молебен, всей дворней свечу десятифунтовую поставим. Марья Валериановна явилась домой не как виновная и беглая жена, а с полным сознанием своей правоты и своего призвания быть защитницей сына. Она покойно и твердо объявила Столыгину, что возвратилась только для того, чтобы спасти совершенно невинных людей от его бешенства, но что она решилась не жертвовать более сыном необузданности такого отца. — Ох, — говорил Михайло Степанович, притворившийся больным,— ox, ma chere, зачем это ты употребляешь такие слова, мое ухо не привыкло к таким выражениям. У меня от забот, от болезни (он жаловался на аневризм, которого у него, впрочем не было) бывают иногда черные минуты — надобно 33 кротостью и добрым словом остановиться, а не раздражать, я сам оплакиваю несчастный случай,— и он остановился, как бы подавленный сильными чувствами. Но на Марью Валериановну его речи более не действовали. Весь prestige, окружавший его, исчез, она чувствовала себя настолько выше, настолько сильнее его, что у ней начала развиваться жалость к нему. После этой истории Столыгин стал держать себя попристойнее. Марья Валериановна с сыном жила большую половину года в деревне; так как это значительно уменьшало расходы, то муж и не препятствовал. Смерть доброго старика Валериана Андреевича, случившаяся через несколько лет, снова запутала и окончательно расстроила жизнь, устроенную Марьей Валериановной. Он умер вскоре после московского пожара. Старик оставался все время войны в Москве, довольно счастливо скупая, долею у французов, долею у казаков, разные серебряные и золотые вещицы. По выходе неприятеля он подавал просьбу о денежном вспоможении для поправления дома, сожженного богопротивным врагом во время нашествия галлов и с ними дванадесяти язык. Но, несмотря на то, что его просьба была совершенно несправедлива, он получил отказ. Это его сильно огорчило. Он помаячил еще годик, да и умер, оставивши Марье Валериановне дом, золотые и серебряные безделушки и толстую пачку ломбардных билетов. Марья Валериановна в это время была в Петербурге, куда Столыгин переехал во время приближения неприятеля. Дом их на Яузе сгорел. Моряк отстраивал его медленно, потому что Столыгин скупился на деньги. Старик перед смертью звал дочь проститься. Она поехала, но не застала его. Моряк, имевший уже свои инструкции, распоряжался в доме ее отца, как на корабле, взятом в плен. Марья Валериановна молчала, но билеты ломбардные прибрала: Михайло Степанович не давал почти вовсе денег на воспитание сына, да и сверх того, она хотела на всякий случай иметь капитал в своих руках. Это обстоятельство снова ее поссорило с мужем. Переписка их приняла горький тон. Видя непреклонность жены, Столыгину пришла в голову мысль воспользоваться разлукой ее с сыном, чтобы поставить на своем. Он писал моряку во всяком письме, чтобы все было готово для его приезда, что он на-днях едет и нарочно оттягивал свой отъезд. Возвратившись, наконец, в свой дом на Яузе, он прервал все сношения с Марьей Валериановной, строго запретил людям принимать ее или ходить к ней в дом. «Я должен был принять такие меры,— говорил он,— для сына; я все бы ей простил, но она женщина до того игрированная, что может пошатнуть те фундаменты морали, которые я с таким трудом вывожу в сердце Анатоля». Разумеется, ему никто не верил, кроме моряка, да и тот более верил из дисциплины и подчиненности, нежели из убеждения, и защищал Столыгина только следующим выразительным аргументом: «Все же ведь, как там угодно, а она супруга Михайла Степановича, а Михайло Степанович как бы то ни было, все же ее супруг есть!.. » ВМЕСТО ПРОДОЛЖЕНИЯ В начале 1848 года я посылал эту часть повести в Петербург. Несмотря на повторенное объявление на обертке одного журнала, печатать ее не позволили. Отчего? Не понимаю, судите сами, повесть перед вами. Тогда именно в России был сильнейший припадок цензурной болезни. Сверх обыкновенной гражданской цензуры была в то время учреждена другая, военная, составленная из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, инженеров, артиллеристов, начальников штаба, свиты его величества, офицеров, плац- и бау- адъютантов, одного татарского князя и двух православных монахов под председательством морского министра. Она разбирала те же книги, но книги, авторов и цензоров вместе. Эта осадная цензура, руководствуясь военным регламентом Петра I и греческим Номоканоном, запретила печатать что бы то ни было, писанное мною, хотя бы то было слово о пользе тайной полиции и явного самодержавия или задушевная переписка с друзьями о выгодах крепостного состояния, телесных наказаний и рекрутских наборов. Запрещением своим лейб-цензурный аудитор напомнил мне, что русским пора печатать вне России, что нам нечего сказать такого, что могла бы пропустить военно-судная цензура. ...Не находя силы продолжать повесть, я расскажу вам ее план. Мне хотелось в Анатоле представить человека полного сил, энергии, способностей, жизнь которого тягостна, пуста, ложна и безотрадна от постоянного противуречия между его стермлениями и его долгом. Он усиливается и успевает всякий раз покорять свою мятежную волю тому, что он считает обязанностью, и на эту борьбу тратит всю свою жизнь. Он совершает героические акты самопожертвования и преданности, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того вялого бесцветного состояния, в котором находится всякая посредственная и бездарная натура. Сила этого человека должна была потребиться без пользы для других, без отрады для него. Этот характер и среда, в которой он развивался, наша родная почва, или, лучше, наше родное болото, утягивающее, морящее исподволь, заволакивающее непременно всякую личность, как она там себе не бейся, — вот что мне хотелось представить в моей повести. С самой первой юности Анатоль втянут в роковое столкновение с долгом. Перед ним в страшной нелепости является родительская власть. Он ненавидит Михайла Степановича, но он переламывает свое естественное отвращение и повинуется этому человеку, потому что он его отец. Гонимый и притесняемый, Анатоль нашел выход, который находят все юноши с теплым и чистым сердцем; он встретил девушку, которую полюбил искренно, откровенно. Для их счастья недоставало одного — воли. Пришла и она. 34 Михайло Степанович, наконец, умер к неописанной радости дворовых людей. Анатоль, как Онегин: Ярем от барщины старинной Оброком легким заменил, Мужик судьбу благословил... а семидесятилетний моряк слег в постель и не вставал больше от этого «дебоша»; он, грустно качая головой, повторял: «А все библейское общество, все библейское общество, это из Великобритании идет». Анатоль между тем начинал чувствовать усталь от своей любви, ему было тесно с Олинькой, ее вечный детский лепет утомлял его. Чувство, нашедшее свой предел, непрочно, бесконечная даль так же нужна любви и дружбе, как изящному виду. Олинька принадлежала к тем милым, но неглубоким и неразвивающимся натурам, которые, однажды вспыхнув сильным чувством, готовы, оседают и уже дальше не идут. Когда Анатоль убедился, что он ее не любит, он ужаснулся своей сухости, своей неблагодарности; в несчастии он не находил другой отрады, иного утешения, как в ее любви, а теперь, свободный, богатый, он готов ее покинуть. Разумеется, после этого рассуждения он женился. Близость лиц — факт психологический, легко любить не за что и очень трудно любить за что-нибудь. Людские отношения, кроме деловых, основанные на чем-нибудь, вне вольного сочувствия, поверхностны, разрушаются или разрушают. Быть близким только из благодарности, из сострадания, из того, что этот человек мой брат, что этот другой меня вытащил из воды, а этот третий упадет сам без меня в воду, — один из тягчайших крестов, которые могут пасть на плечи. Анатоль через несколько месяцев после брака был несчастен и губил своим несчастием бедную Олиньку. Мой герой (вы, может, и не подозреваете этого) был конноегерским офицером; вскоре после его свадьбы его назначили адъютантом корпусного начальника, который ему был сродни. Корпусный командир был не кто иной, как наш старый знакомый князь, князь, взявший с собой из Парижа маленькую Нину, в то время, как парижский народ брал Бастилию. Он славно сделал свою карьеру и воротился из кампании в 1815 году, обвешанный крестами всех немецких государей, введенных казаками во владение, и млечным путем русских звезд. Он был прострелен двумя пулями и весь в долгах. Он уже плохо видел, нетвердо ступал, неясно слышал; но все еще с некоторым fion зачесывал седые волосы a la Titus , подтягивал мундир, прыскался духами, красил усы, волочился за барышнями, и бог знает для чего, кажется, из одного приличия, держал французскую актрису на содержании. Это лицо меня чрезвычайно занимало; его мне хотелось особенно отделать. Князь должен был принадлежать к типу людей, который утрачивается, который я еще очень хорошо знал и который необходимо сохранить к типу русского генерала 1812 года. Русское общество с Петром раза четыре изменяло нравы. Об екатерининских стариках говорили очень много, но люди александровского времени будто забыты, оттого ли, что они ближе к нам или от чего другого, но их мало выводят на сцену, несмотря на то, что они совсем не похожи на современных актеров «памятной книжки» и действующих лиц «адрес-календаря». При Екатерине сложилось в высшем петербургском обществе не аристократия, а какое-то служилое вельможничество, надменное, гордое и недавно сделанное ручным. С 1725 и до 1762 года эти люди участвовали во всех низвержениях и возведениях на престол, они распоряжались русской короной, упавшей на финскую грязь, как своим добром, и очень хорошо знали, что ножки петербургского трона не так-то крепки и что не только Петропавловская крепость и Шлюссельбург но Пелымь и вообще Сибирь не так-то далеки от дворца. Крамольная горсть богатых сановников, с участием гвардейских офицеров, двух-трех немецких плутов, храня наружный вид рабского подобострастия и преданности, сажала кого хотела на царское место, давая знать о том к сведению другим городам империи; в сущности народу было безразлично имя тех, которые держали кнут, спине одинаково было больно. Ангальт-Цербстская принцесса, произведенная Орловыми в чин императрицы всероссийской, умела с лукавой хитростью женщины и куртизаны обстричь волосы буйным олигархам и усыпить их дикие порывы важным почетом, милостивой улыбкой, крестьянскими душами, а иногда своим собственным высочайшим телом. Из них образовалось в половине ее царствования вельможничество, о котором мы говорили. В этих людях было смешано русское патриархальное барство с версальским царедворством, неприступная «морга» западных аристократов и удаль казацких атаманов, хитрость дипломатов и зверство диких. Люди эти были спесивы по-русски и дерзки по-французски; они обходились учтиво с одними иностранцами; с русскими они иногда были ласковы, иногда милостивы, но всем до полковничьего чина говорили «ты». Ограниченные и надутые собой, вельможи эти хранили какое-то чувство собственного достоинства, любили матушку императрицу и святую Русь. Екатерина II щадила их и снисходительно слушала их советы, не считая нужным исполнять их. Тяжелый и важный век этих старых ворчунов, обсыпанных пудрою и нюхательным табаком, сенаторов и кавалеров ордена св. Владимира первой степени, с тростью в руках и гайдуками за каретой, век этих стариков, говоривших громко, смело и несколько в нос, — был разом подрезан воцарением Павла Петровича. Он в первые двадцать четыре часа после смерти матери сделал из роскошного, пышного, сладострастного, мужского сераля, называвшегося зимним дворцом,— казарму кордекардию, острог, экзерциргаузи полицейский дом. Павел был человек одичалый, в Гатчине, едва сохранивший какие-то смутные рыцарские порывы от прежнего состояния; это был бенгальский тигр с сантиментальными выходками, угрюмый и влюбленный, вечно раздраженный и вечно раздражаемый, он, наверное, попал бы в сумасшедший дом, если бы не попал прежде на трон. Перевернул он старых вельмож, привыкших при Екатерине к покою и уважению. Ему не нужны были ни государственные люди, ни сенаторы, ему нужны были штык-юнкеры и каптенармусы. Недаром учил Павел на 35 своей печальной даче лет двадцать каких-то троглодитов новому артикулу и метанью эспонтоном: он хотел ввести гатчинское управление в управление Российской империи, он хотел царствовать по темпам. В такой простой, в такой наивной форме самовластье еще ни разу не являлось в России, как при Павле. Эго был бред; хаос; его марсомания, которую он передал всем своим детям, доходила до смешного, до Презрительного и в то же время до трагического; этот коронованный Казимодо со слезами на глазах бил рукою такт, разгорался в лице, был счастлив, когда солдаты верно маршировали. Те же пароксизмы бывали потом у цесаревича Константина. Свирепости Павла не оправдываются даже государственными необходимостями, его деспотизм был бессмысленный, горячечный, ненужный; кого пытал он и ссылал толпами с своим генерал-прокурором Обольяниновым и за что? Никто не знает. Но вельмож он приструнил, струсили они и вспомнили, что они такие же крепостные холопи, как их слуги. С ужасом смотрели они, как император «шутит шутки нехорошие» — то того в Сибирь, то другого в Сибирь; они втихомолку укладывались и тащились на крестьянских лошадях в тяжелых колымагах в Москву и в свои жалованные покойной императрицей вотчины. Там их и оставил Александр после кончины Павла; он не счел нужным вызывать из деревень маститых государственных людей, благо они засели, обленились и задремали, учреждая в своих поместьях небольшие дворики вроде екатерининских. Александр окружил себя новым поколением. Поколение, захваченное в гвардии павловской сиверкой, было бодро и полно сил. События их довоспитали. Шуточное ли дело Аустерлиц, Эйлау, Тильзит, борьба 1812 года, Париж в Москве, Москва в Париже? Старые гвардейцы возвращались победоносными генералами. Опасности, поражения, победы, соприкосновение с армией Наполеона и с чужими краями — все это образовало их характер; смелые, добродушные и очень недальные, с религией дисциплины и застегнутых крючков, но и с религией чести, они владели Россией до тех пор, пока подросло николаевское поколение военных чиновников и статских солдат. Люди эти занимали не только все военные места, но девять десятых высших гражданских должностей, не имея ни малейшего понятия о делах подписывая бумаги, не читая их. Они любили солдат и били их палками не на живот, а на смерть оттого, что им ни разу не пришло в голову, что солдата можно выучить, не бивши его палкой. Они тратили страшные деньги и, не имея своих, тратили казенные; красть собак, книги и казну у нас никогда не считалось воровством, но они не были ни доносчиками, ни шпионами и за подчиненных стояли головой. Один из полнейших типов их был граф Милорадович, храбрый, блестящий, лихой, беззаботный, десять раз выкупленный Александром из долгов, волокита, мот, болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, управлявший несколько лет Петербургом, не зная ни одного закона, и как нарочно убитый в первый день царствования Николая. Когда раненого Милорадовича принесли в конногвардейские казармы и Арендт, осмотрев его раны, приготовлялся вынуть пули, Милорадович сказал ему: «Ну, ma foi, рана смертельная, я довольно видел раненых, так уж если надо еще пулю вынимать, пошлите за моим старым лекарем; мне помочь нельзя, а старика огорчит, что не он делал операцию». Действительно, пулю вынул старый лекарь, заливаясь слезами. После операции адъютант спросил графа, не желает ли он продиктовать какие- нибудь распоряжения. Милорадович тотчас потребовал нотариуса, но, когда тот пришел, он думал, думал — и сказал наконец: «Ну, братец, это очень мудрено, ну, так все как по закону следует, разве вот что — у одного старого приятеля моего есть сын, славный малый, но такая горячая голова, он, я знаю, замешан в это дело, ну, так напишите, что я, умирая, просил государя его помиловать, — больше, ma foi, ничего не знаю.» Потом он умер, и хорошо сделал. Прозаическому, осеннему царствованию Николая не нужно было таких людей, которые, раненные насмерть, помнят о старом лекаре и, умирая, не знают, что завещать, кроме просьбы о сыне приятеля. Эти люди вообще не ловки, громко говорят, шумят, иногда возражают, судят вкривь и вкось; они, правда, готовы всегда лить свою кровь на поле сражения и служат до конца дней своих верой и правдой, но войны внешней тогда не предвиделось, а для внутренней они не способны. Говорят, что граф Бенкендорф, входя к государю, а ходил он к нему раз пять в день, всякий раз бледнел — вот какие люди нужны были новому государю. Ему нужны были агенты, а не помощники, исполнители, а не советники, вестовые, а не воины. Он никогда не мог придумать, что сделать из умнейшего всех русских генералов — Ермолова, и оставил его в праздности доживать век в Москве. Надобно было много груда, усилий, времени, чтоб воспитать современное поколение чиновников по особым поручениям, корреспондентов, генералов «от чернил» и прочих жандармов под разными учтивыми названиями, чтобы дойти до той степени совершенства и виртуозности, до которой дошло петербургское правительство теперь. Да, износил, истер, исказил все хорошее александровского поколения, все хранившее веру в близкую будущность Руси; жернов николаевской мельницы целую Польшу смолол, балтийских немцев зацепил, бедную Финляндию, и все еще мелет, все еще мелет... У отца была белая горячка самовластья, delrum turanorum, у сына она перешла в хроническую fevre len te. Павел душил из всех сил Россию и в четыре года свернул шею — не России, а себе. Николай затягивает узел исподволь, не торопясь,— сегодня несколько русских в рудники, завтра несколько поляков, сегодня нет заграничных пасов, завтра закрыты две- три школы... Двадцать седьмой год трудится его величество, воздуху нам недостает, дышать трудно, а он все затягивает — и до сих пор слава богу, здоров. В царствование Николая желтая, желчная, злая фигура Аракчеева нежно исчезает — Рогнедой, плачущий на гробе Анастасии, но школа его растет, но его ставленники, его ученики идут вперед. Школа писарей, 36 кантонистов и аудиторов, дельцов и флигельманов, людей бездарных — но точных, людей бездушных — но полных честолюбия, людей посредственных — но которых «усердие все превозмогает!» Для этих людей, может, найдется место в министерствах и в арестантских ротах, но, наверно, нет в повестях. Как попал Анатоль в военную службу, трудно сказать. Эти вещи у нас делывались обыкновенно случайно. Сверх того, гражданская служба не могла нравиться, серьезно управлять имением еще не считалось делом, оставалась одна военная карьера. Попавши в адъютанты к князю, Анатоль погибал от скуки. Юнкером он, по крайней мере, физически развлекался гимнастикой манежа и ученья. Адъютантом он ездил с князем на балы и обеды и праздно сидел по нескольку часов у него в зале. Но скучать ему пришлось недолго, новое скорбное Столкновение воли с долгом вполне рассеяло его. В то время, когда всего менее кто- либо ждал похода, восстала Польша. Князь получил приказ выступить с своим корпусом и итти примкнуться к войску Дибича. Все засуетилось в его армии, князь ожил, забыл свои лета, целые дни верхом делал смотры и ревизии. Офицеры радовались отличиям и быстрому повышению, солдаты радовались, что не будет учений, беспрерывных смотров во время похода. Анатоль, хранивший свято юные мечты студентского периода, хотя и удовлетворялся собственным одобрением за благородное биение сердца и искренним желанием освобождения крестьян, тем не менее все благородные симпатии его были за Польшу, на которую он шел врагом, палачом, слугой деспотизма, что же ему было делать? Подавать в отставку было поздно, сказаться больным, выдадут за труса. С непреодолимым отвращением, почти с раскаянием явился он на поле битвы, совался в огонь без всякой нужды, но пули обходили его, а храбрость его была замечена; князь привязал ему георгиевский крест в петлице. Товарищи завидовали ему. На приступе Варшавы граф Толь подъехал с князем к первому взятому бастиону, расцеловал майора, поздравил его с креслом и потом спросил его, указывая на толпу пленных: «Кто же у вас будет их беречь?» Майор, державший платок на ране, молчал и с испуганным недоумением смотрел в глаза генералу. «На приступе, — сказал Толь, — каждый человек нужен; если все офицеры наберут столько пленных, половину солдат выбудут из строя, — Он сделал знак рукою и прибавил: — Понимаете?» Майор понимал, но не говорил ни слова. Толь поморщился и, обернувшись к Анатолю, сказал ему вполголоса: «Господин адъютант, майор, кажется, слаб от раны, скажите старшему капитану l faut en finir avec les prisonn ers. Анатоль стоял, как вкопанный, рука его будто приросла к шляпе. «Ну, чего ж вы ждете? — скажите, что я велел их расстрелять; адъютант ваш не очень расторопен», — заметил он князю, повертывая лошадь и показывая ему зрительной трубой какие-то осадные работы. Старший капитан отдал нужное приказание и сказал майору и Анатолю: «А, впрочем, я охотнее пошел бы еще раз на бастион — бить безоружного не манер. Ей, — закричал он, — Федосеев, выведи людей!» Анатоль хотел ускакать, но был остановлен колонной охотников, шедших с песнями, с криками «ура!» на приступ. За ним раздались отрывистые слова команды, и ружейный залп грянул почти в то же время. Анатоль обернулся — человек двадцать пленных лежали в крови, одни мертвые, другие в судорогах — столько же живых и легко раненых стояли у стены. Одни, обезумевшие от страха, судорожно хохотали, кричали и плакали, два-три человека громко читали молитвы по-латыни, треть бледные, стиснув зубы, с гордостью смотрели на палачей. В их числе был белокурый юноша; он остановил взгляд своих больших голубых глаз на Анатоле, в этом взгляде рядом с укором видно было столько презрения, что Анатоль опустил голову. У солдат дрожали руки, сам унтер офицер Федосеев хотя для поддержания чести и говорил: «Эк живучи эти поляки!», но был бледен и не в своей тарелке. «Вторая шеринга, впе-ред! Шай-клац!» командовал капитан; ружья склонились и брякнули. У Анатоля потемнело в глазах, он покачнулся и дал шпоры лошади, но лошадь вдруг поднялась на дыбы и брякнулась наземь — осколок русской бомбы ранил лошадь и раздробил Анатолю плечо; новая толпа охотников шла с песнями и гарцованьем мимо раненого. Анатоль лишился сознания. Недель через шесть Анатоль выздоравливал в лазарете от раны, но история с пленными не проходила так скоро. Все время своей болезни он бредил о каких-то голубых глазах, которые на него смотрели в то время, как капитан командовал: «Вторая шеринга, вперед!» Больной спрашивал, где этот человек, просил его привести, — он хотел ему что-то объяснить, — и потом повторял слова Федосеева: «Как поляки живучи!» Князь, жалевший очень своего адъютанта, говорил, что он, повидимому, контужен в голову и потому заговаривается, впрочем, надеялся, что он выздоровеет, и приводил в пример разных раненых в голову в 1812 и 1813 годах. Анатоль вышел в отставку и поехал к водам. Слабый от раны и убитый духом, выехал он из Варшавы. Голубые глаза поляка преследовали его, ему казалось, что он несколько раз встречал молодого страдальца, который, может, избегнул смерти; ему казалось, что он узнает то же выражение укора, беспокойной печали и презрения, смешанного почти с сожалением. Несколько раз хотелось ему подойти, взять за руку незнакомца и рассказать ему, как он попал на поле сражения. Но польские раны были еще слишком свежи, время понимать друг друга и мириться еще не приходило, и он останавливался, боясь холодного ответа. В Познани он на станции вышел из коляски и велел ей ехать за собой, когда заложат лошадей, а сам пошел пешком. В нескольких шагах от деревни стояла в небольшой нише мадонна, перед ней на коленях молился молодой поляк — опять он и, может, в самом деле. Несчастный был скорее похож на мертвеца, умершего после изнурительной болезни и которого забыли схоронить, нежели на живое существо лет двадцати. Он был в военной шинели, рука лежала на перевязке, челюсть и ухо были подвязаны, сухие посиневшие губы и белая бледность свидетельствовали о лихорадке и потере крови. Он только что перебрался через границу и был еще 37 весь под влиянием счастливого спасения; Анатоль заговорил с ним. Сначала раненый вздрогнул, не скрывая, что встреча с русским ему неприятна. Анатоль не хотел пропустить этой встречи; он взял его за руку и просил выслушать его. Он говорил долго и горячо. Удивленный поляк слушал его с вниманием, пристально смотрел на него и, глубоко потрясенный в свою очередь сказал ему: — Вы прилетели, как голубь в ковчег, с вестью о близости берега — и именно в ту минуту, когда я покинул родину и начинаю странническую жизнь. Наконец- то начинается казнь наших врагов, стан их распадается, и если русский офицер так говорит, как вы, еще не все погибло! Анатоль был счастлив. Они поехали вместе. Что унижений, что холоду и оскорблений должен был вынести Анатоль в этом путешествии. Для каждого польского выходца в то время путешествие было рядом торжеств, симпатических приемов; на каждого русского народы смотрели с затаенной злобой, как на сообщника Николая. Раза два граф Ксаверий должен был, избегая неприятности со стороны раздраженной толпы, выдавать Анатоля за поляка. Действительно, нелюбовь к русским идет с этого времени, мы ею обязаны Николаю. В этой встрече Анатоля с графом Ксаверием мне хотелось представить нашу русскую натуру, широкую, но распущенную, многостороннюю, но не устоявшуюся в соприкосновении с натурой польской, определенной, испытанной, односторонней, не идущей вперед, но твердо стоящей на своей почве. У Анатоля были прекрасные стремления, но они больше определялись отрицательно и никогда не приходили в ясность. У поляка во внутренней жизни все было кончено, решено, он шел своим путем, не возвращаясь к точке отправления, подвергая всякий шаг беспрерывной критике, не питая его сомнением. В его образе мыслей была очевидная непоследовательность, перелом, но это не уменьшало его энергической деятельности и, главное, не мешало ему. Он был католик и революционер, аристократ и бунтовщик, светский человек в нашем смысле слова — и породистый поляк. Отважный, твердый фанатик чести, надежный заговорщик, он был бесхитростен и беззаботен, как дитя, так что жизнь его при всей тягости его положения шла легче, стройнее, нежели жизнь Анатоля, у которого не было никакого внешнего несчастия. Граф Ксаверий должен был совершенно овладеть Анатолем — познакомить его с польскими иезуитами. Их строгий чин, их наружный покой, под которыми казались заморенными все сомнения и страсти, кроме веры и энергии в деле прозелитизма, должны были потрясти его. Он искал куда-нибудь прислониться, он стоял слишком одинок, слишком оставлен сам на себя, без определенной цели, без дела. Жена его умерла, с родственниками у него было' мало общего, как с московской жизнью вообще, никакой сильной связи, общего интереса или общего упования. Опять та же жизнь, которая образовала поколение Онегиных, Чацких и нас всех... Серьезность религиозных убеждений католика или протестанта часто удивляет нас; она еще больше должна была поразить Анатоля. Когда он воспитывался, когда еще не было ни православных славянофилов, ни полицейского православия, не было ни накожного обращения униатов, ни мощей Митрофана Воронежского, ни путешествий к святым местам — чужим и своим — Муравьева, ни духовного прозрения Гоголя; Языков писал еще вакхические песни, а ирмосов и кондаков не только не писал, но и не читал. Церковь, приложив кисточкой печать дара духа святого во время крещения, оставляла человека в покое и сама почивала в тишине. Но если религиозного воспитания не было в ходу, то цивическое становилось со всяким днем труднее; за него «ссылали на Кавказ, брили лоб. Отсюда то тяжелое состояние нравственной праздности, которое толкает живого человека к чему-нибудь определенному. Протестантов, Йдущих в католицизм, я считаю сумасшедшими... но в русских я камнем не брошу, они могут с отчаяния итти католицизм, пока в России не начнется новая эпоха. Легко стало жить Анатолю, когда он переступил за порог монастыря и подпал строгому искусу ставленника- послушника. Покойная гавань, призывающая труждающихся, открывалась для него, он слушался, не рассуждая, и усталый к вечеру от работы, усиленного изучения латинского языка и разных утренних и вечерних служб, он засыпал спокойно. Но церковь призывает не одних труждающихся, но и нищих духом. Тут, в виду католического алтаря, хотел я представить последнюю битву его с долгом. Пока продолжались искус, учение, работа — все шло хорошо, но, с принятием его в братство Иисуса, старый враг — скептицизм снова проснулся; чем больше он смотрел из-за кулис на великолепную и таинственную обстановку католицизма, тем меньше он находил веры, и новый ряд мучительных страданий начался для него. Но тут выход был еще меньше возможен, нежели в польской войне. Разве не он сам добровольно надел сам на себя эти вериги? Их он решился носить до конца жизни. Мрачный, исхудалый, задавленный горьким сознанием страшной ошибки, монах Столыгин исполнял несколько лет, как автомат, свои обязанности, скрывая от всех внутреннюю борьбу и страдания. Инквизиторский глаз настоятеля их разглядел. Боясь будущего, он выхлопотал от Ротгана почетную миссию для Столыгина в Монтевидео. И наследник Степана Степановича и Михайла Степановича, обладатель поместья в Можайском и Рузском уездах, отправился на первом корабле за океан проповедовать религию, в которую не верил, и умереть от желтой лихорадки... Таков был мой план. Ницца осень 1851 Аркадий Аверченко 38 Аверченко Аркадий Тимофеевич, прозаик, журналист (27. 3. [15. 3.] 1881 Севастополь — 12. 3. 1925 Прага). Родился в семье мелкого торговца. Сначала был конторщиком Первый рассказ Аверченко был напечатан в 1903 в одной из газет Харькова, где он с 1906 по 1907 сотрудничал в сатирическом журнале «Штык». В конце 1907 Аверченко переехал в Санкт-Петербург. Там он был сотрудником и вскоре редактором сатирического журнала «Стрекоза», который в 1908 был преобразован в «Сатирикон». Будучи редактором и регулярным автором «Сатирикона», а с 1913 — «Нового Сатирикона», Аверченко стал одним из самых значительных сатириков последних лет царской России Его сборник «Веселые устрицы» (1910) переиздавался более 20 раз. Многие рассказы были инсценированы Он писал на темы дня, писал рецензии на театр, постановки и концерты, выступая под многочисленными псевдонимами Медуза Горгона, Фальстаф, фома Опискин, фольк, Ave; его юмор, рассказы появлялись под настоящим именем После запрета журнала в августе 1918 Аверченко бежал сначала на Украину, затем в 1919 — в Севастополь, где до конца 1920 занимался журналистской деятельностью и руководил собственным театром Аверченко эмигрировал 15. 11. 1920 в Константинополь и переселился в июне 1922 в Прагу. Он гастролировал в качестве юмориста во многих городах Европы Его рассказы публиковались в Берлине, Праге, Париже, Варшаве и других городах В СССР сборники вышли в 1927, 1964 и 1985. — Действие примерно 650 сатир, и юмор, рассказов и сценок Аверченко чаще всего разыгрывается на фоне будничной жизни большого города. В них критикуются общечеловеческие слабости, гораздо менее — политические условия. Жизнь царской России представлена сатирически, но большевистский режим изображается в эмигрантских произведений Аверченко в гораздо более резких тонах (см. Дюжина ножей в спину революции, 1921). Большого комизма достигает Аверченко в развитии алогичного и многопланового диалога. Сочинения: Рассказы (юмор.). В 3-х тт., 1910-11; т. 2 под назв. ««Зайчики на стене»; Восемь одноактных пьес, 1911; Что им нужно..., 1912; Миниатюры и монологи для сцены, 1912; Рассказы для выздоравливающих 5-е изд. — 1913; Чудеса в решете, 1915; Записки простодушного, KonstantinopeC, 1921, BerCin, 1923; Дюжина ножей в спину революции, Paris, 1921 и ж. «Юность», 1988, №8; Кипящий котел, KonstantinopeC, 1922; Дети, KonstantinopeC, 1922; Двенадцать портретов, Paris — PTaha, 1923; Чудаки на подмостках Пьеса, София, 1924; Отдых на крапиве, Warszawa, 1924; Рассказы циника, PYaha, 1925; Шутка Мецената, PYaha, 1925; Осколки разбитого вдребезги, Ленинград, 1926; Избранное, Washington, 1961; Юмористические рассказы, Москва, 1964; Оккультные науки, Москва, 1964; Салат из булавок. Рассказы и фельтетоны, New York, 1982. — Избр. соч. В 2-х тт., Москва, 1927; Избр. рассказы, Москва, 1985; Одиннадцать слонов, 1989; Битва в киселе, Москва, 1990; Шутка мецената. Подходцев и двое других, Москва, 1990. Лит.: О. Михайлов, в кн..: ЛЛ., «Юмор, рассказы», 1964 и «Избр. рассказы», 1985; Д.Л. Левицкий, Washington, 1973; Б. Прянишников, ж. «Новыйжурн.», №117, 1974;Л. Евстигнеева, в ее кн.. «Рус. сатир, лит-ра начала XX в.», 1977 и в «Рус. писатели 1900— 1917», 1989;Л. Дьяконов, ««Лит. Россия», 1988, 19.8. Короли у себя дома Все почему-то думают, что коронованные особы — это какие-то небожители, у которых на голове алмазная корона, во лбу звезда, а на плечах горностаевая мантия, хвост которой волочится сажени на три сзади. Ничего подобного. Я хорошо знаю, что в своей частной, интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные. Например, взять Ленина и Троцкого. На официальных приемах и парадах они — одно; а в своей домашней обстановке — совсем другое. Никаких громов, никаких перунов. Ну, скажем, вот: *** Серенькое московское утро. Кремль. Грановитая палата. За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий. Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук,— олицетворяет собой главное, сильное, мужское начало в этом удивительном супружеском союзе. Ленин — madame, представитель подчиняющегося, более слабого, женского начала. И он одет соответственно: затрепанный халатик, на nice нечто вроде платка, потому что в Грановитой палате всегда несколько сыровато, на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковровые туфли. Троцкий, посасывая мундштук, совсем, с головой, ушел в газетный лист; Ленин перетирает полотенцем стаканы. Молчание. Только самовар напевает свою однообразную вековую песенку. — Налей еще,— говорит Троцкий, не отрывая глаз от газеты. — Тебе покрепче или послабее? Молчание. — Да брось ты свою газету! Вечно уткнет нос так, что его десять раз нужно спрашивать. — Ах, оставь ты меня в покое, матушка! Не до тебя тут. — Ага! Теперь уже не до меня! А когда сманивал меня из-за границы в Россию,— тогда было до меня!.. Все вы, мужчины, одинаковы. — Поехала! 39 Троцкий вскакивает, нервно ходит по палате, потом останавливается. Сердито: — Кременчуг взят. На Киев идут. Понимаешь? — Что ты говоришь! А как же наши доблестные красные полки, авангард мировой революции?.. — Доблестные? Да моя бы воля, так я бы эту сволочь... — Левушка... Что за слово... — Э, не до слов теперь, матушка. Кстати: ты транспорт-то со снарядами послала в Курск? — Откуда же я их возьму, когда тот завод не работает, этот бастует... Рожу я тебе их, что ли? Ты вот о чем подумай! — Да? Я должен думать?! Обо всем, да? Муж и воюй, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает? Эти романчики пора уже оставить... — Что ты мне своей организацией глаза колешь?! — вспылил Ленин, нервно отбрасывая мокрое полотенце.— Нечего сказать — организовал страну: по улицам пройти нельзя: или рабочий мертвый лежит, или лошадь дохлая валяется. — А чего ж они, подлецы, не убирают... Я ведь распорядился, Господи! Простой чистоты соблюсти не могут. — Ах, да разве только это? Ведь нам теперь и глаз к соседям не покажи — засмеют. Устроили страну, нечего сказать; на рынке ни к чему приступу нет — курица. 8000 рублей, крупа — 3000, масло... э, да и что там говорить!! Ходишь на рынок, только расстраиваешься. — Ну, что ж... разве я тебе в деньгах отказывал? Не хватает — можно подпечатать. Ты скажи там, в экспедиции заготовления... — Э, да разве только это. А венгерская социальная революция... Курам на смех! Твой же этот самый придворный поэт во всю глотку кричал: Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем... Раздули пожар... тоже! Хвалилась синица море зажечь. Ну, с твоей ли головой такой страной управлять, скажи, пожалуйста?! — Замолчишь ли ты, проклятая баба! — гаркнул Троцкий, стукнув кулаком по столу.— Не хочешь, не нравится — скатертью дорога! — Скатертью? — вскричал Ленин и подбоченился.— Это куда же скатертью? Куда я теперь поеду, когда, благодаря твоей дурацкой войне, мы со всех сторон окружены? Завлек, поиграл, поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак? Знала бы — лучше пошла бы за Луначарского. Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого. — Не смей и имени этого соглашателя произносить!! Слышишь? Я знаю, ты ему глазки строишь, и он у тебя до третьего часу ночи просиживает; имей в виду: застану — искалечу. Это что еще? Слезы? Черт знает что! Каждый день скандал — чаю не дадут дома спокойно выпить! Ну, довольно! Если меня спросят — скажи, я поехал принимать парад доблестной Красной Армии. А то, если этих мерзавцев не подтягивать... Поняла? Положи мне папирос в портсигар да платок сунь в карман, чистый! Что у нас сегодня на обед?... Вот как просто живут коронованные особы. Горностай да порфира — это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит,— можно и в затрапезный шейный платок высморкаться. ДЮЖИНА НОЖЕЙ, НЕ УБИВШИХ РЕВОЛЮЦИЮ В 1921 году в Париже вышел нашумевший сборник рассказов и фельетонов известного русского писателя-юмориста, бывшего редактора журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон» Аркадия Аверченко, назывался он «Дюжина ножей в спину революции» Кажется, книга не оставляла сомнений в очевидной «огнем пышащей ненависти» к большевикам и новому строю в России. Тем неожиданней выглядит опубликованный в «Правде» отклик В. И. Ленина «Талантливая книжка». Давая отповедь «озлобленному почти до умопомрачения белогвардейцу», он тем не менее называет книгу Аверченко высокоталантливой и рекомендует некоторые произведения из нее перепечатать в советской России. Не странное ли поощрение политического врага? В. И Ленин преподал нам урок терпимости к инакомыслию, изгнанному из нашего обихода на долгие десятилетия. Аркадий Аверченко не принадлежал к представителям господствовавших классов — помещикам и фабрикантам, но оказался в одном с ними лагере отверженцев революции. Сегодня мы только подходим к ответу, почему случилось так, что многие передовые русские интеллигенты, мечтавшие об освобождении и счастье народном, не нашли своего места в революции. Более того, были изгнаны или вынуждены уехать, а значительная часть попала в жернова красного террора и сгинула в годы гражданской усобицы. Всего того, что произошло, не понять без учета позиций, например, А. М. Горького и В. Г. Короленко, которых уж никак не заподозришь в симпатиях к свергнутому царскому режиму. А ведь и они многого не приняли в революции и в первую очередь отношения ее к интеллигенции. Журнал «Новый Сатирикон» и его редактор А. Аверченко также заняли непримиримую позицию по отношению к Советской власти и большевикам. Примечателен отклик журнала на стихи Демьяна Бедного, призывавшего расправляться с интеллигенцией — фельетон «Человек, обросший волосами» («Новый Сатирикон», 1918. № 4). 40 В сентябре 1918 года журнал, как и другие оппозиционные издания, был закрыт Аверченко проделал тот же крестный путь, что и тысячи его соотечественников — из Севастополя в Константинополь, навсегда простившись с Родиной. Прочитав эти несколько рассказов в подборке «ЛК» иной читатель удивленно подумает какой же тут юмор?! Ибо как ни хотел бы А. Аверченко надеть на себя в «Дюжине ножей...» привычную маску весельчака, описывая революционные дни в России или эмигрантскую жизнь в Константинополе, ему это не очень удается: улыбка получается горькая, смех звучит сквозь слезы. Какой уж тут юмор, когда символом времени становится сапог, подминающий человеческие судьбы! А эмиграция?! А. Аверченко пишет: «Жестокий это боксер - Константинополь. Каменеет 82 лицо от ее ударов». Дюжина ножей Аркадия Аверченко не убило революцию. И хотя писатель ходил в «белогвардейцах», его эмигрантские рассказы и фельетоны на родине издавались, начиная с 1926 года, когда в библиотеке сатиры и юмора издательства «Земля и фабрика» начали выходить отдельными брошюрами. А в 1927 году вышла книжка «Развороченный муравейник», включившая в себя эмигрантские рассказы из «Дюжины ножей...» Умер А. Аверченко в 1925 году, похоронен в Праге. Рафаэль Соколовский Владимир Набоков Набоков Владимир Владимирович (псевд. до 1940 — В. Сирин), прозаик, поэт (22.4.1899) Санкт-Петербург — 2.7.1977 Лозанна). Дворянского происхождения. Отец — юрист, занимал ответственный государственный пост. Набоков эмигрировал в 1919 году. Изучал французскую литературу в Кембридже. В 1922-37 гг. жил в Берлине, занимаясь литераторской и переводческой деятельностью. Еще в Санкт-Петербурге Набоков частным образом напечатал два маленьких сборника своих стихов (1916 и 1918 гг.), некоторые стихи появились в журналах. В 1921-29 гг. он регулярно печатал стихи в газете «Руль» (Берлин), а в 1923 и 1930 гг. составил две книжки ИЭБР Первый написанный им роман назывался «Машенька» (1926), за ним до 1937 года последовало еще семь романов. «Король, дама, валет» (1928) напечатался как роман с продолжением в газете «Vossische Zei- tung». Роман «Камера обскура» (1932-33) к, 1963 году был переведен на 14 языков. Хотя Набоков приобрел мировую известность главным образом как прозаик, он, несомненно, столь же поэт и драматург (автор десяти пьес, из которых, шесть были написаны до первого романа). Набоков эмигрировал в Париж, где начиная с 1929 года все его романы появлялись в журнале «Современные записки». В последнем номере журнала (№70, 1940) напечатано начало романа «Solus Rex», оставшегося незаконченным. В Париже Набоков жил переводами, уроками иностранных языков. Немецкая оккупация заставила Набокова эмигрировать в США в 1940 году. С этого времени он писал по-английски, и перевел на английский некоторые значительные произведения русской литературы (А. Пушкина, М. Лермонтова). Кроме того, он снискал известность как, энтомолог. В 1948-59 гг. Набоков преподавал литературу, будучи профессором в Корнельском университете. В 1959 году он переселился в Швейцарию (Монтре), где, помимо работы над новыми романами, перевел на английский язых многие из написанных ранее. Произведения Набокова, о котором молчали десятилетиями, стали широко публиковаться в СССР с 1986 г. — Стихам Набокова свойственно религиозное умонастроение, человеческое существование предстает в них включенным в видимый и невидимый мир, что основывается на иррациональном знании о предопределенности судьбы человека в духовном мире и повторяемости воплощения душ. Стихи Набокова глубоки, лаконичны и ясны. Особое чувство и осознание слова, сказавшееся в стихах, составляет отличительную черту и всех последующих романов Набокова, в которых духовное содержание оттесняется на задний план ради игры самой романной формы, введения все новых точек зрения, прерывающих действие, пародирования литературных жанров, запутывания читателя в лабиринте повествования. Для его романов, драм и рассказов характерна парадоксальность положений, обусловливающая много слойность изображения, и эстетическое наслаждение художественной формой.. Среди писателей первой эмиграции Набоков занимает особое место. Поскольку он эмигрировал совсем молодым, только в некоторых первых его романах действие целиком или частично происходит на русской земле. В романе «Машенька» говорится о начале эмиграции, причем главная героиня возникает только в видениях и воспоминаниях В «Защите Лужина» (1929-30 гг.), романе о шахматном игроке, пограничная ситуация, где сходятся гениальность и душевная болезнь; на заднем плане проходят воспоминания о России и критика эмигрантской жизни в Берлине. В романе «Дар» (1937-38) биография Н Чернышевского переплетается с судьбой его вымышленного биографа, начинающего литератора. Другие русские и американские романы Набокова уходят от мира этих переживаний и в первую очередь — «Лолита» (1955) тему — об эротических отношениях между сорокалетним мужчиной и несозревшей двенадцатилетней девочкой, благодаря которому за Набоковым закрепилась слава, но который, возможно, присуждению ему Нобелевской премии. Первоначальный, короткий вариант романа «The Enchanter» (Волшебник) впервые опубликован в 1986 году на английском. The Enchanter, New York, 1986; Рассказы. Приглашение на казнь, Эссе, интервью. Москва, 1989; Лолита, Москва, 1991 и др. изд.; Машенька, Зашита ... Приглашение... Другие..., 1988; — Собр. соч. тт., Мосща, 1990; Пьесы, Мосща, 1990; вое пламя. Роман и рассказы, Сверд-1991; Романы, Москва, 1991; Романы, ербург, 1993; Романы Рассказы, Эссе, ербург, 1993; VP. Stegner, New York, 1966; A. Field, "on, 1967 и New York, 1977; N. The man, his work, сост. L.S. Dembo, Madison, 1967; J. Moynahan, Minneapolis, 1971; Rowe, New Yorfa Ann Arbor, 1981; хайлов, ж. «Наш современник», 1974, (A. Appel, в кн.: «The Bitter Air of 41 Exile», eley, Los Angeles/London, 1977; 3. Ша-кая. Paris, 1979; E. Pifer, Cambridge, V. Setchkareff, альм «Wiener istischer Almanach», 1980, №1; С. Давы-Miinchen, 1984; D.E. Morton, Reinde f, D. Rampton, Cambridge, 1984; D. Barton nson, Ann Arbor, 1985 и Princeton, 1990; тлый стол «В.Н.: Меж двух берегов», газ.»., 1988, 17.8.; А. Лебедев, ж. ««Зна-1989, №10; Ch. Hullen, Munchen, 1990; ark, ж. «Вопросы лит-ры», 1990, №3; asack, в его кн..: «Russische Autoren in elportrats», Stuttgart, 1994; биографии: D. Zimmer, Hamburg, 1964; New York, 1973. S. Schuman, Boston, 1979;, Ann Arbor, 1985; M Julian, New York,1986. Весна в Фиальте Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро: пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними), расплывчато очерченная гора св. Георгия менее чем когда-либо похожа на цветные снимки с нее, которые тут же туриста ожидают (с тысяча девятьсот десятого года, примерно, судя по шляпам дам и молодости извозчиков), теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня в аметистовых кристаллах и морским рококо раковин. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло оливково; никак не могут вспениться неповоротливые волны. Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все: и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсинную корку на старой, сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, странные следы мозаики. Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внятное, звучание Ялты; потому ли, что его сонная весна особенно умащивает душу, не знаю; но как я был рад очнуться в нем, и вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку! Я приехал ночным экспрессом, в каком-то своем, паровозном азарте, норовившем набрать с грохотом как можно больше туннелей; приехал невзначай, на день, на два, воспользовавшись передышкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей: всегда присутствующую на ясном севере моего естества, всегда плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а все-таки вне меня, систему счастья. Со ступеньки встал и пошел, с выпученным серым, пупастым животом, мужского пола младенец, ковыляя на калачиках и стараясь нести зараз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал, и тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой шеи и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее, на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики; с ним беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый продавец сложных, с лунным отливом, сластей в безнадежно полной корзине. Моросить не то перестало, не то Фиальта привыкла, и уже сама не знала, чем дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем. На ходу набивая из резинового кисета трубку, прочного вывозного сорта англичанин в клетчатых шароварах появился из-под арки и вошел в аптеку, где за стеклом давно изнемогали от жажды большие бледные губки в синей вазе. Боже мой, какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение, как все во мне благодарно отзывалось на шорохи, запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе еще ее не чующего! Голова у меня была прозрачна после бессоной ночи; я все понимал: свист дрозда в миндальном саду за часовней, и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха, дух переводящее море, и ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков по верху стены (за ней штукатурная гордость местного богатея), и объявление цирка, на эту стену наклеенное; пернатый индеец, на всем скаку выбросив лассо, окрутил невозможную зебру, а на тумбах, испещренных звездами, сидят одураченные слоны. Тот же англичанин теперь обогнал меня. Мельком, за одно со всем прочим, впитывая и его, я заметил, как, в сторону скользнув большим аквамариновым глазом с воспаленным лузгом, он самым кончиком языка молниеносно облизнулся. Я машинально посмотрел туда же и увидел Нину. Всякий раз, когда мы встречались с ней, за все время нашего пятнадцатилетнего... назвать в точности не берусь: приятельства? романа?... она как бы не сразу узнавала меня; и ныне тоже она на мгновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее, обвязанной лимонно-желтым шарфом, в исполненной любопытства, приветливой неуверенности... и вот уже вскрикнула, подняв руки, играя всеми десятью пальцами в воздухе, и посреди улицы, с откровенной пылкостью давней дружбы (с той же лаской, с какой быстро меня крестила, когда мы расставались), всем ртом трижды поцеловала меня и зашагала рядом со мной, вися на мне, прилаживая путем прыжка и глиссады к моему шагу свой, в узкой рыжей юбке с разрезом вдоль голени. — Фердинандушка здесь, как же, — ответила она и тотчас в свою очередь вежливенько и весело осведомилась о моей жене. — Шатается где-то с Сегюром, — продолжала она о муже,— а мне нужно кое-что купить, мы сейчас уезжаем. Погоди, куда это ты меня ведешь, Васенька? Собственно говоря, назад в прошлое, что я всякий раз делал при встрече с ней, будто повторяя все накопление действия сначала вплоть до последнего добавления, как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед. Теперь мы свиделись в туманной и теплой Фиальте, и я не мог бы с большим изяществом праздновать это свидание (перечнем, с виньетками от руки крашенными, всех прежних заслуг судьбы), зная я даже, что оно последнее; последнее, говорю; ибо я не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию, которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом. Я познакомился с Ниной очень уже давно, в тысяча девятьсот семнадцатом, должно быть, судя по тем местам, где время износилось. Было это в какой-то именинный вечер в гостях у моей тетки, в ее Лужском 42 имении, чистой деревенской зимой (как помню первый знак приближения к нему: красный амбар посреди белого поля). Я только что кончил лицей; Нина уже обручилась: ровесница века, она, несмотря на малый рост и худобу, а может быть благодаря им, была на вид значительно старше своих лет, точно так же, как в тридцать два казалась намного моложе. Ее тогдашний жених, боевой офицер из аккуратных, красавец собой, тяжеловатый и положительный, взвешивавший всякое слово на всегда вычищенных и выверенных весах, говоривший ровным ласковым баритоном, делавшимся еще более ровным и ласковым, когда он обращался к ней; словом, один из тех людей, все мнение о которых исчерпывается ссылкой на их совершенную порядочность (прекрасный товарищ, идеал секунданта), и которые, если уж влюбляются, то не просто любят, а боготворят, успешно теперь работает инженером в какой-то очень далекой тропической стране, куда за ним она не последовала. Зажигаются окна и ложатся, с крестом на спине, ничком на темный, толстый снег; ложится меж них и веерный просвет над парадной дверью. Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев; но воспоминание только тогда приходит в действие, когда мы уже возвращаемся в освещенный дом, ступая гуськом по узкой тропе среди сумрачных сугробов с тем скрип-скрип-скрипом, который, бывало, служил единственной темой зимней неразговорчивой ночи. Я шел в хвосте; передо мной в трех скользких шагах шло маленькое склоненное очертание; елки молча торговали своими голубоватыми пирогами; оступившись, я уронил и не сразу мог нащупать фонарь с мертвой батареей, который мне кто- то всучил, и тотчас привлеченная моим чертыханием, с торопящимся, оживленно тихим, смешное предвкушающим смехом, Нина проворно повернулась ко мне. Я зову ее Нина, но тогда я едва ли знал ее имя, едва ли мы с нею успели что-либо, о чем-либо... «Кто это?» — спросила она любознательно, а я уже целовал ее в шею, гладкую и совсем огненную за шиворотом, накаленную лисьим мехом, навязчиво мне мешавшим, пока она не обратила ко мне и к моим губам не приладила, с честной простотой, ей одной присущей, своих отзывчивых, исполнительных губ. Но взрывом веселья мгновенно разлучая нас, в сумраке началась снежная свалка, и кто-то, спасаясь, падая, хрустя, хохоча с запышкой, влез на сугроб, побежал, охнул сугроб, произвел ампутацию валенка. И потом до самого разъезда так мы друг с дружкой ни о чем и не потолковали, не сговаривались насчет тех будущих, в даль уже тронувшихся пятнадцати дорожных лет, нагруженных частями наших несобранных встреч, и следя за ней в лабиринте жестов и теней жестов, из которых состоял вечер (его общий узор могу ныне восстановить только по другим, подобным ему, вечерам, но без Нины), я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания, ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств, веселым, добрым, по возможности деятельным участием, точно женская любовь была родникововй водой, содержащей целебные соли, которой она из своего ковшика охотно поила всякого, только напомни. — Последний раз мы виделись, кажется, в Париже,—заметил я, чтобы вызвать одно из знакомых мне выражений на ее маленьком скуластом лице с темно-малиновыми губами; и действительно; она так усмехнулась, как будто я плоско пошутил или, подробнее, как будто все эти города, где нам рок назначал свидания, на которые сам не являлся, все эти платформы, и лестницы, и чуть-чуть бутафорские переулки, были декорациями, оставшимися от каких-то других доигранных жизней и столь мало относившимися к игре нашей судьбы, что упоминать о них было почти безвкусно. Я сопроводил ее в случайную лавку под аркадами; там, в бисерной полутьме, она долго возилась, перебирая какие-то красные кожаные кошельки, набитые нежной бумагой, смотря на подвески с ценой, словно желая узнать их возраст; затем потребовала непременно такого же, но коричневого, и когда, после десятиминутного шелеста, именно такой чудом отыскался, она было взяла из моих рук монеты, но вовремя опомнилась, и мы вышли, ничего не купив. Улица была все такая же лажная, неоживленная; чадом, волнующим татарскую мою память, несло из голых окон бледных домов; небольшая компания комаров занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела, спустя рукава до самой земли; двое рабочих в широких шляпах, закусывали сыром с чесноком, прислонившись к афишной доске, на которую были наклеены гусар, укротитель в усах и оранжевый тигр на белой подкладке, причем в стремлении сделать его как можно свирепее художник зашел так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое-что человеческое. — Au fond, я хотела гребенку, — сказала Нина с поздним сожалением. Как мне была знакома ее зыбкость, нерешительность, спохватки, легкая дорожная суета! Она всегда или только что приехала или сейчас уезжала. Если бы мне надо было предъявить на конкурс земного бытия образец ее позы, я бы, пожалуй, поставил ее у прилавка в путевой конторе, ноги свиты, одна бьет носком линолеум, локти и сумка на прилавке, за которым служащий, взяв из-за уха карандаш, раздумывает вместе с ней над планом спального вагона. В первый раз заграницей я встретил ее в Берлине, у знакомых. Я собирался жениться; она только что разошлась с женихом. Я вошел, увидел ее издали и машинально, но безошибочно, определил, оглянув других мужчин в комнате, кто из них больше знает о ней, чем знал я. Она сидела с ногами в углу дивана, сложив свое небольшое, удобное тело в виде зета; у каблучка стояла на диване пепельница; и всмотревшись в меня, и вслушавшись в мое имя, она отняла от губ длинный, как стебель, мундштук и протяжно, радостно воскликнула: «Нет!» (в значении «глазам не верю»), и сразу всем показалось, ей первой, что мы в давних приятельских отношениях: поцелуя она не помнила вовсе, но зато (через него все-таки) у нее осталость общее впечатление чего- то задушевного, воспоминание какой-то дружбы, в действительности никогда между нами не существававшей. Таким образом весь склад наших отношений был первоначально основан на небывшем, на 43 мнимом благе, если, однако, не считать за прямое добро ее беспечного, тороватого, дружеского любострастия. Встреча была совершенно ничтожна в смысле сказанных слов, но уже никакие преграды не разделяли нас, и, оказавшись с ней рядом за чайным столом, я бессовестно испытывал степень ее тайного терпения. Потом она пропадает опять, а спустя год я с женой провожал брата в Вену, и когда поезд, поднимая рамы и отворачиваясь, ушел, и мы направились к выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно около вагона парижского экспресса я увидел Нину, окунувшую лицо в розы, посреди группы людей, мне раздражительно незнакомых, кольцом стоявших и смотревших на нее, как зеваки смотрят на уличное препирательство, найденыша или раненого, то-есть явно провожавших ее. Она махнула мне цветами, я познакомил ее с Еленой Константиновной, и на этом ускорявшем жизнь вокзальном ветерке было достаточно обмена нескольких слов для того, чтобы две женщины, между собой во всем различные, уже со следующей встречи друг дружку называли по именам, так свободно уменьшая их, точно они у них порхали на устах с детства. Тогда-то, в синей тени вагона, был впервые упомянут Фердинанд: я узнал, что она выходит за него замуж. Пора было садиться, она быстро, но набожно всех перецеловала, влезла в тамбур, исчезла, а затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купе, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир, и было так, словно все мы, державшие руки в карманах, подглядывали ничего не подозревавшую жизнь за окном, покуда она не очнулась опять, по стеклу барабаня, затем вскидывая глаза, вешая картину, но ничего не получалось; кто-то помог ей. и она высунулась, страшно довольная; один из нас, уже вынужденный шагать, передал ей журнал и Таухнин (по-английски она читала только в поезде), все ускользало прочь с безупречной гладкостью, и я держал скомканный до неузнаваемости перронный билет, а в голове назойливо звенел, Бог весть почему выплывший из музыкального ящика памяти, другого века романс (связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви), который певала дальняя моя родственница, старая дева, безобразная, с желтым, как церковный воск, лицом, но одержимая таким могучим, упоительно- полным голосом, что он как огненное облако поглощал ее всю, как только она начинала: on dit que tu te maries, tu sais que j'en vais mourir, и этот мотив, мучительная обида и музыкой вызванный союз между венцом и кончиной, и самый голос певицы, сопроводивший воспоминание, как собственник напева, несколько часов подряд не давали мне покоя, да и потом еще возникали с растущими перерывами, как последние, все реже и все рассеяннее приплескивающие, плоские, мелкие волны или как слепые содрогания слабеющего била, после того как звонарь уже сидит снова в кругу своей веселой семьи. А еще через год или два я был по делу в Париже, и у поворота лестницы в гостинице, где я ловил нужного мне актера, мы опять без сговору столкнулись с ней: собиралась вниз, держала ключ в руке. «Фердинанд фехтовать уехал»,— сказала она непринужденно, и посмотрев на нижнюю часть моего лица, и про себя что-то быстро обдумав (любовная сообразительность была у нее бесподобна), повернулась и меня повела, виляя на тонких лодыжках, по голубому бобрику, и на стуле у двери ее номера стоял вынесенный поднос с остатками первого завтрака, следами меда на ноже и множеством крошек на сером фарфоре посуды, но комната была уже убрана, и от нашего сквозняка всосался и застрял волан белыми далиями вышитой кисеи промеж оживших половинок дверного окна, выходившего на узенький чугунный балкон, и лишь тогда, когда мы заперлись, они с блаженным выдохом отпустили складку занавески; а немного позже я шагнул на этот балкончик, и пахнуло с утренней пустой и пасмурной улицы сиреневатой сизостью, бензином, осенним кленовым листом: да, все случилось так просто, те несколько восклицаний и смешков, которые были нами произведены, так не соответствовали романтической терминологии, что уже негде было разложить парчовое слово: «измена», и так как я еще не умел чувствовать ту болезненую жалость, которая отравляла мои встречи с Ниной, я был, вероятно, совершенно весел (уж она-то наверное была весела), когда мы й ттуда поехали в какое-то бюро разыскивать какой- то ею утерянный чемодан, а потом отправились в кафе, где был со своей тогдашней свитой ее муж. Не называю фамилии, а из приличия даже меняю имя этого венгерца, пишущего по-французски, этого известного еще писателя... мне не хотелось бы распространяться о нем, но он выпирает из-под моего пера. Теперь слава его потускнела, и это меня радует: значит не я один противился его демонскому обаянию: не я один испытывал офиологи- ческий холодок, когда брал в руки очередную его книгу. Молва о таких, как он, носится резво, но вскоре тяжелеет, охлаждаясь до полузабвения, а уж история только и сохранит, что эпитафию да анекдот. Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове, со странным выжидательным выражением египетских глаз, этот мнимый весельчак действовал неотразимо на мелких млекопитаю щих. В совершенстве изучив природу вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, которое ставил выше звания писателя; я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в выдумке; и, не боясь его издевательски любезного взгляда, я ему признался однажды, что будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил бы по маскарадам. О ту пору, когда я встретился с ним, его книги мне были известны; поверхностный восторг, который я себе сперва разрешал, читая его, уже сменялся легким отвращением. В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад, какое-то сонно-знакомое расположение деревьев... но с каждым годом роспись становилась все гуще, розовость и лиловизна все грознее; и теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь. Но как он опасен был в своем расцвете, каким ядом прыскал, каким бичом хлестал, если его задевали! После вихря своего прохождения он оставлял за собой голую гладь, где ровнехонько лежал бурелом, да вился еще прах, да вчерашний рецензент, воя от боли, волчком вертелся во прахе. Гремел тогда по Парижу его «Passage a niveau», он был очень, как говорится, 44 окружен, и Нина (у которой гибкость и хваткость восполняли недостаток образования) уже вошла в роль, я не скажу музы, но близкого товарища мужа-творца; даже более: тихой советницы, чутко скользящей по его сокровенным извилинам, хотя на самом деле вряд ли одолела хоть одну из его книг, изумительно зная их лучшие подробности из разговора избранных друзей. Когда мы вошли в кафе, там играл дамский оркестр: я мимоходом заметил, как в одной из граненых колонн, облицованных зеркалами, отражается страусовая ляжка арфы, а затем тотчас увидел составной стол, за которым, посреди долгой стороны и спиной к плющу, председательствовал Фердинанд, и на мгновение эта поза его, положение расставленных рук и обращенные к нему лица сотрапезников напомнили мне с кошмарной карикатурностью... что именно напомнили, я сам тогда не понял, а потом, поняв, удивился кощунственности сопоставления, не более кощунственного, впрочем, чем самое искусство его. Он поглядывал на музыку; на нем был под каштановым пиджаком белый вязанный свэтер с высоким сборчатым воротом; над зачесанными с висков волосами нимбом стоял папиросный дым, повторенный за ним в зеркале; костистое и, как это принято определять, породистое лицо было неподвижно, только глаза скользили туда и сюда, полные удовлетворения. Изменив заведениям очевидным, где профан склонен был бы искать как раз его, он облюбовал это приличное, скучноватое кафе и стал его завсегдатаем из особого ему крайне свойственного чувства смешного, находя восхитительно забавной именно жалкую приманку этого кафе: ор кестр из полдюжины прядущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать грудь, лишнюю в мире гармонии. После каждого номера на него находила эпилепсия рукоплесканий, уже возбуждавших (так мне казалось) первое сомнение в хозяине кафе и в его бесхитростных посетителях, но весьма веселивших приятелей Фердинанда. Тут были: живописец с идеально голой, но слегка обитой головой, которую он постоянно вписывал в свои картины (Саломея с кегельным шаром); и поэт, умевший посредством пяти спичек представить всю историю грехопадения, и благовоспитанный, с умоляющими глазами, педераст; и очень известный пианист, так с лица ничего, но с ужасным выражением пальцев; и молодцеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал; сидели ту г и еще всякие господа, теперь спутавшиеся у меня в памяти, и из всех двое, трое, наверное, погуляли с Ниной. Она была единственной женщиной за столом, сутулилась, присосавшись к соломинке, и с какой-то детской быстротой понижался уровень жидкости в бокале, и только когда у нее на дне забулькало и запищало, и она языком отставила соломинку, только тогда я наконец поймал ее взгляд, который упорно ловил, все еще не постигая, что она успела совершенно забыть случившееся утром; настолько крепко забыть, что, встретившись со мной глазами, она ответила мне вопросительной улыбкой, и, только всмотревшись, спохватилась вдруг, что следует улыбнуться иначе. Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув как мебель, инструменты, временно ушли с эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком, с красной штучкой в петлице и седой бородой, в середке вместе с усами образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта. Фердинанда всегда почему-то смешили регалии старости. Я в Париже пробыл недолго, но за три дня совместного валанданья у меня с Фердинандом завязались те жизнерадостные отношения, которые он был такой мастер починать. Впоследствии я даже оказался ему полезен: моя фирма купила у него фабулу для фильмы, и уж он тогда замучил меня телеграммами. За эти десять лет мы и на «ты» перешли, и оставили в двух-трех пунктах небольшое депо общих воспоминаний... Но мне всегда было не по себе в его присутствии, и теперь, узнав, что и он в Фиальте, я почувствовал знакомый упадок душевных сил; только одно ободряло меня: недавний провал его новой пьесы. И вот уже он шел к нам навстречу, в абсолютно непромокаемом пальто с поясом, клапанами, фотоаппаратом через плечо, в пестрых башмаках, подбитых гуттаперчей, сося невозмутимо (а все же с оттенком смотрире- какое-сосу-смешное) длинный леденец лунного блеска, специальность Фиальты. Рядом с ним чуть пританцовывающей походкой шел Сегюр, хлыщеватый господин с девичьим румянцем до самых глаз и гладкими иссиня-черными волосами, поклонник изящного и набитый дурак; он на что-то был Фердинанду нужен (Нина, при случае, с неподражаемой своей стонущей нежностью, ни к чему не обязываю щей, вскользь восклицала: «Душка такой, Сегюр», но в подробности не вдавалась). Они подошли, мы с Фердинандом преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть, зная по опыту, что это, собственно, все, но делая вид, что это только начало; так у нас водилось всегда: после обычной разлуки мы встречались под аккомпанимент взволнованно настраиваемых струн, в суете дружелюбия, в шуме рассаживающихся чувств; но капельдинеры закрывали двери, и уж больше никто не впускался. Сегюр пожаловался мне на погоду, а я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит: весеннюю, серую, оранжерейно-влажную сущность Фиальты если и можно было назвать погодой, то находилась она в такой же мере вне всего того, что могло служить нам с ним предметом разговора, как худенький Нинин локоть, который я держал между двумя пальцами, или сверкание серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горбатой мостовой. Мы вчетвером двинулись дальше, все с той же целью неопределенных покупок. «Какой чудный индеец!»,— вдруг крикнул с неистовым аппетитом Фердинанд, сильно теребя меня за рукав, пихая меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девочке с ожерельем; мы остановились, чтобы его подождать: присев на корточки, он что-то говорил, обращаясь к ее опущенным, будто смазанным сажей, ресницам, а потом догнал нас, осклабясь и делая одно из тех похабных замечаний, которыми любил орлить свою речь. Затем внимание его привлек выставленный в сувенирной лавке несчастный уродливый предмет: каменное подобие горы св. Георгия с черным туннелем у подножия, оказывавшимся отверстием чернильницы, и со сработанным в виде железнодорожных рельсов желобом для перьев. Разинув рот, дрожа от ликования, он повертел в руках эту пыльную, громоздкую и совершенно невменяемую вещь, заплатил, не торгуясь, и, все еще с открытым ртом, вышел, неся урода. Как деспот окружает себя горбунами и карлами, он пристращивался к той или другой безобразной вещи, это состояние могло длиться от пяти минут до нескольких дней, и даже дольше, если вещь была одушевленная. 45 Нина стала мечтать о завтраке и, улучив минуту, когда Фердинанд и Сегюр зашли на почтамт, я поторопился ее увести. Сам не понимаю, что значила для меня эта маленькая узкоплечая женщина, с пушкинскими ножками (как при мне сказал о ней русский поэт, чувствительный и жеманный, один из немногих людей, вздыхавших по ней платонически), а еще меньше понимаю, чего'от нас хотела судьба, постоянно сводя нас. Я довольно долго не видел ее после той парижской встречи, а потом как-то прихожу домой и вижу: пьет чай с моей женой и просматривает на руке с просвечивающим обручальным кольцом какие-то шелковые чулки, купленные по дешевке. Как-то осенью мне показали ее лицо в модном журнале. Как-то на Пасху она мне прислала открытку с яйцом. Однажды, по случайному поручению зайдя к незнакомым людям, я увидел среди пальто на вешалке (у хозяев были гости) ее шубку. В другой раз она кивнула мне из книги мужа из-за строк, относившихся к эпизодической служанке, но приютивших ее (вопреки, быть может, его сознательной воле): «Ее облик, — писал Фердинанд, — был скорее моментальным снимком природы, чем кропотливым портретом, так что припоминая его, вы ничего не удержали, кроме мелькания разъединенных черт: пушистых на свет выступов скул, янтарной темноты быстрых глаз, губ, сложенных в дружескую усмешку, всегда готовую перейти в горячий поцелуй». Вновь и вновь она впопыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основной текст. Раз, когда моя семья была на даче, я писал, лежа в постели, в мучительно солнечную пятницу (выколачивали ковры), я услышал ее голос в прихожей: заехала, чтобы оставить какой- то в дорожных орденах сундук, и я никогда не дописал начатого, а за ее сундуком, через много месяцев явился симпатичный немец, который (по невыразимым, но несомненным признакам) состоял в том же, очень международном союзе, в котором состоял и я. Иногда, где- нибудь среди общего разговора, упоминалось ее имя, и она сбегала по ступеням чьей-нибудь фразы, не оборачиваясь. Попав в пиренейский городок, я провел неделю в доме ее друзей, она тоже гостила у них с мужем, и я никогда не забуду первой ночи, мной проведенной там: как я ждал, как я был убежден, что она проберется ко мне, но она не пришла, и как бесновались сверчки в орошенной луной, дрожащей бездне скалистого сада, как журчали источники, и как я разрывался между блаженной, южной, дорожной усталостью и дикой жаждой ее вкрадчивого прихода, розовых щиколок над лебяжьей опушкой туфелек, но гремела ночь, и она не пришла, а когда на другой день, во время общей прогулки по вересковым холмам, я рассказал ей о своем ожидании, она всплеснула руками от огорчения и сразу быстрым взглядом прикинула, достаточно ли удалились спины жестикулирующего Фердинанда и его приятеля. Помню, как я с ней говорил по телефону через половину Европы, долго не узнавая ее лающего голоска, когда она позвонила мне по делу мужа: и помню, как однажды она снилась мне: будто моя старшая девочка прибежала сказать, что у швейцара несчастье, и когда я к нему спустился, то увидел, что там, в проходе, на сундуке, подложив свернутую рогожку под голову, бледная и замотанная в платок, мертвым сном спит Нина, как спят нищие переселенцы на Богом забытых вокзалах. И что бы ни случалось со мной или с ней, а у нее тоже, конечно, бывали свои семейные «заботы- радости» (ее скороговорка), мы никогда ни о чем не расспрашивали друг дружку, как никогда друг о дружке не думали в перерывах нашей судьбы, так что, когда мы встречались, скорость жизни сразу менялась, атомы перемещались, и мы с ней жили в другом, менее плотном, времени, измерявшемся не разлуками, а теми несколькими свиданиями, из которых сбивалась эта наша короткая, мнимо легкая жизнь. И с каждой новой встречей мне делалось тревожнее; при этом подчеркиваю, что никакого внутреннего разрыва чувств я не испытывал, ни тени трагедии нам не сопутствовало, моя супружеская жизнь оставалась неприкосновенной, а с другой стороны Фердинанд (сам эклектик в плотском быту, изобретательнейшими способами обирающий природу) предпочитал на жену не оглядываться, хотя, быть может, извле кал косвенную и почти невольную выгоду из ее быстрыхсвязей. Мне делалось тревожно оттого, что попусту тратилось что-то милое, изящное и неповторимое, которым я злоупотреблял, выхватывая наиболее случайные, жалко очаровательные крупицы и пренебрегая всем тем скромным, но верным, что, может быть, шёпотом обещало оно. Мне было тревожно, оттого что я как-никак принимал Нинину жизнь, ложь и бред этой жизни. Мне было тревожно, оттого что, несмотря на отсутствие разлада, я все-таки был вынужден, хотя бы в порядке отвлеченного толкования собственного бытия, выбирать между миром, где я как на картине сидел с женой, дочками, доберман-пинчером (полевые венки, перстень и тонкая трость), между вот этим счастливым, умным, добрым миром... и чем? Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной, жизни едва вообразимой, напоенной наперед страстной, нестерпимой печалью, жизни, каждое мгновение которой прислушивалось бы, дрожа, к тишине прошлого? Глупости, глупости! Да и она, связанная с мужем крепкой каторжной дружбой... Глупости! Так что же мне было делать, Нина, с тобой, куда было сбыть запас грусти, который исподволь уже накопился от повторения наших как будто беспечных, а на самом деле безнадежных встреч! Фиальта состоит из старого и нового города; но между собой новый и старый переплелись... и вот борются, не то чтобы распутаться, не то чтобы вытеснить друг друга, и тут у каждого свои приемы: новый борется честно пальмовой просадью, фасадом меняльной конторы, красным песком тенниса, старый же из-за угла выползает улочкой на костылях или папертью обвалившейся церкви. Направляясь к гостинице, мы прошли мимо еще недостроенной, еще пустой и сорной внутри, белой виллы, на стене которой: опять все те же слоны, расставя чудовищно-младенческие колени сидели на тумбищах; в эфирных пачках наездница (уже с надрисованными усами) отдыхала на толстом коне; и клоун с томатовым носом шел по канату, держа зонтик, изукрашенный все теми же звездами: смутное воспоминание о небесной родине циркачей. Тут, в бельэтаже Фиальты, гораздо курорт нее хрустел мокрый гравий, и слышнее было ленивое уханье моря. На заднем дворе гостиницы поваренок с ножом бежал за развившей гоночную скорость курицей. Знакомый чистильщик сапог с беззубой улыбкой предлагал мне свой черный престол. Под платанами стояли немецкой марки мотоциклетка, старый грязный лимузин, еще сохранивший идею каретности, и желтая, похожая на жука, машина: «Наша, то-есть Сегюра,—сказала Нина, добавив: — поезжай-ка ты, Васенька, с нами, а?», хотя отлично знала, что я не могу поехать. По лаку над крыльников пролег гуаш неба и ветвей; в металле одного из снарядо 46 подобных фонарей мы с ней сами отразились на миг, проходя по окату, а потом, через несколько шагов, я почему-то оглянулся и как бы увидел то, что действительно произошло через полтора часа: как они втроем усаживались, в автомобильных чепцах, улыбаясь и помахивая мне, прозрачные, как призраки, сквозь которые виден цвет мира, и вот Дернулись, тронулись, уменшились (Нинин последний десятипалый привет): но на самом деле автомобиль стоял еще неподвижно, гладкий и целый, как яйцо, а Нина со мной входила на стеклянную веранду отдельного ресторана, и через окно мы уже видели, как (другим путем, чем пришли мы) приближаются Фердинанд и Сегюр. На веранде, где мы завтракали, не было никого, кроме недавно виденного мной англичанина; на столике перед ним стоял большой стакан с ярко-алым напитком, бросавшим овальный отсвет на скатерть. Я заметил в его прозрачных глазах то же упрямое вожделение, которое уже раз видел, но теперь оно никоим образом не относилось к Нине, на нее он не смотрел совершенно, а направлял пристальный, жадный взгляд на верхний угол широкого окна, у которого сидел. Содрав с маленьких сухощавых рук перчатки, Нина последний раз в жизни ела моллюски, которые так любила. Фердинанд тоже занялся едой, и я воспользовался его голодом, чтобы завести разговор, дававший мне тень власти над ним: именно я упомянул о недавней его неудаче. Пройдя небольшой период модного религиозного прозрения, во время которого и благодать сходила на него, и предпринимались им какие-то сомнительные паломничества, завершившиеся и вовсе скандальной историей, он обратил свои темные глаза на варварскую Москву. Меня всегда раздражало самодовольное убеждение, что крайность в искусстве находится в некой метафизической связи с крайностью в политике, при настоящем соприкосновении с которой изысканнейшая литература, конечно, становится, по ужасному, еще мало исследованному свиному закону, такой же затасканной и общедоступной серединой, как любая идейная дребедень. В случае Фердинанда этот закон, правда, еще не действовал: мускулы его музы были еще слишком крепки (не говоря о том, что ему было наплевать на благосостояние народов), но от этих озорных узоров, не для всех к тому же вразумительных, его искусство стало еще гаже и мертвее. Что касается пьесы, то никто ничего не понял в ней; сам я не видел ее, но хорошо представлял себе эту гиперборейскую ночь, среди которой он пускал по невозможным спиралям разнообразные колеса разъятых символов; и теперь я не без удовольствия спросил его, читал ли он критику о себе. — Критика! — воскликнул он. — Хороша критика! Всякая темная личность мне читает мораль. Благодарю покорно. К моим книгам притрагиваются с опаской, как к неизвестному электрическому аппарату. Их разбирают со всех точбк зрения, кроме существенной. Вроде того, как если бы натуралист, толкуя о лошади, начал говорить о седлах, чепраках или Mme de V он назвал даму литературного света, в самом деле очень похожую на оскаленную лошадь). Я тоже хочу этой голубиной крови,— продолжал он тем же громким, рвущим голосом, обращаясь к лакею, который понял его желание, посмотрев по направлению перста, бесцеремонно указывавшего на стакан англичанина. Сегюр упомянул имя общего знакомого, художника, любившего писать стекло, и разговор принял менее оскорбительный характер. Между тем англичанин вдруг решительно поднялся, встал на стул, от туда шагнул на подоконник и, выпрямившись во весь свой громадный рост, снял с верхнего угла оконницы и ловко перевел в коробок ночную бабочку с бобровой спинкой. — ...это, как белая лошадь Вувермана, — сказал Фердинанд, рассуждая о чем-то с Сегюром. — Tu es tres hippique na matin, — заметил тот. Вскоре они оба ушли телефонировать. Фердинанд необыкновенно любил эти телефонные звонки дальнего следования и особенно виртуозно снабжал их, на любое расстояние, дружеским теплом, когда надобно было, как например сейчас, заручиться даровым ночлегом. Откуда-то издали доносились звуки трубы и цитры. Мы с Ниной пошли бродить снова. Цирк, видимо, выслал гонцов: проходило рекламное шествие; но мы не застали его начала, так как оно завернуло вверх, в боковую улочку: удалялся золоченый кузов какой-то повозки, человек в бурнусе провел верблюда, четверо неважных индейцев один за другим пронесли на древках плакаты, а сзади, на очень маленьком пони с очень большой чолкой, благоговейно сидел частный мальчик в матроске. Помню, мы проходили мимо почти высохшей, но все еще пустой кофейни; официант осматривал (и, быть может, потом приголубил) страшного подкидыша: нелепый письменный прибор, мимоходом оставленный на перилах Фердинандом. Помню еще; нам понравилась старая каменная лестница, и мы полезли наверх, и я смотрел на острый угол нининого восходящего шага, когда, подбирая юбку, чему прежде учила длина, а теперь узость, она поднималась по седым ступеням; от нее шло знакомое тепло, и, поднимаясь мыслью рядом с ней, я видел нашу предпоследнюю встречу, на званом вечере в парижском доме, где было очень много народу, и мой милый друг Jules Darboux, желая мне оказать какую-то тонкую эстетическую услугу, тронул меня за рукав, говоря: «Я хочу тебя познакомить...», и подвел меня к Нине, сидевшей в углу дивана, сложившись зетом, с пепельницей у каблучка, и Нина отняла от губ длинный бирюзовый мундштук и радостно, протяжно произнесла: «Нет!», и потом весь вечер у меня разрывалось сердце, и я переходил со своим липким стаканчиком от группы к группе, иногда издали глядя на нее (она на меня не глядела), слушал разговоры, слушал господина, который другому говорил: «Смешно, как они одинаково пахнут, горелым сквозь духи, все эти сухие хорошенькие шатеночки», и, как часто бывает, пошлость, неизвестно к чему относившаяся, крепко обвилась вокруг воспоминания, питаясь его грустью. Поднявшись по лестнице, мы очутились на щербатой площадке: отсюда видна была нежно-пепельная гора св. Георгия с собранием крапинок костяной белизны на боку (какая-то деревушка); огибая подножье, бежал дымок невидимого поезда и вдруг скрылся; еще ниже виден был за разнобоем крыш единственный кипарис, издали похожий на завернутый черный кончик акварельной кисти; справа виднелось море, серое, в светлых морщинах. У ног наших валялся ржавый ключ, и на стене полуразрушенного дома, к которой площадка примыкала, остались висеть концы какой-то проволоки... Я подумал о том, что некогда тут была жизнь, семья 47 вкушала по вечерам прохладу, неумелые дети при свете лампы раскрашивали картинки. Мы стояли, как будто слушая что-то; Нина, стоявшая выше, положила руку мне на плечо, улыбаясь и осторожно, так чтобы не разбить улыбки, целуя меня. С невыносимой силой я пережил (или так мне кажется теперь) все, что когда-либо было между нами, начиная вот с такого же поцелуя, как этот; и я сказал, наше дешевое, официальное ты заменяя тем одухотворенным, выразительным вы, к которому кругосветный пловец возвращается, обогащенный кругом: «А что, если я вас люблю?» Нина взглянула, я повторил, я хотел добавить... но что-то, как летучая мышь, мелькнуло по ее лицу, быстрое, странное, почти некрасивое выражение, и она, которая запросто, как в раю, произносила непристойные словечки, смутилась; мне тоже стало неловко... «Я пошутил, пошутил»,— поспешил я воскликнуть, слегка обнимая ее под правую грудь. Откуда-то появился у нее в руках плотный букет темных, мелких, бескорыстно пахучих фиалок, и, прежде чем вернуться к гостинице, мы еще постояли у парапета, и все было по-прежнему безнадежно. Но камень был, как гело, теплый, и внезапно я понял то, чего, видя, не понимал дотоле, почему давеча так сверкала серебряная бумажка, почему дрожал отсвет стакана, почему мерцало море: белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем, все исчезало, и я уже стоял на вокзале, в Милане, с газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за Фиальтой крушение, влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка, причем Фердинанд и его приятель, неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи, тогда как Нина, несмотря на свое давнее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной. Париж, 1938 г. Королек Собираются, стягиваются с разных мест вызываемые предметы, причем иным приходится преодолевать не только даль, но и давность: с кем больше хлопот, с тем кочевником или с этим — с молодым тополем, скажем, который рос поблизости, но теперь давно срублен, или с выбранным двором, существующим и по сей час, но находящимся далеко отсюда? Поторопитесь, пожалуйста. Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже пришел и стал, где ему приказано — у высокой кирпичной стены — целиком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонькие балконы. Там и сям распределяются по двору: бочка, еще бочка, легкая тень листвы, какая-то урна и каменный крест, прислоненный к стене. И хотя все это только намечено, и еще многое нужно дополнить и доделать, но на один из балкончиков уже выходят живые люди—братья Густав и Антон, а во двор вступает, катя тележку с чемоданом и кипой книг, новый жилец — Романтовский. Со двора, особенно если день солнечный, и окна настежь раскрыты, комнаты кажутся налитыми густой чернотой (всегда где-нибудь да бывает ночь — часть суток внутри, а часть снаружи). Романтовский посмотрел на черные окна, на двоих пучеглазых мужчин, наблюдавших за ним с балкона, и, подняв чемодан на плечо, качнувшись, точно кто хватил его по затылку, ввалился в дом. В блеске солнца остались тележка с книгами, бочка, другая бочка, мигающий тополек и надпись дегтем на кирпичной стене. Голосуйте за список номер такой-то. Ее перед выборами намалевали, вероятно, братья. Мы устроим мир так, всяк будет потен, и всяк будет сыт. Будет работа, будет что жрать, будет чистая, теплая, светлая. (Романтовский вселился в соседнюю. Она была еще хуже ихней. Но под кроватью он нашел гуттаперчевую куколку: тут до него жил, должно быть, семейный). Однако, несмотря на то, что мир не обратился еще окончательно и полностью в состояние вещественности, а еще хранил там и сям области неосязаемые и неприкосновенные, братья чувствовали себя в жизни плотно и уверенно. Старший, Густав, служил на мебельном складе; младший находился временно без работы, но не унывал. Сплошь розовое лицо Густава с длинными, торчащими, льняными бровями. Его широкая, как шкап, грудная клетка, и вечный пуловер из крутой серой шерсти, и резинки на сгибах толстых рук,— чтобы ничего не делалось спустя рукава. Оспой выщербленное лицо Антона с темными усами, подстриженными трапецией. Его красная фуфайка и жилистая худощавость. Но когда они оба облокачивались на железные перильца балкона, зады были у них точь-в-точь одинаковые — большие, торжествующие, туго обтянутые по окатам одинаковым клетчатым сукном. Еще раз: мир будет потен и сыт. Бездельникам, паразитам и музыкантам вход воспрещен. Пока сердце качает кровь, нужно жить, черт возьми. Густав вот уже два года копил деньги, чтобы жениться на Анне, купить буфет, ковер. По вечерам раза три в неделю она приходила—дебелая, полные руки, широкая переносица в веснушках, свинцовая тень под глазами, раздвинутые зубы, из которых один к тому же выбит. Втроем дули пиво. Она поднимала к затылку голые руки, показывая блестящее рыжее оперение подмышками, и, закинув голову, так разевала рот, что было видно все небо и язычок гортани, похожий на гузок вареной курицы. Обоим братьям был по вкусу ее анатомический смех, они усердно щекотали ее. Днем, пока брат был на работе, Антон сидел в дружественном кабаке или валялся среди одуванчиков на холодной и яркой еще траве на берегу канала и следил с завистью, как громкие молодцы грузят уголь на баржу, или бессмысленно смотрел вверх в праздное голубое небо, навевающее сон. Но вот,— что-то в налаженной жизни братьев заскочило. Еще тогда, когда Романтовский вкатывал тележку во двор, он возбудил в них и раздражение и любопытство. Безошибочным своим нюхом они почуяли: этот не как все. Обыкновенный смертный ничего бы такого на первый взгляд в Романтовском не увидал, но братья увидали. Он, например, ходил не как все: ступая, 48 особенно, приподнимался на упругой подошве: ступит и взлетит, точно на каждом шагу была возможность разглядеть нечто незаурядное поверх заурядных голов. Был он что называется дылда, с бледным востроносым лицом и ужасно беспокойными глазами. Из коротких рукавов двубортного пиджака с какой-то назойливой и никчемной очевидностью (вот и мы, что нам делать?) вылезали долгие кисти рук. Уходил он и приходил в неопределенные часы. В один из первых же дней Антон видел, как он стоит у книжного лотка и приценивается, или даже купил, ибо торговец проворно побил одну книжку о другую — пыльные — и зашел с ними за лоток. Выяснились и другие причуды: свет горит почти всю ночь; необщителен. Раздается голос Антона: — Этот франт зазнается. Надо бы посмотреть на него поближе. — Я ему продам трубку, — сказал Густав. Туманное происхождение трубки. Ее как-то принесла Анна, но бра тья признавали только цыгарки. Дорогая, еще необкуренная, с полым вставным стерженьком в прямом мундшутке. К ней — замшевый чехольчик. Кто там? Что вам нужно? — спросил Романтовскии через дверь. — Соседи, соседи, — ответил Густав басом. И соседи вошли, жадно озираясь. На столе обрубок колбасы на бумажке и стопка криво сложенных книг—одна раскрыта на картинке: многопарусные корабли и сверху в углу летящий младенец с надутыми щеками. —Давайте знакомиться,— сказали братья.— Живем бок-о-бок, можно сказать, а все как-то... На комоде спиртовка и два апельсина. Рад познакомиться,— тихо сказал Романтовский и, присев на край постели, наклонив лоб с налившейся жилой, принялся шнуровать башмаки. — Вы отдыхали,— сказал с грозной вежливостью Густав,—мы к вам не вовремя... Тот ничего, ничего не ответил; но вдруг выпрямился, повернулся к окну, поднял палец и замер. Братья посмотрели: окно как окно — облако, макушка тополя, стена напротив. — Вы разве не видите? — спросил Романтовский. Они, красный и серый, подошли к окну, даже высунулись, став одинаковыми. Ничего. И внезапно оба почувствовали: что-то не так — ой, не так! Обернулись. Романтовский в неестественной позе стоял возле комода. — Должно быть, показалось,— сказал он, не глядя на них. Пролетело как будто... Я однажды видел, как упал аэроплан. — Это бывает,—согласился Густав.— А мы зашли неспроста. Не желаете ли купить? Совершенно новая... И футляр есть... — Футляр? Вот как. Я, знаете, редко курю. — Так будете чаще. Посчитаем недорого. Три с полтиной. — Три с полтиной. Вот как. Он вертел трубку в руках, прикусив нижнюю губу, что-то соображая. Его зрачки не глядели на трубку, а ходили вправо и влево маятником. Между тем братья стали раздуваться, расти, они заполнили всю комнату, весь дом, и затем выросли из него. По сравнению с ними, тополек был уже не больше игрушечных деревец, таких валких, их крашеной ваты, на зеленых круглых подставках. Дом из пыльного картона со слюдяными окнами доходил братьям до колен. Огромные, победоносно пахнущие потом и пивом, с бессмысленными говяжьими голосами, с отхожим местом взамен мозга, они возбуждают дрожь унизительного страха. Я не знаю, почему они прут на меня. Умоляю вас, отвяжитесь, я не трогаю вас, не трогайте и вы меня—я уступлю вам —только отвяжитесь. — Но мелочью у меня не наберется,— тихо сказал Романтовский. — Вот разве что разменяете десятку. Разменяли и, ухмыляясь, ушли. Проверенную на свет ассигнацию Густав спрятал в железную копилку. Соседу однако они покоя не дали. Их просто бесило, что, невзирая на состоявшееся знакомство, человек оставался все таким же неприступным. Он избегал с ними встреч, так что приходилось подстерегать и ловить его, чтобы на миг заглянуть в его ускользающие зрачки. Обнаружив ночную жизнь его лампы, Антон не выдержал и, босиком подойдя к двери, из-под которой натянутой золотой нитью сквозил свет, постучал. Но Романтовский не отозвался. — Спать, спать,— сказал Антон, хлопая ладонью по двери. Свет молча глядел сквозь щель. Антон потеребил ручку. Золотая нить вдруг оборвалась. С тех пор оба, особенно Антон, благо днем не работал, установили наблюдение за бессоницей соседа. Но враг был хитер и наделен тонким слухом. Как бы тихонько ни приближаться к двери, свет за ней мгновенно погасал, будто его и вовсе не было,— и только если очень долго стоять, затаив дыхание, в холодном коридоре, можно было дождаться 102 возвращения чуткого луча. Так падают в обморок жуки. Слежка оказывалась весьма изнурительной. Наконец братья поймали его как-то на лестнице и затеснили. — Предположим, я привык читать по ночам. Какое вам дело? Дайте мне пройти, пожалуйста. Когда он повернулся, Густав в шутку сбил с него шляпу. Романтовский поднял ее, ничего не сказав. Через несколько дней вечером, улучив мгновение — он возвращался из уборной и не успел юркнуть к себе,— братья столпились вокруг него. Их было только двое, но все-таки они ухитрились столпиться— и пригласили его зайти к ним. — Есть пивцо,— сказал Густав, подмигнув. Он попытался было отказаться. 49 — Ну чего там, пойдем! — крикнули братья, взяли его подмышки и повлекли. (При этом они чувствовали, какой он худой, тонкие предплечья, слабые, нестерпимый соблазн — эх бы, сжать хорошенько, до хруста,— эх, трудно сдержаться, ну хотя бы ощупать, на ходу, так, легонько...) — Больно,—сказал Романтовский. Оставьте, прошу вас. Я могу идти и один. Пивцо, большеротая невеста Густава, тяжелый дух. Романтовского попробовали напоить. Без воротничка, с медной запонкой под большим беззащитным кадыком, с длинным бледным лицом и трепещущими ресницами, он в сложной позе сидел на стуле, кое-что подкрутив, а кое-что выгнув, и когда встал, раскрутился как спираль. Его впрочем, заставили скрутиться снова, и по совету братьев Анна села к нему на колени, и он, косясь на вздутый подъем ноги в слишком тесной упряжке туфли, преодолевал как мог тоску и не смел косную, рыжую сбросить. На минуту им показалось, что он сломлен, что он свой, и Густав даже сказал: —Вот видишь. Зря брезговал нашей компанией. Расскажи-ка нам что- нибудь. Нам обидно, что ты все как-то помалкиваешь. Что это ты читаешь по ночам? Старые, старые сказки,— сказал Романтовский таким голосом, что братьям вдруг стало очень скучно. Скука была грозная, душная, но хмель не давал грозе разразиться, а напротив клонил ко сну. Анна сползла с колен Романтовского и задела уже спящим бедром стол: пустые бутылки качнулись, как кегли, и одна упала. Братья клонились, валились, зевали, глядя сквозь сонные слезы на гостя. Он, трепеща и лучась, вытянулся и стал суживаться, и постепенно пропал. Так дальше нельзя. Он отравляет жизнь честным людям. Еще, пожалуй, в конце месяца съедет — целый, неразобранный, гордо отворотив нос. Мало того, что он двигается и дышит не как все,— нам никак не удается схватить разницу, нащупать ушко, за которое можно было бы его вытянуть. Ненавистно все, что нельзя тронуть, взвесить, сосчитать. Начались мелкие истязания. Им удалось в понедельник насыпать ему в простыни картофельной муки, которая, как известно, может ночью свести с ума. Во вторник он был встречен на углу—нес в охапке книги — и так был аккуратно взят в коробочку, что книги упали в избранную лужу. В среду смазали доску в уборной столярным клеем. В четверг фантазия братьев иссякла. Он молчал, он молчал. А в пятницу, нагнав летучим своим аллюром Антона под воротами двора, сунул ему иллюстрированную газету — хотите, мол, посмотреть? Эта неожиданная вежливость озадачила и еще пуще разожгла братьев. Густав велел своей невесте потормошить Романтовского для того, чтобы было к чему придраться. Невольно норовишь покатить мяч, прежде чем ударить ногой. Игривые животные тоже предпочитают подвижной предмет. И хотя Анна, вероятно, была Романтовскому в высшей степени противна свое молочной в клопиных крапинках кожей, пустотой светлых глаз и мокрыми мысками десен между зубов, он счел уместным скрыть неприязнь, боясь, должно быть, пренебрежением к Анне разъярить ее жениха. Так как он все равно раз в неделю ходил в кинематограф, то в субботу он взял ее с собой, надеясь, что этим отделается. Незаметно, на приличном расстоянии, оба в новых кепках и красных башмаках, братья потекли вслед,— и на этих сомнительных улицах, в пыльных этих сумерках, были сотни людей как они, но только один Романтовский. В продолговатом зальце уже мерцала ночь—лунная ночь собственного производства,— когда братья, таясь и сутулясь, сели в задним ряд. Где- то впереди чуялось томительно-сладостное присутствие Мантовского. Анне по дороге ничего не удалось выудить из неприятного спутника, да и не совсем понимала она, чего Густаву от него нужно. Пока они шли, ей хотелось зевать от одного вида его худобы и грусти. Но в кинематографе она о нем забыла, прижавшись к нему равнодушным плечом. Призраки переговаривались трубными голосами. Барон пригубил вино и осторожно поставил бокал — со стуком оброненного ядра. А потом барона ловили. Кто бы узнал в нем главного мошенника? За ним охотились страстно, исступленно. Со взрывчатым грохотом мчался автомобиль. В притоне дрались бутылками, стульями, столами. Мать укладывала спать упоительного ребенка. Когда все кончилось, и Романтовский, споткнувшись, вышел в прохладу и мрак, Анна воскликнула: «Ах, это было чудно!..» Он откашлялся и через минуту сказал: «Не будем преувеличивать. Все это на самом деле—гораздо скучнее.» — Сам ты скучный, — возразила она хмуро, а потом тихо засмеялась, вспомнив миленькое дитя. Сзади, все на том же расстоянии, текли за ними братья. Оба были мрачны. Оба накачивались мрачной энергией. Антон мрачно сказал: — Это все-таки не дело — гулять с чужой невестой. — Особенно в субботний вечер,— сказал Густав. Пешеход, поровнявшись с ними, случайно взглянул на их лица и невольно пошел скорее. Вдоль заборов ночной ветер гнал шуршащий мусор. Места пустые и темные. Слева, над каналом, щурились кое-где огоньки. Справа наспех очерченные дома повернулись к пустырю черными спинами. Через некоторое время братья ускорили шаг. — Мать и сестра в деревне,— говорила Анна тихо и довольно уютно среди мягкой ночи.— Когда выйду замуж, может быть съездим туда к ним. Моя сестра прошлым летом... Романтовский вдруг обернулся. — Прошлым летом выиграла в лотерею, — продолжала Анна, машинально оглянувшись тоже. Густав звучно свистнул. — Ах, да это они! — воскликнула Анна и радостно захохотала. — Ах-ах, какие!.. — Доброй ночи, доброй ночи, — сказал Густав торопливым запыхавшимся голосом.— Ты что тут, осел, делаешь с моей невестой? 50 — Ничего не делаю, мы были... — Но-но,— сказал Антон и с оттяжкой ударил его под ребра. — Пожалуйста, не деритесь. Вы отлично знаете... — Оставьте его, ребята,— сказала Анна со смешком. — Должны проучить,— сказал Густав, разгораясь и с нестерпимым чувством предвкушая, как он тоже сейчас по примеру брата тронет эти хрящики, этот хрустящий хребет. — Между прочим, со мной однажды случилась смешная история,— скороговоркой начал Романтовский,— но тут Густав принялся в ребра ему ввинчивать, ввинчивать все пять горбов своего огромного кулака, и это было совершенно неописуемо больно. Отшатнувшись, Романтовский поскользнулся, чуть не упал, упасть значило бы тут же погибнуть. — Пускай убирается,— сказала Анна. Он повернулся и, держась за бок, пошел вперед, вдоль темных, шуршащих заборов. Братья двинулись за ним, почти наступая ему на пятки. Густав, томясь, рычал, это рычание вот-вот могло превратиться в прыжок. Далеко впереди сквозил спасительный свет — там была освещенная улица,— и хотя должно быть это горел всего один какой-нибудь фонарь, она казалась, эта пройма в ночи, изумительной иллюминацией, счастливой, лучезарной областью, полной спасенных людей. Он знал, что если пустится бежать, то все будет кончено, ибо невозможно успеть добежать; надо спокойно и ровно идти, так может быть дойдешь, и молчать, и не прикладывать руки к горящему боку. Он шагал, по привычке взлетая, и казалось, он это делает нарочно, чтобы глумиться,— еще пожалуй улетит. Голос Анны: — Густав, отстань от него. Потом не удержишься, сам знаешь,— вспомни, что раз было, когда ты с каменотесом... — Молчи, стерва, он знает, что нужно! (Это голос Антона). Теперь до области света, где можно уже различить и листву каштана, и кажется тумбу, а там, слева, мост, — до этого замершего, умоляющего света,— теперь, теперь не так уж далеко... Но все-таки не следует бежать. И хотя он знал, что это оплошно, гибельно, он помимо воли, внезапно взлетев и всхлипнув, ринулся вперед. Он бежал и будто хохотал на бегу. Густав его настиг в два прыжка. Оба упали, и среди яростного шороха и хруста был один особенный звук, скользкий, раз, и еще раз —по рукоять,— и тогда Анна мгновенно убежала в темноту, держа в руке свою шляпу. Густав встал. Романтовский лежал на земле, кашлял и говорил по- польски. Все оборвалось. — А теперь айда,— сказал Густав.—Я его ляпнул. — Вынь,— сказал Антон.—Вынь из него. — Уже вынул,— сказал Густав.— Как я его ляпнул! Они бежали, но не к свету, а через темный пустырь, а когда, обогнув кладбище, вышли в переулок, то переглянулись, и пошли обычным шагом. Придя домой, они тотчас завалились спать. Антону приснилось, что он сидит на траве, и мимо него плывет баржа. Густаву ничего не приснилось. Рано утром явились полицейские, они обыскивали комнату убитого и кое о чем расспрашивали Антона, вышедшего к ним. Густав остался в постели — сытый, сонный, красный как вестфальская ветчина, с торчащими белыми бровями. Погодя полиция ушла, и Антон вернулся. Он был в необыкновенном состоянии, давился смехом и приседал, беззвучно ударяя кулаком по ладони. — Вот умора! —сказал он.—Знаешь, кто он был?—Королек! Королек по-ихнему значило фальшивомонетчик. И Антон рассказал, что ему удалось узнать: состоял в шайке, оказывается, и только что вышел из тюрьмы, а до того рисовал деньги; вероятно, его пырнул сообщник. Густав потрясся от смеха тоже, но потом вдруг переменился в лице: — Подсунул, надул мошенник! — воскликнул он и нагишом побежал к шкапу, где хранилась копилка. — Ничего, спустим,—сказал Антон.— Кто не знает, не отличит. — Нет, каков мошенник,— повторял Густав. Мой бедный Романтовский! А я-то думал вместе с ними, что ты и вправду особенный. Я думал, признаться, что ты замечательный поэт, принужденный по бедности жить в том черном квартале. Я думал, судя по иным приметам, что ты каждую ночь — выправляя стих или пестуя растущую мысль — празднуешь неуязвимую победу над братьями. Мой бедный Романтовский! Теперь все кончено. Собранные предметы разбредаются опять, увы. Тополек бледнеет и, снявшись, возвращается туда, откуда был взят. Тает кирпичная стена. Балкончики вдвигаются один за другим, и, повернувшись, дом уплывает. Уплывает все. Распадается гармония и смысл. Мир снова томит меня своей пестрой пустотою. Берлин, 1933. Илья Эренбург Эренбург Илья Григорьевич, прозаик, (27.1.(15.1.) 1891 Киев — 31.8.1967 Москва). Родился в семье инженера, юность провел в Москве. Участвовал в революционном движении, затем в 1908г. эмигрировал в Париж. Здесь в 1910 вышел первый сборник^стихов Эренбурга. В 1913 г. начинает журналистскую деятельность, пишет также для русской газеты Его очерки военных,лет собраны позже в книге «Лик^войны» (1920) Вернувшись в Россию, Эренгбург колебался в своем отношении к,революции. С 1921 по 1941 гг. Эренбург подолгу бывал за границей, все чаще — с официальными поручениями, сначала в Берлине, потом в Париже, в 1936-37 гг. в Испании, в 1940-41 гг. — снова в оккупированном немцами 51 Париже. Во время Второй Мировой войны был одним из самых, активных публицистов-пропагандистов. Эренбург с 1921 г. написал много романов, опубликовал поначалу, как,правило, за границей; получил Сталинскую премию (за 1941, 1-й степени) за роман «Падение Парижа» (1942) и вторую Сталинскую премию 1-й степени в 1947г. за роман «Буря» (1947), продолжающий ту же тему. Эренбург, который во времена борьбы с космополитизмом, вполне мог ожидать ареста, был активным «борцом за мир». После смерти Сталина он одним из первых выступил за пересмотр политики в области литературы, а именно — с публицистической статьей «О работе писателя» (1953) и — повестью ««Оттепель» (1954 г., дополненное издание — 1956), название которой стало обозначать весь тот период. Как,В. Каверин, К Паустовский и другие, Эренбург способствовал реабилитации преследовавшихся и замалчивающихся писателей, прежде всего — М. Цветаевой и И. Бабеля. Восстановлению верной картины культурной жизни первой половины 20-го столетия послужили также его воспоминания «Люди, годы, жиизнь» (1960-65), которые А. Твардовский считал значительнейшим произведением Эренбурга. Главы этой книги, подвергшиеся цензурному вмешательству были опубликованы, каки,многое другое, только благодаря перестройке. После той амбивалентности, которой отличалась его позиция в 20-е гг., и дипломатичности, которой он придерживался во времена Сталина (что обеспечивало ему привилегированное положение), в послесталинское время для Эренбурга наступает период, когда он становится объектом многократных, нападок, со стороны консерваторов. Однако на всех съездах СП СССР с 1934 по 1967 он избирался в правление. В советской справочно-критической литературе о повести Эренбурга ««Оттепель» говорится отрицательно, о воспоминаниях «Люди, годы, жизнь» — очень сдержанно. Нельзя провести четкой границы межфу журналистской и писательской деятельностью Эренбурга. Поэзия занимает менее существенное место в его творчестве; признание, которым он пользовался на протяжении своей жизни и в СССР и за рубежом, пришло к,Эренбургу благодаря прозе. «Его сила — в лит. репортажах... Легко узнаваемый стиль Эренбурга представляет собой сочетание иронии с сентиментальностью, облеченное в четкие фразы и украшенное взрывчатыми афоризмами» (SConim). Первый роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито» (1922), от которого он не отказывался и в старости, считается его лучшим романом; в нем заключено «безжалостное сатирическое обвинение современной европейской цивилизации, не щадящее ни одной страны, ни одной нации, ни одной грани этой цивилизации» (Struve). Из множества последующихроманов Эренбурга выделяются сатиры на времена НЭПа —«Рвач» (1925) и «<_Яето 1925года» (1926), а более всего —роман «Бурная жизньЛазика Ройтшванеца» (1928, запрещенный в Советском Союзе до 1989) — насыщенная еврейским юмором история жизни одного бедного портного в России и за границей. В литературу о пятилетнем плане Эренбурга включился романом «День второй» (1934). Его военные книги, построенные в виде хроник, также отражают линию партии; например, «Девятый вал» (1951), отвечающий кампании 1948-52 гг. против Америки и Западной Европы Повесть ««Оттепель» важна не как художественное произведение, а как вклад в литературу после 1954 г., определяющий целое направление. Эренбург был «полемистом, отличным зарубежным корреспондентом, одаренным писателем, который отразил в своем многогранном творчестве литературные, политические, а порой и интеллектуальные тенденции и увлечения своего времени» (SConim). Пророческой оказалась оценка В. Шкловского, написавшего об Эренбурге еще в 1922 г. («Zoo, или Письма не о любви», письмо 25): «Он не только газетный работник, умеющий собрать в роман чужие мысли, но и почти художник, чувствующий противоречие старой гуманной культуры и нового мира, который строится сейчас машиной». Соч.; Стихи,, Paris, 1910; Лик, войны, Sofia, 1920; Необычайные похождения Хулио Хуренито, 1922; Портреты рус. поэтов, BerCin, 1922, репринт 1972; Жизнь и гибель Николая Курбова, BerCin, 1923; Трест Д.Е., BerCin, 1923; Тринадцать трубок, 1923; Любовь Жанны Ней, 1924; Рвач, 1925; Лето 1925 года, 1926; В Проточном переулке, ж. «Тридцать дней», 1927, №1-3; Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца, Paris, 1928 и ж. ««Звезда», 1989, №7-9; Заговор равных, BerCin, 1928; Москва слезам не верит, 1933; День второй, 1934; Буря, 1934; Не переводя дыхания, 1935; Падение Парижа, 1942; Девятый вал, 1951; О работе писателя, ж. ««Знамя», 1953, №10; Оттепель, 1954, изд., дополненное 2-й частью — 1956; франц. тетради, 1958; Стихи.. 1938-1958, 1959; Люди, годы, жизнь,. Воспоминания, в 3-х кн.., 1961-66, дополненное изд. — 1990; Стихотворения, 1977; (с А. Толстым) Рубашка Бланш Пьеса, альм ««Совр. драматургия», 1982, №s4; Испанские репортажи.. 1931-1939, 1986; Неопубликованное, ж. «Огонек», 1987, №23. — Полное собр. соч. В 8-ми тт., 1927-28; Соч. В 5-ти тт., 1952-54; Собр. соч. В 9-ти тт., 1962-66; В 8-ми тт., 1990. Лит.: Т. Трифонова, 1952; V. ErCich, ж. (PYo6Cems of Communism, №12 (1963) №14 (1965); РСПП т.. 6,2, 1969; Н OuCanoff. ж., The Slavic and East European Journals, 1967 и ж. (Canadian SCavonic Papers, 1969, №2; J. Laychufc, там же, 1970, №4 и 1977, №1; E. Vjvary-Maier. Studien zum Truhwerk,.., Diss., Zurich,, 1970; Воспоминания обИ. Э., 1975; Р.С. Stuppks, 1978; A. Goldberg, London, 1984;А. Лазарев, ж. «<Знамя», 1987, №2; А. Рубашкин, «Аит. газ.», 1991, 30.1.; Б. Слуцкий,, ж. «Огонек», 1991. №3. Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца 1 Можно сказать, что вся бурная жизнь Лазика началась с неосторожного вздоха. Лучше было бы ему не вздыхать!.. Но неизвестно, о каком Лазике идет речь. Лазиков много— хотя бы Лазик Рохенштейн, тот, кто в клубе «Красный Прорыв» изображал императора Павла и неестественно при этом хрюкал (а штаны, кстати, — на пол, штаны были журавлевские); или же Лазик Ильманович, секретарь уездного комитета, обжора, каких мало, в прошлом году, не боясь партчистки, лопал мацу с яйцами и еще, нахал, на губздрав ссылался, якобы питательность велика, к тому же не образует газов. Вот и в Одессе прозябает какой-то Лазик. Читал я там лекцию о французской литературе. Записок, как полагается, ворох, здесь и «какого вы класса будете», и «расскажите нам лучше об экспедиции товарища 52 Козлова», и «отвечай, цюцкин внук, за сколько фунтов продался», и такая вот: «Шапиро, погляди-ка, Лазик уже спит». Я, хоть и не Шапиро, полюбопытствовал. Народу, однако, много; так и не разыскал я этого сонливого Лазика, не знаю даже, кто он, одно ясно — невежа, другие учатся, а он дрыхнет. Нет, Лазик Ройтшванец никогда не падал так низко. Знаю я, сразу скажут: «А фамилия у него того...» Не спорю, бывают фамилии и покрасивей, даже среди «мужеских портных» Гомеля, не говоря уже о православном духовенстве. Например, Розенблюм или Апфельбаум. Но кто же обращает внимание на фамилию? Наконец, что стоило Лазику стать в наши дни хоть самим Спартаком Розалюксембургским? Ведь превратился же счетовод «Беллеса» Онисим Афанасьевич Кучевод в Аполлона Энтузиастова. Это дело двух рублей и вдохновения. Если не польстился Лазик Ройтшванец на какое-нибудь плодовое дерево, были у него, разумеется, свои резоны. Крепко держался он за невзрачную фамилию, хоть барышни и взвизгивали: «Ай-ай-ай!..» Фамилия входила в разумный план его жизни. Чьи портреты красовались над крохотной кроваткой Лазика? Ответить трудно. Сколько портретов — вот что спрошу я. Да никак не менее сотни. Всем известно, что гомельские портные любят украшать стены разными испанскими дезабилье. Но Лазик был не дурак. Красоток он разглядывал, сидя в гостях, а свои стенки покрыл портретами, вырезанными из «Огонька». Вот тот мужчина с рачьими глазищами — знаете, кто это? Пензенский делегат «Доброхима». А юноша в купальном костюмчике, задравший к солнцу ляжку, — это знаменитый пролетарский бард Шурка Бездомный. Направо — международные секции. Не узнаете? Бич португальских палачей Мигуэль Траканца. Налево? Тс-с!.. Закоренелый боец, товарищ Шмурыгин — председатель гомельской... Поняли? Правда, к этим вдохновенным портретам примазалась фотография покойной тети Лазика Хаси Ройтшванец, которая торговала в Глухове свежими яичками. Среди мраморных колоннад бедная тетя Хася глядела перепуганно и сосредоточенно, чуть приоткрыв ротик, как курица, готовая снести яйцо. Однако и на нее Лазик как-то показал ответственному съемщику Пфейферу: — Это вождь всех пролетарских ячеек Парижа. У нее такой стаж, что можно сойти с ума. Вы только поглядите на эти глаза, полные последней решимости... Днем бойцы охраняли Лазика; по ночам они пугали его. Даже португальский бич среди подозрительной тишины вмешивался в личную жизнь Ройтшванеца: «Ты скрыл от фининспектора брюки Пфейфера, коверкот заказчика и галифе Семке из своего материала... А ты знаешь, что такое Соловки? Значит, гомельский портной хочет, между прочим, в монастырь? Ты показал восемьдесят вместо ста пятнадцати. Очень хорошо! А в Соловках может быть сто градусов мороза. Да, это тебе, Лазик Ройтшванси не Португалия!» И бич саркастически щелкал. Шурка ездомный кричал страшные слова, как в клубе «Красный Прорыв» кустарей-одиночек, явно намекая и на пфейферские брюки и на Соловки: «Фиговый листок надеваешь, сукин лорд? Мы тебе покажем, сумасшедший полюс!.. » Даже тетя, добрая тетя Хася, которая на «хануке» дарила маленькому Лазику гривенник, и та осуждающе кудахтала: «Как же ты? Ах!..» Лазик зарывался в одеяло. Портретов, однако, он не снимал. Он умел быть стойким до конца, вот как товарищ Шмурыгин. Мало, скажете, он страдал за свои принципы? Он вызубрил наизусть шестнадцать стихотворений Шурки Бездомного о каких- то ненормальных комбригах, которые «умирают с победоносной усмешкой на челе». Он не остановился и перед рукой цирюльника Левки, в одну минуту превратившей его добродушную робкую физиономию в поганое лицо заядлого изверга. Что делать — в клубе «Красный Прорыв» ставили пьесу товарища Луначарского. Лазик не был саботажником. Изверг? Пусть изверг! Он даже лез на Сонечку Цвибиль и делал вид, что ее кусает, хоть ему было противно. Что общего, скажите, между гомельским портным и какой-то взбесившейся собакой? К тому же у Сонечки муж в милиции, и хоть собачьи прыжки — дело государственное, Лазик не знал, как отнесется гражданин Цвибиль к подобной симуляции. Но Лазик не хотел отставать от своего века. Он храбро рычал и скалил зубы. Он низко кланялся всем кустарям-одиночкам, которые хохотали: «Ой, какой этот Рсйтшваиец дурак!» Он приговаривал: «Товарищи, душевное мерси». Он все вынес. Вот и фамилия... Почему Раечка прогнала его? Из-за прыщика? Спросите Лазика, он вам ответит: «Прыщик — глупости, прыщик всходит и заходит, как какой-нибудь гомельский комиссар». А фамилия... Можно ли гулять под ручку с человеком, у которого такая глупая фамилия? «С кем идет Раечка?» — «Да с Ройтшванецом...»— «Хи-хи». Ничего! Пусть смеются, Лазик хитрее их. Когда Лазика вызывали для заполнения сорок седьмой анкеты, товарищ Горбунов, рыжий из комхоза, спросил: — Фамилия? — Ройтшванец. — Как? — Ройтшванец. Простите, но это опытно-показательная фамилия. Другие теперь приделывают себе слово «красный», как будто оно у них всегда было. Вы нездешний, так я могу вам сказать, что столовая «Красный уют» была раньше всего-навсего «Уютом», а эта улица Красного Знамени называлась даже совсем неприлично — Владимирской улицей. Если вы думаете, что «Красные бани» всегда были «красными», то вы, простите меня, ошибаетесь. Они «покраснели» ровно год тому назад. Они были самыми ужасными «Семейными банями». А я от рождения — Ройтшванец, об этом можно справиться у казенного раввина. В самой фамилии мне сделан тонкий намек. Но я вижу, что вы ничего не понимаете, так я объясню вам: «Ройт» — это значит «красный». Товарищ Горбунов усмехнулся и со скуки спросил: 53 — Так... А что же значит «шванец»? Лазик пренебрежительно пожал плечами. — Достаточно, если половина что-нибудь значит. «Шванец» это ничего не значит. Это пустой звук. 2 Нет, не из-за фамилии погиб Лазик. Всему виной вздох. А может быть, и не вздох, но режим экономии, или жаркая погода, или даже какие-нибудь высокие проблемы. Кто знает, отчего гибнут гомельские портные?.. Жара стояла в тот день действительно редкостная. Сож мелел на глазах у гомельчан. Зато следователь Кугель сидел весь мокрый. Около семи часов вечера Лазик решил направиться к дочери кантора Фенечке Гершанович. Фенечка пела в клубе «Красный Прорыв» международные мелодии. Собственно говоря, в клуб она вошла хитростью. Какой же кустарь- одиночка Гершанович? Что он производит? Обрезает несознательных младенцев, по три рубля за штуку. Ячейка могла бы легко установить, что Фенечка живет на постыдном иждивении служителя культа. Старик Гершанович говорил дочери: «Этот Шацман смотрит на меня десять минут не моргая. Одно из двух: или он хочет на тебе жениться, или он хочет, чтоб я уехал в Нарым. Спой им, пожалуйста, сто международных мелодий. Тогда они, может быть, забудут, что я тоже пою. Если Даниил успокоил настоящих львов, почему ты не можешь успокоить этих перекошенных евреев? Ты увидишь, они убьют меня, и я жалею только об одном: зачем я их когда-то обрезал...» Не знаю, размягчили ли трели Фенечки сердца членов Гомельского губкома, но вот Лазик, слушая их, влюбился, влюбился горячо и безответно. Фамилия, правда, не смущала Фенечку— она держалась передовых взглядов. Но с ростом Лазика она никак не могла примириться. Что остается теперь делать дочери кантора? Мечтать о карьере Мери Пикфорд и танцевать с беспартийными фокстрот. С Лазиком?.. Не скрою: голова Лазика барахталась у Фенечки под мышкой. Правда, Лазик пробовал ходить на цыпочках, но только натер мозоли. Как же здесь выразить пылкие свои чувства? Как невзначай в глухой аллее поцеловать щечку Фенечки: подпрыгнув, и то не достанешь. Ему было вдвойне жарко: пылало сердце. Он вышел из дому, отутюжив брюки Пфейфера и на всякий случай предупредив соседей: — Я иду на занятия политграмотой. Если б вы только знали, что такое один китайский вопрос! Это еще труднее, чем книга «Зогар». Будь я Шацманом, я запретил бы кустарям-одиночкам заниматься такими центральными вопросами. Над этим вообще должен думать какой-нибудь последний комитет, а не гомельские портные... Он вздохнул, но не этот вздох погубил его, даже не следующий, рожденный мыслями о недоступности Фенечки. Он сегодня скажет ей все. Он скажет ей, что Давид был маленький, а Голиаф большая дубина, вроде этого Шацмана. Он скажет ей, что соловей гораздо меньше индейского петуха. Он скажет ей и вполне по-современному, что маленькое организованное меньшинство побеждает или хотя бы временно гибнет. Он скажет... Наверное, он придумал бы нечто способное убедить даже легкомысленную Фенечку, но вдруг его внимание привлек одноглазый Натик, который сосредоточенно наклеивал на забор бывшего епархиального училища огромную афишу. Что еще случилось на свете? Может быть, в Гомель приехала гастрольная труппа московской оперетты? Тогда придется разориться на роскошные места: у Фенечки музыкальная натура. Может быть, они придумали какие- нибудь новые отчисления в пользу этой китайской головоломки? Может быть, попросту жулик Дышкин хочет сбыть под видом просветительнйй кампании свои глупые письмовники из позапрошлого столетия? Афиша предназначалась для граждан среднего роста, и Лазику пришлось стать на цыпочки, как будто перед ним была сама Фенечка Гершанович. Прочитав первую же фразу, он вздрогнул и оглянулся по сторонам. Рядом с ним стояла только неизвестная ему гражданка. Артистка московской оперетты? Или уполномоченная по сбору отчислений? Чем дальше читал Лазик, тем все сильнее дрожал он. Дрожал галстучек в горошинку, дрожала головка на вечном каучуковом воротничке, дрожал в брючном кармане замечательный американский пульверизатор с наилучшей «Орхидеей» производства «Тэжэ», который Лазик собирался преподнести Фенечке, дрожали брюки, необычайные брюки из английского материала (растратчик оставил, после второй примерки сцапали человека без брюк). Дрожали большущие буквы. Дрожал забор. Дрожало небо. «Умер испытанный вождь гомельского пролетариата товарищ Шмурыгин. Шесть лет красный меч в его мозолистых руках страшил международных бандитов. Но гибнут светлые личности, живы идеи. На место одного становится десять новых бойцов, готовых беспощадно карать всех притаившихся врагов революции... » Здесь-то Лазик Ройтшванец вздохнул, жалобно, громко, скажу прямо, с надрывом. Пожалел ли он товарища Шмурыгина, скончавшегося от заворота кишок? Или испугался десяти новых бойцов? Где же раздобыть их портреты? Как они отнесутся к полусознательным кустарям-одиночкам? Брюки, утаенные от фининспектора, пфейферские брюки!.. Вздохнув, Лазик пошел дальше. Но он не рассказал Фенечке о посрамленном Голиафе, он не обрызгал ее из американского пульверизатора ароматной «Орхидеей». Следователь, товарищ Кугель, угрюмо сказал ему: — Вы публично надругались над светлой памятью товарища Шмурыгина. — Я только вздохнул, — кротко вздохнул Лазик. — Я вздохнул, потому что было очень жарко и потому что из рук выпал этот мозолистый меч. Я всегда так вздыхаю. Если вы мне не верите, вы можете спросить гражданку Гершанович, а если гражданка Гершанович тоже не годится, потому что она дочь служителя культа, 54 вы можете спросить курьера фининспектора. Он-то знает, как я громко вздыхаю. Я даже скажу вам, что меня хотели прошлой весной выселить из жилтоварищества за надоедливые вздохи. Я занимался по ночам политграмотой и, конечно, вздыхал про себя, а Пфейферы показали, что я нарушаю их трудовой сон... Товарищ Кугель прервал его: — Будьте прежде всего кратки. Буржуазия создала наряду с тэйлоризмом пресловутый афоризм: «Время — деньги». В этом сказалось преклонение умирающего класса перед жалким продуктом прибавочной стоимости. Мы же говорим иначе: «Время — не деньги. Время — больше, чем деньги». Вы похитили сейчас у меня, а следовательно, у всего рабочего государства пять драгоценнейших минут. Перейдем к делу: гражданка Матильда Пуке показывает, что вы, прочитав известное вам обращение ко всем трудящимся Гомеля, торжествующе захохотали и издали неподобающий возглас. Здесь Лазик не выдержал, он деликатно улыбнулся. — Я не знаю, кто это такое гражданка Пуке. Может быть, она глухонемая или совершенно ненормальная. Я скажу вам только одно: я даже не умею торжественно хохотать. Когда я должен был торжественно хохотать в трагедии товарища Луначарского, я вдруг остановился над свежим трупом герцогини и я совершенно замолчал, хоть мне и кричал Левка-суфлер: «Хохочи же, идиот!» Я вас уверяю, гражданин Кугель, что если бы я мог издавать возгласы и торжественно хохотать среди белого дня, да еще на главной улице, я, наверное, не был бы несчастным портным, который шьет кое-что из материала заказчика, я или лежал бы где-нибудь в безответной могиле, или сидел бы в Москве на самом роскошном народном посту... — Вы симулируете классовую отсталость, но вряд ли это вам поможет. Я предаю вас обвинению по 87-й статье Уголовного уложения, карающей оскорбление флага и герба. Услышав это, Лазик хотел вздохнуть, но вовремя удержался. Вздох, хотя бы и пронзительный, еще может быть отнесен к печальным случайностям, но поведение Лазика во время судебного разбирательства заслуживает всемерного порицания. Вот когда оно сказалось, тяжелое наследие прошлого! Ведь не всегда Лазик жил китайским вопросом и другими светлыми идеями. До тринадцати лет, пощипывая свой едва опушенный подбородок, он сидел над каким-то смехотворным Талмудом. Если два еврея найдут один талес — кому он должен принадлежать? Тому, кто первый его увидел, или тому, кто первый его поднял? Попробуйте- ка решите эту задачу. Подбородок Лазика горел от щипков. Что важнее, рука или глаза? Открытие или работа? Вдохновение или воля? Если отдать тому, кто первый увидел, обидится голова: «Я распорядилась, чтобы рука подняла талес». Если отдать тому, кто первый поднял, обидится сердце: «Я подсказало глазам, что их ждет находка». Если оставить талес на дороге, то пропадет хороший талес, который нужен каждому еврею для молитвы. Если разрезать талес на две части, то он никому не будет нужен. Если пользоваться талесом по очереди, то два еврея возненавидят друг друга, ибо одному человеку просторно даже в желудке у рыбы, а двум тесно даже в самом замечательном раю. Что же делать с этим коварным талесом? Что делать с двумя евреями? Что делать с истиной? Лучше всего не находить талеса и не думать об истине. Но талес может оказаться на дороге, и стоит человеку остаться с самим собой, будь то даже в хвосте галантерейной лавки или в паршивой уборной, и он начинает думать об истине. Давно подбородок Лазика покрылся курчавой порослью, давно поросль эта пала, скошенная проворной рукой Левки-парикмахера, давно уж забыл он о палке учителя и о двух евреях, нашедших один талес, но осталась привычка думать над тем, над чем лучше вовсе не думать. Смешно подозревать Лазика в каких-то суевериях. Ему не было и тринадцати лет, когда он понял, что талес никому не нужен и что лучше найти на дороге двести тысяч или хотя бы три рубля. Он понял, что человек создан из обезьяны, а не из какого-то «подобья», что оперетта гораздо интереснее хоральной синагоги, что Гершанович большой жулик, что ветчина с горошком ничуть не хуже говядины с черносливом и что вообще теперь настоящий двадцатый век. Лазик как-то уничтожил самого старика Гершановича, показав при этом всю свою преданность чистой науке. Это было вечером. Фенечка глядела на звездное небо, а Лазик, очарованный бледным личиком девушки, стоял подле не дыша. Тогда-то хитрый Гершанович решил подкопаться под Лазика. — Мне даже смешно подумать, что ты до сих пор уверяешь, будто бы солнце стоит, а земля вертится. Я не скажу тебе, посмотри на небо в час заката, — может быть, ты вообще слеп, как крот, и ничего не можешь видеть. Я не спрошу тебя, как же Иегошуа Навин мог остановить солнце, если оно вообще не движется, — ты ведь ответишь: меня при этом не было, как отвечают все дураки. Кстати, интересно, был ли ты при том, как обезьяна родила человека? Но я тебе все-таки докажу, что земля стоит на одном месте, и ты ничего не сможешь мне ответить. Хоть ты прикидываешься глупым «Фонькой» из Москвы, ты же изучал когда- то Талмуд, ты знаешь, что разводное письмо нельзя вручить женщине, когда женщина передвигается. Нельзя дать ей развод ни в поезде, ни на пароходе, ни когда она просто гуляет по улице. Если бы земля двигалась, то двигались бы все женщины, потому что женщины живут, кажется, на земле. Тогда никогда нельзя было бы разводиться, значит, земля стоит спокойно на одном месте. Хоть Лазик был расслаблен близостью Фенечки и роскошью звездного неба, он все же твердо ответил Гершановичу: — Это рассуждения, простите меня, маленького ребенка. Если глядеть из одного поезда, который идет на другой поезд, который тоже идет, то кажется, что оба поезда стоят. Кто дает женщине развод? Ее муж. Если б он вертелся в другую сторону, тогда б он заметил, что и его жена вертится, но так как они оба вертятся в одну сторону, то мужу, конечно, кажется, что и его жена совсем не вертится. А вообще говоря, разводиться можно даже на американском пароходе, если только там сидит сотрудница загса и это стоит каких-нибудь шестьдесят 55 копеек. Главное, гражданин Гершанович, чтобы была горячая любовь и мотовское сверкание звезд, а остальное — это гербовая марка. Лазик выговорил это стойко, хоть и знал, что теперь ему будет еще труднее дотянуться до щечки Фенечки, даже встав на цыпочки. Что делать, Лазик был человеком двадцатого века! Да, но щипанье подбородка, но хитрая улыбочка, но логика, логика во что бы то ни стало, — они-то погубили честного «мужеского портного». На первый же вопрос председателя суда, вместо того чтобы, кратко упомянув о своем пролетарском происхождении, опровергнуть гнусную клевету гражданки Пуке, Лазик ответил двусмысленно: — Виновен? Если я в чем-нибудь виновен, так только в том, что я живу. Но в этом я тоже не виновен. В этом виновны смешные предрассудки и ужасная холера. Если бы не было холеры, не было бы вовсе Лазика Ройтшванеца, и тогда я спрошу вас, гражданин председатель, что бы делала эта ненормальная гражданка Пуке? Я родился, потому что смешно было мерить аршином кладбище, потому что было такое несчастье, что его нельзя было измерить никаким аршином. Вы не понимаете, в чем дело? Это очень просто. Тогда была большая холера, такая большая, что почти все евреи умерли, а те, что не умерли, конечно, не хотели умереть. Теперь для этого существует народный губздрав и даже сам товарищ Семашко. Но тогда несознательные евреи думали, что если обмерить кладбище аршином, кладбище перестанет расти. Они мерили и мерили, а кладбище росло и росло. Тогда они вспомнили, что если нельзя надуть смерть, можно ее развеселить. Они нашли самого несчастного еврея, Мотеля Ройтшванеца. У него не было за душой медной копейки. У него была только печальная фамилия. Он стирал постыдное белье, и в Пурим он разносил из дома в дом роскошные подарки за какие-нибудь пять копеек. Словом, он мог бы преспокойно умереть от холеры, и никто бы не жалел об этом. Но он как раз не умер. Богатые евреи нашли Мотеля Ройтшванеца, и они нашли самую несчастную девушку. Они сказали: «Мы дадим вам тридцать рублей, мы дадим вам курицу и рыбу, но вашу свадьбу мы справим на кладбище, чтобы немножко развеселить смерть». Я не знаю, веселилась ли смерть и веселились ли евреи, ведь у жениха был кроме печальной фамилии большущий горб, а невеста была, говоря откровенно, хромая. Я не знаю даже, кончилась ли холера, но одно я знаю, что родился я, Лазик Ройтшванец, и в этом, кажется, единственная моя вина. — Может быть, вы все же скажете нам, что вы делали одиннадцатого июля в семь часов пополудни? — Я шел к члену клуба «Красный Прорыв», к товарищу Фене Гершанович. Перед этим я утюжил брюки, а после этого я сидел, как настоящий злодей в тюрьме с решеткой. — Однако, прочитав обращение к трудящимся, вы демонстративно выразили свои контрреволюционные чувства. — Как я мог выразить свои чувства, если я их вообще не выражаю? Вы думаете, что я торжественно хохотал, когда пали цепи самодержавия и когда околоточный Богданов сидел у нас на дворе под кадкой? Нет, я и тогда говорил себе: пусть издает возгласы Левка-парикмахер — он все равно ничего другого не умеет делать. Я не выражал, хотя тогда все выражали: даже Богданов вылез из- под кадки и тоже выражал. Я — сплошная загадка, и ни гражданка Пуке, ни вы, гражданин прокурор, никто на свете не знает, какие у меня, может быть, в душе чувства. Кому интересно, что у маленького портного внутри? А если вы все-таки будете настаивать, я прямо скажу вам: можно вывернуть пиджак, но не душу. Я шел к товарищу Гершанович, и я ровно ничего не выражал. Вы спросите, почему я вздохнул, прочитав это «Обращение ко всем трудящимся»? Как же я мог не вздыхать? Ведь это же было воззвание для вздохов. У меня висел на стене портрет товарища Шмурыгина. Я занимаюсь политграмотой. Я могу сказать вам наизусть хоть сейчас все произведения товарища Шурки Бездомного. Если же случилось такое несчастье, и я, Лазик Ройтшванец, попал на эту черную скамейку подсудимых, то я вам признаюсь, что пфейферские брюки я действительно скрыл от гражданина фининспектора. Я показал восемьдесят вместо ста пятнадцати. Это составляет ровно тридцать пять рублей разницы. За это меня можно оштрафовать, и я только тихонько вздохну, как тогда у забора. Но нельзя меня судить за оскорбление герба и флага, когда там не было ни герба, ни флага, а всего-навсего гражданка Пуке, и то я ее ничем не оскорблял. Однако Матильда Пуке, женщина с бледно-зелеными меланхоличными глазами и со стажем в девять месяцев, повторила показания, данные ею на предварительном следствии: подсудимый подбежал к воззванию, прочитал его и, нагло расхохотавшись, издал бесстыжий возглас, который, ввиду кампании по борьбе с хулиганством, не надлежит даже воспроизводить. Выслушав все это, Лазик подмигнул председателю: Я же говорил, что она или ненормальная, или глухонемая. Натик действительно наклеил бумажку. Я действительно подошел и прочитал. Зачем же наклеивают бумажку? Чтоб ее, кажется, читали. После этого я вздохнул. Откуда вы знаете, может быть, мне стало жалко товарища Шмурыгина? Разве это так просто, умереть от заворота кишок? И потом, я очень хорошо понимаю, что такое надгробная скорбь в масштабе губернского города. Если когда-то могли на кладбище справлять свадьбу, то ведь это было в позапрошлом столетии, и потом, тогда была холера, а теперь у нас нет никакой холеры, теперь у нас только хозяйственное возрождение и китайский вопрос. В старом хедере меня учили Талмуду. Это, конечно, обман, и с тех пор я прочел уже всю «Азбуку Коммунизма». Но даже в этом неприличном Талмуде сказано, что когда все смеются — смейся, а когда все плачут — плачь, когда все читают Библию, не вздумай, пожалуйста, читать Талмуд, и когда все читают Талмуд, забудь, что на свете существует Библия. Неужели же вы думаете, что я, Лазик Ройтшванец, который пережил восемь разнообразных режимов, не знаю такой простой вещи? Сдавали швейные машины, и я сдавал. Радовались успехам проснувшегося турка, и я радовался. Наклеили эту афишу, и я вздохнул. Чего же вы от меня хотите с этой сумасшедшей Пуке?.. Повторяю, Лазик сам себя погубил, и легко понять одного народного заседателя, который мрачно буркнул другому. — Он глуп, но хитер. Он заговаривает зубы. 56 Речь прокурора, товарища Гуревича, была кратка и выразительна: — Гражданин Ройтшванец — гнилой продукт клерикального оскопления личности. Он хочет на словах влить новый сок в старый мех, но, конечно, это типичное шкурничество. Неожиданное признание в злостном обмане органов государственной инспекции кидает новый свет на этого переодетого волка. Его заверения, что воззвание было вывешено для каких-то вздохов, всецело совпадают с инсинуациями белогвардейской прессы, в то время как бескорыстные показания гражданки Пуке продиктованы исключительно ее классовой совестью. На основании всего этого я считаю необходимым, не отсекая совершенно больной ветки и не ставя вопроса о социальной опасности, подвергнуть гражданина Ройтшванеца исправительной каре. Правозаступпик, товарищ Ландау, наоборот, отличался многословием. Битый час говорил он. Кажется, только Лазик и слушал его. — Современной науке известны галлюцинации слуха, так сказать, акустические миражи пустыни. Арабы видят оазисы. Узник слышит пение соловья. Я не хочу кидать тень на гражданку Пуке. Но я подвергаю ее слова строго научному анализу. Конечно, Лазик Ройтшванец — дегенерат. Я настаиваю на медицинской экспертизе. То, что он называет «вздохами», — чисто патологическое явление. Быть может, мы имеем дело с тяжелой наследственностью. Брак, заключенный на кладбище, согласно евгенике, способен дать ненормальное потомство. Я взвешиваю все факты, и на чашу весов падает его исключительное происхождение. Вы должны обвинить еврейскую буржуазию, создавшую талмудические школы и другие средства порабощения пролетариата, вроде оскорбительных венчаний среди могил, но в порыве великодушия победившего класса вы должны оправдать этого несчастного кустаря-одиночку! С осторожностью председатель спросил Лазика, не хочет ли он что-нибудь добавить ко всему сказанному им прежде. Утомленный красноречием товарища Ландау, председатель явно побаивался словоохотливого подсудимого. Но Лазик понял, что дело его проиграно. Он больше не оспаривал показаний гражданки Пуке. Что же мне сказать после стольких умных речей? Когда лев разговаривает с тигром, кажется, зайцу лучше всего молчать. Я хочу только внести одно маленькое предложение. Товарищ Гуревич партийный и товарищ Ландау тоже партийный, и у них вышла между собой небольшая дискуссия, как у нас в клубе кустарей-одиночек. Так я им предлагаю мировую. Если, например, товарищ Гуревич хочет, чтобы меня посадили на шесть месяцев, а товарищ Ландау хочет, чтобы меня вообще отпустили домой, то я предлагаю сделать ровное деление и посадить меня на три месяца. Тогда все будут довольны, даже гражданка Пуке. А если я буду недоволен, то я же утаил перейферские брюки и все равно я, как сказал товарищ Гуревич, гнилой продукт. Конечно, я предпочитаю, чтобы вы послушались товарища Ландау и отпустили меня домой. Я даже обещаю никогда больше не вздыхать и заниматься одной китайской проблемой всю мою недолговечную жизнь. Но, с другой стороны, я боюсь, что вы можете послушаться товарища Гуревича. Это же сплошная лотерея! И тогда мне будет совсем плохо. Вот поэтому я предлагаю вам немедленно пойти на мировую и, хорошенько высчитав все, дать мне как можно меньше месяцев, потому что меня ждут, наверное, какие-нибудь небольшие заказы, а также надежда на отзывчивость товарища Фени Гершанович. А без надежды и без заказов я могу легко умереть. Но ведь этого не хочет даже товарищ Гуревич, потому что все граждане, кроме некоторых отрезанных веток, должны жить и дружно цвести, как цветут безответственные деревья на крутом берегу нашего судоходного Сожа! 4 У Лазика была чрезвычайно нежная кожа, только Левка-парикмахер и умел его как следует брить. Но Левка — это не простой парикмахер, это — мировая знаменитость. Говорили, будто он столь артистически побрил затылок одной приезжей дамочки из Коминтерна, что дамочка немедленно залилась слезами умиления, восклицая: «Какая это великая страна», — и дала Левке доллар с изображением американской коровы. Может быть, и врали, не знаю, но вот Лазика брил он на славу: ни ссадин, ни противной красноты, ни жжения — свежесть, отдых, брызги «Тройного» одеколона, а в придачу над ухом кахой-нибудь контрабандный мотив, например, «хотите ли бананы, чтоб были страстью пьяны»... Конечно, у Циперовича торчит всюду вата (желтая, та, что между рамами кладут) и прочая псевдонаука, но куда же Циперовичу до Левки! В тюрьме Лазик больше всего скучал по Левке. Как человек нашего бурного времени, он быстро привыкал к любой жизни. Конечно, в тюрьме не было ни Фенечки Гершанович, ни мотовского сверкания звезд, ни гастролей московской оперетки. Зато в тюрьме не было и фининспектора. Вот только бы Левку сюда!.. Довериться тюремному цирюльнику Лазик не хотел: исцарапает, надругается, и еще прыщи после вскочут; что скажет через шесть недель Фенечка Гершанович? А на подбородке Лазика уже начинала курчавиться рыжеватая рощица. Дело не в зрелище — перед кем здесь стесняться? Перед восьмью небритыми злодеями? Дело в умственном зуде, рождаемом бородкой. Лазик хорошо понимал, что именно его погубило на суде. Он дал себе обещание как можно меньше думать. Трудно, разумеется, не думать в тюрьме, когда ежедневно выдают тебе двадцать четыре часа для бесплатной философии и зрелища растерзанной человеческой судьбы, а тем паче когда на подбородке уже торчит пучок подозрительной пакли: так и хочется, обкрутив его вокруг пальца, погрузиться в раздумья. Нет ничего более располагающего к философствованию, нежели курчавая бородка: она-то доводила различных талмудистов до сумасшедших выкладок. Лежит, представьте себе, крохотная горошинка. Мышка съедает горошинку. Кошка цап-царап мышку. Большая собака загрызает кошку. Собаку, конечно, съедает волк, а волка съедает лев. Выходит человек, и что же — он убивает льва. Можно подумать, что человек это царь творения. Но человек возвращается домой, и он натыкается на крохотную горошинку, он падает на камень и умирает. Тогда выбегает мышка и насмехается 57 над человеком, и мышка съедает горошинку, а кошка ест мышку, и так может продолжаться без конца. Теперь скажите, разве могли бы безбородые люди дойти до таких размышлений? Лазик грустно сидел на нарах и, теребя бороду, думал если не о горошинке, то об известной нам гражданке Пуке. Вдруг он радостно пискнул: в камеру вошел Левка-парикмахер. Это не было миражем в пустыне или песней соловья, которую слышит узник. Нет, Левка, живой Левка стоял перед ним! Несмотря на всю свою радость, Лазик, как вполне сознательный кустарь-одиночка, вздохнул: — Кто же еще умер, Левка? Может быть, этот португальский бич? При чем тут португальский бич, когда мы живем, кажется, в Гомеле? К никто не умер, кроме старика Шимановича, но он все равно должен был умереть, потому что ему было восемьдесят два года. А у Хасина родилась дочка, чтобы он знал, как продавать мокрый сахар. Но я здесь вовсе не потому, что Шиманович умер, и не потому, что у Хасина родилась дочка. Это же мелкая семейная чепуха, а я здесь по делу чрезвычайной государственной важности. Я влип из-за... — Можно быть первым парикмахером мира, оставаясь при этом отчаянным хвастунишкой, одно другому не мешает. Левка торжественно нахохлился, как молоденький воробей.— Я влип из-за этой самой бочки. Здесь я должен пояснить, что в Гомеле, несмотря на все каши великие завоевания, нет до сих пор соответствующих труб. От мрачного прошлого унаследовали гомельчане громыхающие по главной улице неприличные бочки. Прошу за это Гомель не презирать. Как-никак в Гомеле множество просветительных начинаний, два театра, цирк, не говоря уж о кино. В музее висит такая голландская рыба, что дай бог всякому еврею к субботе. В парке, бывшем Паскевича, сидит на цепи настоящий волк и пугает раздирающим воем наивных детишек. А клуб «Красный Прорыв» кустарей-одиночек? А вполне разработанный проект трамвая? А стенная газета местного отделения «Доброхнма» с дружескими шаржами товарища Пинкеса? Нет, в культурном отношении Гомель мало чем отличается от столицы. Что же касается труб, то это не заслуживающая внимания деталь. Уж на что знамениты Афины, кажется, туда даже из Америки приезжают, ну, а в Афинах тоже нет этих труб, так что нечего попрекать неприличными бочками Гомель. Разумеется, комхоз всячески ограждает носы граждан. Бочки разрешается вывозить только ночью, да и то в закрытом виде. Однако не все подчиняются даже самым строжайшим запрещениям. Я не говорю о жулике Гершановиче — этот знает все правила наизусть, как десять заповедей: где нельзя плевать, а где можно, в каком месте переходить базарную площадь, в какие дни вывешивать флаги и даже откуда входить в трамвай, хоть в Гомеле имеется всего-навсего проект трамвая. Но ведь существуют на свете граждане поважнее Гершановича, и вот бочка одного учреждения выезжает среди бела дня, даже без надлежащей покрышки. Что здесь поделаешь? Как говорят в Гомеле, бывает, что и плевок заслуживает уважения. В жаркий летний день крикнет кто-нибудь: «Едет» — уж не спрашивают гомельчане кто — знают, сейчас же закрывают они наглухо окна и, забившись в угол, подносят пальцы к чувствительным придаткам обоняния. Вот из-за этой бочки и влип Левка-парикмахер. Беда застигла его на улице, и он не успел забежать в соседнюю лавочку. Зажав нос, возмущенно он завопил: — Чтоб они сдохли с этой невыносимой бочкой! Конечно, глупо кричать на улице. Но ведь Лазик не зря ссылался на Левку. Парикмахер действительно любил возгласы. Во время кампании «безбожника» он так кричал, что даже охрип. Он и в синагогу вбежал с криком: «Долой эту тухлую субботу! Да здравствует, скажем себе, понедельник!» В кино он не мог сидеть спокойно: сколько раз выводили его. Показывают, например, какого-нибудь лорда, который заговаривает невинную девушку, а Левка уже с ума сходйт: «Я тебя бобриком постригу, этакий нахальный феодал!..» Словом, Левка был известным горлодером, и поэтому возглас касательно бочки не мог никого удивить. Лазик недоверчиво спросил его: — Если ты только издал возглас, почему же тебя посадили? Ты ведь всегда это делаешь. Я думаю, Левка, что здесь дело совсем не в бочке. Левка иронически прищурился, как будто он стриг лорда. — Кто тебе говорит, что дело в бочке? Конечно, дело не в бочке: бочка ездит каждый божий день. Дело в какой- то гражданке Пуке. Она заявила, будто бы я произнес целую демонстративную речь. Лазик задумался. — Я ведь тоже влип из-за гражданки Пуке. Это какая- то перепуганная женщина. Но я спрашиваю себя, если она будет еще долго гулять по улицам Гомеля, то как же мы будем здесь шевелиться? Пока нас только девять, но завтра нас может быть сто девять. Я теперь буду всю ночь думать, в чем же здесь дело и чего она боится, эта гражданка Пуке: румынского вмешательства или какой-нибудь кулацкой неувязки? Слушай, Левка, раз ты попал сюда, пожалуйста, сейчас же побрей меня, чтоб я не так много думал. Увы, хоть Левку забрали со всеми его орудиями производства, — шел он брить больного Осю Зайцева, — бритву у него отобрали. Оказывается, они боятся, чтоб он не покончил с собой. Смешно! Вдруг из-за какой-то Пуке Левка станет резать себе шею. — Но если ты хочешь, Лазик, я могу тебя намылить, потому что они мне позволили взять с собой кисточку. У тебя, конечно, останется борода, но тогда ты сможешь думать, что у тебя больше нет бороды. Долго Левка мылил подбородок Лазика. Потом он издал несколько ужасных возгласов, которые я лучше оставлю без внимания, и, окончательно утомленный, заснул. Но Лазик не спал. Он накручивал на палец бородку. И он думал. Далеко за полночь он разбудил нагло похрапывавшего Левку. — Я уже все понял. Ты знаешь, в чем дело? В этом самом режиме экономии. Она вовсе не боится ни румын, ни неувязки, она только боится, чтоб ее не сократили, потому что теперь всюду беспощадно сокращают неподвижных сотрудников. Конечно, даже такая Пуке хочет кушать курицу и рыбу. Это совсем понятно, и я думаю, что мы не должны на нее сердиться, нет, мы должны ей выдать замечательный аттестат, как на сельскохозяйственной выставке. 58 5 Увидав одноглазого Натика, Лазик умилился: — Это замечательно, что тебя посадили, Натик. Во- первых, теперь некому будет наклеивать воззвания, и этой гражданке Пуке придется придумать какой-нибудь новый фокус; во-вторых, нас теперь ровно десять, и если кто-нибудь сегодня умрет от тоски по неприкрашенной свободе, то можно будет его похоронить со всеми отсталыми штучками, — ведь нас будет тогда ровно десять евреев. Вы спросите: откуда десять, если один умрет? Десятый это сторож. Хоть он и уверяет, что он какой-то закавказский грузин из полусамостоятельной федерации, я думаю, что он скорей всего мой двоюродный племянник из Мозыря и что его настоящая фамилия Капелевич. Впрочем, если от тоски по неприкрашенной свободе и по Фенечке Гершанович умру именно я, Лазик Ройтшванец, то я прошу вас не читать надо мной прискорбных молитв. Пусть лучше Левка споет надо мной контрабандную песенку о заграничных бананах. Я никогда не пробовал этих выдуманных фруктов, но я знаю, что такое самая ужасная страсть. И я прошу вас не говорить надо мной «кадиш». Я прошу вас сказать: «Он, может быть, был гнилым продуктом, и он, наверное, утаил пфейферские брюки. Но он любил неприкрашенную свободу, разгул деревьев на берегу Сожа, звезды, которые вертятся где-то в пустых горизонтах, и он любил одну гомельскую девушку, имя которой да будет покрыто последней тайной». Я прошу вас сказать все это — если я умру, но, конечно, я вовсе не думаю умирать, и я даже думаю сейчас же доказать тебе, Натик, что ты, как говорит товарищ Гуревич, какая-нибудь оскопленная личность. Если я уничтожил самого Гершановича, то я в пять минут докажу тебе, что земля держится вовсе не на трех подпорках и что гораздо лучше заниматься хорошенькой китайской головоломкой, нежели повторять всю жизнь одни и те же прискорбные фразы, которые известны всем гомельским кошкам, не говоря уже о собаках. Только-только Лазик начал просветительную лекцию, как внимание его отвлек новый арестант, вернее, пиджак. Лазик смотрел на мир глазами честного кустаря-одиночки — он замечал прежде всего покрой костюма. Глазами он ощупал материю новичка: это самая настоящая контрабанда, может быть, по восьмидесяти рублей за аршин. Скроено не так уже важно. Кроил, наверное, Цимах: это не портной — это сапожник. Чтоб испортить такой материал! Но в общем это могло влететь ему в сорок червонцев. Разве глупо сказано: «Все суета сует»? Вы увидите, что останется через неделю от этого небесного материала, когда здесь торчит из нар какая-то сплошная щетина. Но кто же мог заказать себе такой предательский костюм?.. Лазик наконец-то взглянул па лицо щеголя. Перед ним стоял знаменитый гомельский жулик Митька Райкин, который продавал пишущие машинки, покупал спички и мандаты, держал вокзальный буфет, строил крестьянский киоск для свободной выдачи селькорам лимонаду, а также безбожной литературы и лопал в полное свое удовольствие каждый божий день курицу. Кажется, Митьке нечего было удивляться тому, что он очутился здесь, но Митька искренно удивлялся. Он пожимал плечами, наивно чихал, желая выразить этим свое негодование, и подбирал брючки, чтоб они не коснулись острожного пола. Он первый заговорил с Лазиком. — Ну, что вы скажете? Лазик нашел вопрос Митьки чрезвычайно неделикатным. Пусть спрашивает Цимаха, который так замечательно сшил ему костюм. Митька, кажется, не следователь. Почему Лазик обязан отвечать ему на глупые вопросы? Я? Я ничего не скажу. — Ах, вы тоже ничего не можете сказать? Это же сплошной анекдот! Чтоб меня посадили за решетку, как обыкновенного бандита! Я же выдал целых пять червонцев в пользу этих самых китайцев. Я, кажется, должен строить не кафешантан, но просветительный киоск, четыре раза одобренный центром. Если, например, вас посадили, так, наверное, вы сделали что-нибудь противозаконное. Видя душевные муки Митьки, Лазик смилостивился: — Да, я что-то сделал... Я вздохнул в присутствия гражданки Пуке. — Вот видите — это, наверное, составляет полное оскорбление нравов. Вас посадили за ваше дело. А меня за что? Они придумали такую смепнгую историю, что я бы смеялся до упаду, если бы я только не сидел в этой невыносимой тюрьме. Вы послушайте: если я хочу, чтобы «Укрспичка» купила арифмометры у меня, а не у Шварцберга, я должен дать заведующему двадцать процентов. Это совсем обыкновенная операция. Что же происходит? Сначала он хочет сорок процентов, как будто он не в губернском городе, а на большой дороге. Когда я отвечаю деликатно «нет», он покупает арифмометры у низкого Шварцберга. А потом меня хватают, как будто я зарезал живого человека, и кидают в этот невыносимый острог. Когда я спрашиваю, за что такие терзания, они отвечают мне: «Вы, Райкин, настоящий взяточник». Это же глупо, называть обыкновенную операцию таким уголовным именем. Я вовсе не дурак, и я хорошо понимаю, в чем дело. Заведующий «Укрспичкой» — кошмарный антисемит. Это раз. Следователь готов съесть живьем каждого еврея, несмотря на все их замечательные декларации. Это два. Здесь Лазик попробовал запротестовать: — Но ведь товарищ Кугель такой же еврей, как вы и как я, только с вполне испытанным стажем. Митька, однако, не унимался: — Это все равно. Когда я говорю вам, что они вполне антисемиты. Это второе дело Бейлиса. Но за Бейлиса вступилась Америка. А кто вступится за меня? Никто. И что мне остается, спрошу вас? Одно — сидеть и вздыхать. — Сидеть вы, конечно, можете. Но вот вздыхать я вам не советую. Если вы обязательно хотите выразить свое негодование, лучше чихайте, как вы теперь чихаете, только не вздыхайте. Товарищ Ландау объяснил мне, что вздохи— это чисто патологическое явление. Причем я уверяю вас, что если меня наполовину оправдали, то только из-за моего исключительного происхождения. А ведь ваших незабвенных родителей, наверное, венчали не на кладбище, но под каким-нибудь пышным балдахином, и вам за каждый вздох могут закатить 59 несколько долговечных месяцев. Нет, гражданин Райкин, если вы даже второй Бейлис — сидите себе тихо и чихайте, а когда вам надоест чихать, тогда мы сможем поговорить о великом китайском вопросе. Дня три спустя Лазик познакомился с новым обитателем камеры номер шесть, с заведующим гомельским отделением «Беллеса» гражданином Чебышевым. Костюм на Чебышеве был плохенький, но двадцать рублей аршин— красная цена. Правда, в гардеробе Чебышева висели четыре первосортных английских костюма и даже смокинг, но об этом мало кто знал. Не желая вводить малых сих в соблазн, Чебышев надевал английские костюмы только дома, закрыв наглухо ставни, а в смокинге он даже перед избранными друзьями не решался показаться, в смокинге он только соблазнял по ночам свою чересчур флегматичную супругу. Как же мог попасть такой осмотрительный человек в тюрьму? Присмотревшись к посланным ему судьбой сожителям, Чебышев остановился на Лазике. Как-то обняв его за шею — Лазик приходился ему чуть выше колен, — Чебышев завел лирическую беседу: — Я про вас не говорю. Вы симпатичный еврей. Но не все такие. Я сам в свое время стоял за равноправие. Но ведь кто же тогда знал? Я могу еще понять уничтожение черты оседлости. Что же мы видим? Отбирают у нас землю и дают ее каким-то пришельцам. Где? В Сибири, куда нас теперь ссылают? Нет. В Крыму. Куда мы ездили когда-то наслаждаться лазурным морем. Может быть, на берегу, возле Ялты. Скажите, разве это не возмутительно? Лазик пожалел Чебышева: — Значит, у вас был на берегу лазурного моря хорошенький огород? Чебышев обиделся: — Я, милый мой, с университетским дипломом. Огород? Я в эту Ялту только на весенний сезон ездил. Я до революции занимался исключительно римским правом. Это вам не капусту сажать. Это непостижимая для вас культура... — Ну да, хоть я и занимаюсь теперь китайской головоломкой, но это для меня... — Не перебивайте! Я скажу вам все. Это не равноправие, это еврейское засилье. Это уничтожение коренного населения пришлым элементом. Вы сами судите: я должен был купить для отделения «Беллеса» конторскую мебель. Это связано, конечно, с расходами. Провести смету не так-то легко. Приходит один пархатый из неудачных комиссаров и предлагает мебель втридорога. Я объясняю ему: по такой цене провести почти невозможно. Что скажет рабкрин? Сколько ртов здесь надо заткнуть? Я говорю ему: минимум сорок процентов. Он же начинает торговаться, как на базаре. Простите меня, но это паршивое племя. Мне пришлось взять мебель у его конкурента. В итоге — тюрьма, разбитое положение, отказ от остатков культурной жизни, черт знает что. Как же я могу жить, я, простофиля, наивный русак, среди этого нахального кагала, скажите? — Очень просто. Пока вы говорили, я думал. И я уже придумал. Молодой человек должен найти хорошенькую девушку, вроде товарища Фени Гершанович, ключ должен найти замок, тогда начинается беспроигрышное счастье. Вы посидите немного, и вас отпустят, потому что рано или поздно всех отпускают. Если они не отпускали бы, то куда бы они сажали новых? Вас отпустят, потому что будет какая-нибудь маленькая амнистия или разгрузка... или потому что им попросту надоест ваше, простите меня, оскорбленное навеки лицо. И тогда вы будете чем-нибудь заведовать, если не «Беллесом», то «Укрсахаром». Не так уж много людей, которые знают настоящее римское право. Вы будете снова сидеть в роскошном кабинете. Так я сейчас познакомлю вас с Митькой Райкиным. Он продавал пишущие машинки, но если вам понадобится мебель, я даю вам слово, он моментально достанет мебель: это же самый первый мошенник Гомеля. У вас времени, кажется, много— двадцать четыре часа в сутки, и вы можете с ним обо всем сговориться: скажем, вы сговоритесь на тридцати процентах. Тогда никто больше не скажет ему, что он дает, а вам, что вы берете. Это будет самая обыкновенная операция, и вы оба будете вполне счастливы. Когда ключ находит скважину, можно пить вино по два рубля за бутылку и смеяться, как смеются одни ангелы. Вы увидите, гражданин Чебышев, что вас ждет настоящая, непостижимая мне культура. Только я извиняюсь, несчастен, потому что у меня нет ключа и я может, никогда не увижу глаза Фенечки Гершанович, такие же лазурные, как море вашей незабвенной Ялты. 6 Срок Лазика кончался десятого августа. Шестого под вечер Лазика вызвали в тюремную контору. Он вовремя подавил вздох. — Меня не могут еще выпустить, и меня не могут уже расстрелять. Значит, они хотят, чтобы я заполнил сорок девятую анкету. Но скажите, откуда я знаю, сколько кубических метров воздуха проглотил мой безответный отец?.. Лазик ошибся. Председатель Комиссии по разгрузке мест заключения прокурор Васильев вызвал Лазика Ройтшванеца с самыми человеколюбивыми намерениями. — Мы хотим вас освободить до срока. Лазик задумался. — На этот раз я действительно ничего не понимаю. Вы думаете, я не наводил маленьких справок? Мой двоюродный племянник, незапятнанный кандидат, товарищ Капелевич, рассказал мне, что до срока освобождают перед Октябрьской годовщиной и перед могучим праздником Первого мая. Но, к сожалению, гражданка Пуке узнала о сокращении штатов именно в июле. Это совершенно пустой месяц. Правда, некоторых гражданок освобождают к Восьмому марта, к всемирному женскому дню, но ведь теперь, конечно, не март, и я притом никак не гражданка. Почему же вы хотите освободить меня? Товарищ Васильев только-только начал: — Комиссия по разгрузке... 60 Как Лазик торжествующе прервал его: — Я же говорил этому жулику Райкину, что у нас не хватит места! Я, конечно, понимаю, что засиживаться в гостах неприлично, и я готов сейчас же разгрузить вас от всего моего печального присутствия. Товарищ Васильев, однако, был честным прокурором. Испытующе оглядев Лазика, он сказал: Ваши шутки мне не по вкусу. Это пошлость и обывательщина. Прежде чем отпустить вас, я хочу убедиться, действительно ли вы исправились. Честный труд — вот основа нашего свободного общества. Если какой-нибу кулак выступает против флага и против герба как против выразительных символов мозолистой республики — это вполне понятно. Но кустарь- одиночка должен свято любить эмблему мира и трудовых процессов. Обещайте мне больше не выступать против законов, установленных рабоче-крестьянским правительством, и я тотчас же под пишу приказ о вашем досрочном освобождении. Мерси, нет,— стойко ответил Лазик.— Сегодня кажется, шестое августа. Конечно, я не скрою от вас — четыре дня это что-нибудь да значит. Мы вовсе не живем двести лет, как патриархи или как слоны, чтобы швыряться четырьмя сияющими днями. Увидеть на четыре дня раньше порхающих птичек в парке бывшем Паскевича и товарища Феню Гершанович — это ведь настоящее счастье! Но я не могу вам дать зловещего обещания, потому что я не читал законов рабоче- крестьянского правительства и потому что я не знаю, гуляет ли еще по улицам Гомеля гражданка Пуке. Нет, лучше уж просижу еще четыре дня среди горючих слез и вековой паутины. — Вы меня не проведете, гражданин Ройтшванец. Не одного симулянта я вывел на свежую воду. Вы можете быть малосознательным. Это я допускаю. Но что такси честный труд и противозаконные демонстрации— это вы хорошо знаете. Итак, я в последний раз вас спрашиваю: раскаиваетесь ли вы в вашем проступке и намерены ли вы впредь подчинить свое индивидуальное поведение общественным интересам? — Конечно, я раскаиваюсь в пфейферских брюкам. Это было самое последнее злодейство. Я так и сказал на; суде гражданину председателю. Потом я об этом, говоря откровенно, больше не думал. Я думал скорее о гражданке Пуке и о глазах товарища Фени Гершанович. Так что, если вы думаете, что я раскаялся, сидя на каких-то занозах вместе с гражданином Райкиным, то вы вполне ошибаетесь. Я раскаялся один раз на суде, и этого достаточно. Сколько же можно думать о каких-то брюках? Поставьте у себя в книжечке подходящий крестик: «Ройтшванег раскаялся», и не будем больше обсуждать этот протекший момент. Но вот зловещего обещания я вам не выдам. Если не считать этой истории с Пфейфером, я, безусловно, честный портной, и если обещаю сдать заказ к пятнице, я его сдаю. Откуда я могу знать, что со мной будет завтра? Человек — это же крохотное бревно среди кипучих волн нашего Сожа. Почему я утаил от фининспектора тридцать пять рублей? Потому что в окнах отсталой квартиры служителя культа загорелись безумные глаза одной недоступной гражданки. Я не хочу ни вкусных кушаний, ни крымского вина, ни пышных галстуков, ни бриллиантов. Но вот я увидел эти глаза, и я моментально потерял всю свою классовую совесть. Я ходил и вздыхал, а она стояла и смеялась. Я кричал ей: «У меня сердце рвется на куски», — а она хладнокровно исполняла свои международные мелодии. Тогда я решился на черное дело. Я утаил брюки от фининспектора, и на эти три рубля пятьдесят копеек я купил американский пульверизатор, полный ароматного дыхания орхидеи «Тэжэ». Я хотел им обрызгать, как поэзией моего сердца, эту недоступную гражданку. Но вот случилась интервенция одной известной вам особы, о которой я сейчас лучше не буду говорить. Пульверизатор остался в жестокой конторе, и он, наверное, опустел. Как я теперь встречусь с товарищем Феней Гершанович? У меня нет ни ароматных струй, ни смеха, ни торжественных звуков. Может быть, я кинусь в глубокие воды Сожа или же уеду в какую-нибудь Сибирь искать подложное счастье. Я не могу вам выдать зловещих обещаний. Я не святой, я только полусознательный кустарь-одиночка. Вы мне не верите? Я расскажу вам одну красивую историю. Вы потеряете, конечно, время, которое дороже денег, но зато вы услышите настоящую правду, а правда, по-моему, еще дороже времени. Я почти такой же марксист, как и вы, и я хорошо понимаю, что все это классовые штучки. Но ведь под отсталым сюртуком позапрошлого столетия билось настоящее человеческое сердце, и хоть мы с вами вполне марксисты, мы, простите меня, кроме того настоящие люди, и вот почему я и хочу рассказать вам эту красивую историю. Это случилось с коцким цадиком, с тем самым цадиком, который всю жизнь искал, запершись, какую-то придуманную истину. Он плюнул и на богатство, и на жену, и на почет. Он на все плюнул. Он сидел в тесной каморке и ел сухой хлеб. Он читал невыносимые книги, вроде китайского вопроса, и двадцать четыре часа в сутки он думал над этими книгами. Он был, кажется, самым сильным человеком, которого только можно придумать, и все, конечно, говорили, что у коцкого цадика нет ни одной малюсенькой слабости, это даже не человек, а одна высокая мысль. Но вот перед смертью коцкий цадик говорит своему любимому ученику: «Ты не знаешь, мой любимый ученик, что я делал всю мою угрюмую жизнь? Я занимался одним огромным грехом: я слушал женское пение». Должен я вам сказать, гражданин прокурор, что набожному еврею никак нельзя слушать женское пение. Это, конечно, сознательный предрассудок, но ведь все люди любят выдумывать различные запрещения; тогда им немножечко веселей жить. Вот жулик Райкин, он беспартийный, и он может преспокойно танцевать у себя дома фокстрот, а вам, гражданин прокурор, это вполне запрещено, и, значит, вы хорошо поймете, что какому нибудь отсталому еврею нельзя слушать женское пение. И вот представьте себе— коцкий цадик признается что он всю свою жизнь, сидя у себя в тесной каморе, где были только книги и мысли, слушал женское пенье. Он раскрывает свою тайну любимому ученику: «У меня комнате стояли старые часы с боем. Их сделал несчастный часовщик из Проскурова, вскоре после этого он сошел с ума. У часовщика умерла прекрасная невеста, и бой этих часов напоминал женский голос. Он был так прекрасен и так печален, что я улыбался и плакал, слушав его. Я знал, что это грех, что я должен сидеть и думат над истиной, но я подходил к часам, и я уговаривал себя «они немножечко отстают» или «они 61 чуточку спешат». Я двигал стрелку, и часы снова били, и это говорила со мной женщина дивной красоты, она говорила мне о любви и о горе, она говорила о звездах, о цветах, о моей мер твой весне и о живой весне сумасшедшего часовщик; когда поют птицы и когда шумит дождь». Любимый ученик, конечно, испугался за свою крохотную веру, и отстал приставать к учителю: «Что ж мне теперь делать, реби?» А коцкий цадик спокойно отвечает ему: «Если у тебя нет часов, ты можешь слушать, как шумит дождь, потому что дождя у тебя не отнимут никакие книги, и улыбки они не отнимут, и греха не отнимут, и не отнимут они любви». Гражданин прокурор, он же понимал, в чем дело, этот отсталый цадик. Теперь скажите мне, как я могу вам выдать какое-то обещание? Оставьте меня здесь не только четыре дня, а четыре года, я все-таки отвечу вам полным признанием, я скажу вам: «Я слышал эти часы даже в тесной тюрьме, за последней решеткой, и мне легче сейчас же умереть под холодной пулей, нежели прожить всю жизнь без одного удара этих недопустимых часов». 7 Стоя на высоком берегу Сожа, гомельчане вот уже который час спорили. Пфейфер, тот даже охрип: — Я вам говорю, что этот «Коммунист» сел, и он сел, и он сидит, а мы можем идти себе спать. (Хорошо, что не было здесь гражданки Пуке! Поди объясни потом, что «Коммунист» — это обыкновенный беспартийный пароход, груженный яйцами и киевской гастрольной группой.) Сел! Ося Залкин негодующе отряхивался: — Чтоб моим врагам было так хорошо, как он сел! Он идет, и он скоро придет. Если не через час, так через два, но он обязательно придет, и вам, Пфейфер, стыдно отрицать науку или эти замечательные черпалки из-за каких-нибудь сухих погод... Кто знает, сколько бы они простояли на высоком берегу Сожа, если бы не раздался сзади тоненький голосок: — Он сел и он не сел. Вы же не понимаете даже самой коротенькой диалектики. Можно подумать, что вы стопроцентные идиоты и читаете пароходное расписание. Кто же не знает, что солнце печет, что черпалки черпают, что наука это наука и что «Коммунист» каждый день садится на мель, а потом ему, конечно, надоедает, и он сходит с мели, и он приходит в родной Гомель. Тогда он на радостях свистит, может быть, все сто раз. Если б у меня была труба, я бы тоже сейчас свистел, потому что я тоже торчал на мели, и я сошел с нее и вернулся на этот высокий берег, и мое сердце кустаря-одиночки готово разорваться от восторга, когда я гляжу на свободные деревья, на всю организованную толпу дорогих мне личностей и даже на ваши проклятые брюки, незабвенный гражданин Пфейфер. Увидев Лазика, спорщики сразу притихли. Вышел? Пусть вышел. Не целоваться же на улице с человеком, которого судили за оскорбление флага и герба! Пфейфер сказал: — Пароход всегда приходит, раз законом установлены черпалки и летнее расписание, мы это понимаем без ваших опасных слов. Лазик расхохотался. — При чем тут расписание? Кажется, он должен приходить рано утром, но он приходит поздно вечером, и я не возражаю. Можно идти по главной улице и тоже сесть на мель: это законы природы. Но почему вы, гражданин Пфейфер, изображаете какого-то британского дипломата, когда я дрожу от неслыханной радости? Я, может быть, пострадал именно из-за ваших брюк, но я ни капельки не жалею об этом. Я их замечательно сшил, не так, как сшил Цимах из лучшего материала что-то такое жулику Райкину, нет, я сшил их, как осмеянный бог. Вот посмотрите на эту складочку, разве она не выглядит как улыбка?.. — Вы, вероятно, ослепли, некто Ройтшванец, в вашей заслуженной тюрьме. На мне, кажется, серые брюки, и сшил их не кто иной, как товарищ Цимах, который честно кроит брюки, а не оскорбляет гербы. Вы хотели меня втянуть в ваш черный заговор с этими, будь они прокляты, брюками. Как будто я не знаю вашу подлую речь на суде, где вы ни с того ни с сего произнесли мою чистую фамилию? Ко мне приходили шесть раз из-за этих, будь они прокляты, брюк, и если меня что-нибудь спасло, то только мое чисто красное прошлое. Я их выкинул — эти, будь они прокляты, брюки. Я их выкинул, как самую грязную клевету, хоть они стоили мне тридцать пять рублей, утаенных не мной, а вами. Я могу вам сказать одно: пароход придет вовремя, и вы сидели за дело, я теперь настоящий кандидат его призыва, и я прошу вас, некто Ройтшванец, не разговаривать со мной, по крайней мере, в таких публичных местах. Сказав это, Пфейфер быстро удалился. Разошлись гомельчане по домам, так и не дождавшись парохода. Лазик остался один среди свободных деревьев. — Пфейфер попросту взбесился. Это бывает от жары, когда мелеет Сож, и от этого не помогают никакие черпалки. Цимах сшил ему жестокое посмешище; каждый видит, что складка совсем не на месте. Кандидатом его призыва я тоже могу стать, и я понимаю больше, чем Пфейфер, в светлом китайском вопросе. А пока что надо зайти домой и, переменив хотя бы необходимую рубашку, побежать, задыхаясь от всего приготовленного счастья, к товарищу Фене Гершанович. Подойдя к своему дому, Лазик съежился и обмер. Уж не спит ли он? Кажется, один ненормальный цадик часто спал, когда он не спал, и тогда он отчаянно кричал: «Ущипните меня, чтоб я видел наконец, сплю я или не сплю». Ущипните бедного Лазика! Нет, он не спит. Это улица Клары Цеткиной. Это третий дом от угла. Это сердце Лазика, беспокойное сердце, полное любви к Фенечке Гершанович. Почему же над левым окном, где висела роскошная вывеска «Мужеский портной Л. Ройтшванец», теперь болтается какая-то юркая дощечка со 62 зловещей надписью: «Изготовка флагов установленного образца, также лучшие пионерские барабаны Моисея Рейхенгольца»? На всякий случай Лазик почтительно обнажил голову; минут пять простоял он, трепеща и поклоняясь, потом решился: тихо поскребся он в дверь, как провинившийся пес. Дверь открыл Пфейфер. — Ах, это вы, несчастный Ройтшванец? Но зачем же вы пришли сюда? Разве вы не видите, что вас здесь нет? Здесь живет теперь гражданин Рейхенгольц. И он вовсе не портной. Он даже изготовляет... Лазик затрясся. — Ради всего осмеянного лучше не говорите при мне этих уголовных слов! Я ведь никого не оскорбляю. Я только хочу спросить вас — где же в таком случае находится мое печальное имущество, хотя бы необходимая мне рубашка? — Он, наверное, ее носит, этот Рейхенгольц. Как будто, если он изготовляет установленные флаги, ему не нужны рубашки? Говоря откровенно, он последний грубиян, у него неслыханные связи. Что ему ваша рубашка, если он вошел ко мне, увидел на столе пять крутых яичек и моментально слопал их все пять, он даже не сказал мне, что они ему почему-нибудь нравятся. Он взял все ваше печальное имущество, и он отдал вам только два жестоких воспоминания: вот эту вывеску и портрет португальского бича. Лазик не стал оплакивать потерянной рубашки. Он даже не пожаловался на жестокость судьбы. Прощайте, Пфейфер! Вы были удивительным ответственным съемщиком, и вы не должны сердиться за то, что я произнес на суде вашу чистую фамилию. Это было взрывом неожиданного раскаяния. И я теперь сам раскаиваюсь в этом. Но в одном вы не правы: вы их напрасно выкинули. Это были замечательные брюки. Это были, наверное, мои последние брюки или, как поет Фенечка Гершанович, это была моя лебединая песня. Я, кажется, больше не мужеский портной, но только неустановленная личность. Если я через четверть часа найду задуманное счастье, я буду жить на высоком берегу Сожа среди деревьев и питаться случайными ягодами. Я буду тогда счастливее, чем этот Рейхенгольц, со всеми его установленными связями. Но если я ничего не найду через четверть часа, я уеду куда-нибудь далеко — в Мозырь или даже в преступную Палестину. Долго стучался Лазик в дверь служителя культа, ему не открывали. Наконец из окна высыпалась седая борода Гершановича. — Спрашивается, почему ты скандалишь? Тебя мало учили в тюрьме? Если тебе не открывают дверь, значит, ее тебе не хотят открыть. Я, конечно, отсталый гражданин, но я не бандит. Я молюсь за процветание всего необъятного Союза, и я вовсе не хочу говорить с каким-то признанным злодеем. — Простите мой неприличный стук, гражданин Гершанович, но горячие чувства сильнее всякого разума, и я ждал этой минуты ровно шесть долговечных недель. Я вас попрошу только отодвинуть эту жестокую задвижку, чтоб я мог увидать задушевные глаза вашей дорогой дочери. — Я думаю, что моя дочка тоже не захочет разговаривать с таким ужасным преступником, если она поет международные мелодии и если она теперь все время разговаривает с уважаемым товарищем Шацманом. Несмотря на маленький рост и на тоненький голос, Лазик был ревнив. Услыхав имя Шацмана, он начал еще сильнее стучать в дверь и визжать: — Откройте ее! Если передо мной открылась железная дверь тюрьмы, предо мной откроется и эта смехотворная калитка. Фенечка не может разговаривать с Шацманом, потому что у Фенечки лебединая душа, а Шацман глуп, как индейский петух. Откройте дверь, не то я совершу преступление! Я оскорблю этого Шацмана, а может этот Шацман тоже какой-нибудь флаг или герб... Перепуганный Гершанович открыл дверь. Он попытался успокоить Лазика: — Зачем тебе понадобилась обязательно Феня? Разве ты не можешь жениться на какой-нибудь другой девушке? И о чем этот крик, когда она уже на одну треть его настоящая жена! Я говорю на одну треть — потому что я отсталый служитель культа. Чтобы жена стала женой, нужно, чтоб он надел на ее палец кольцо в присутствии двух хороших евреев. Это одна треть. И Шацман, конечно, этого не сделал. Нужно, чтоб он подписал брачный договор. Это вторая треть. И этого он тоже не сделал. Он подписал вместо этого удостоверение, что я инвалид труда и что меня не следует отсылать в какие-то болота. Но остается последняя треть. Нужно, чтоб он провел с ней одну ночь как с настоящей женой. И это он, наверное, сделал. Он провел с ней даже не одну ночь, а, может быть, двадцать ночей. Значит, для меня она его жена на одну треть. А для него она жена на все три трети. Лазик впал в беспамятство. От гнева трясся на его крохотной головке пушистый хохолок. Он пищал: — Я его заколю ножом, как в позапрошлом столетии! На крик вышла Фенечка. Она была в лиловом капоте, и, увидев ее белую шейку, Лазик упал на колени. Он протянул к ней дрожащие руки. — Вы настоящая сирень, и вы дивный лебедь из ваших мелодий. Вы не можете быть женой Шацмана. У Шацмана только высокое положение и нахальная душа. Я никогда не говорил вам этого, но теперь я скажу вам ужасную вещь — я люблю вас самой отсталой любовью, и я могу сейчас же умереть от этих преувеличенных чувств. Фенечка в ответ захохотала. — Тоже... Поклонник! Перемените лучше рубашку, она такая черная, как будто вы пришли на похороны. — Я не могу этого сделать, потому что мои рубашки больше не мои рубашки. Их забрал один гражданин, который изготовляет неназываемые вещи. Но я пришел не на похороны. Если вы хотите, я пришел скорее всего на свадьбу, потому что, хотя я и презираю дешевый опиум вашего уважаемого родителя, я готов тотчас же выполнить все его три трети, чтобы только заслужить один ваш поцелуй... Вы думаете, что я могу целоваться с таким жалким пигмеем? Я выбрала товарища Шацмана, и вы мне прямотаки смешны. Чтобы стать моим свободным другом, нужен, во-первых, пол. А у вас нет никакого пола. 63 Вы десять раз со мной гуляли в парке, и ни разу вам не пришло в голову, что меня можно нахально поцеловать. Вы должны жениться не на женщине, а на какой-нибудь божьей коровке. Во-вторых, нужны деньги. Что вы мне подарили за все время? Порцию мороженого с лотка и глупые разговоры. В-третьих, нужно положение. Замечательная фигура — бывший портной из воровской тюрьмы! В-четвертых, мне нужны духовные наслаждения. Может быть, вы скажете, что вы умны, как Троцкий? Может быть, вы скажете, что вы умеете танцевать фокстрот? Вы даже не повели меня ни разу в американское кино. Вы только ходили и вздыхали, как товарный паровоз. Хорошенький любовник! Что же вы молчите? Фенечка больше не смеялась — она негодовала. Ее голос звучал сурово и непоправимо, как речь гражданина прокурора. Подумав, Лазик ответил: — Вы совершенно правы, товарищ Гершанович, и я сейчас уйду в глубокую ночь. Я только объясню вам, почему я не поцеловал вас нахально, гуляя в парке, и почему я не подносил вам самых роскошных туалетов. Это называется смешная история об одной корове. Может быть, я ее прочел где-нибудь в Талмуде, а может быть, мне рассказал ее Левка- парикмахер — он ведь любит позорные анекдоты. Одному еврею нужны были к субботе свечи, и у него не было денег. Тогда он продал соседу корову. Но вот проходит день или даже два дня, и сосед кричит в необыкновенном возмущении: — Твоя корова не дает молока... Но еврей преспокойно ему отвечает: — Я не понимаю, почему ты сердишься? Она же не дает молока не потому, что она не хочет, а потому, что она не может. Ты знаешь, что я тебе скажу — у нее, наверное, нет молока. Вот и все, товарищ Феня Гершанович. Правда, у меня была горячая любовь и другие позапрошлые чувства, но они теперь никому не нужны. Я желаю вам чудного счастья с этим неназываемым Шацманом, и я прошу вас не сердиться на поруганного пигмея. Ночь Лазик провел на высоком берегу Сожа, а рано утром от направился к своему бывшему дому, не потревожив Пфейферов, он прямо обратился к гражданину Рейхенгольцу: — Я пришел к вам не за рубашками. Вы можете их носить до вашего полного успокоения. Зачем мне говорить с вами о рубашках, когда вы все равно не станете со мной об этом говорить? Я же знаю, что у вас неслыханные связи. Но я прошу вас купить у меня за четыре несчастных рубля эту роскошную вывеску. Она вам, наверное, пригодится. Может быть, вы вздумаете стать мужеским портным. Это гораздо спокойнее. За оскорбление брюк ведь никого не судят. Но если вы даже не станете портным, может быть, вы вздумаете переменить фамилию. Я вас уверяю, что «Ройтшванец» гораздо ближе к текущему моменту, чем этот пышный «Рейхенгольц». Тогда вы замажете верх, и у вас будет роскошная вывеска. Наконец, вы можете замазать все и написать самые необыкновенные вещи. Это хороший довоенный материал, и она выдержала восемь разнообразных режимов. На ней стояли смешные твердые знаки и даже какая-то петлюровская завитушка. Дайте мне четыре рубля, и я тотчас же уплыву в неизвестные страны. Я возьму с собой только портрет португальского бича и мое ужасное положение. Если же вы не купите вывеску, я могу умереть у дверей моего бывшего дома, и тогда вам будет, наверное, неприятно носить рубашки какого-то живого самоубийцы. Пароходик отплыл согласно летнему расписанию. Он задорно посвистел, но через полчаса сел на мель. С сочувствием Лазик потрепал борт: — Это ничего. Это бывает. Потом это проходит. Мы еще с тобой посвистим, дорогой пароход! Я потерял вывеску и счастье. Я потерял даже Фенечку Гершанович. Я вполне случайно не умер. Значит, я должен жить. Что же, через неделю я буду каким-нибудь замечательным кандидатом. 8 Корабли выходят в открытое море, и гомельские портные становятся историческими личностями. По сравнению с Днепром судоходный Сож кажется жалкой речушкой. Что сказала бы Фенечка Гершанович, увидев крепдешиновые манто в «Пролетарском саду»? А речи!.. Куда тут товарищу Ландау! Гремят автобусы, сверкают огни, прямо по беспроволочному телефону разносятся пылающие призывы. Лазик Ройтшванец сдержал обещание. Прибыв в Киев, он стал честным кандидатом и даже дежурным членом клуба служащих «Харчсмака». Он ходил теперь все время на цыпочках. Скажу без натяжки, несмотря на всю тщедушность комплекции, он готовился к большому плаванию, как и подобает большому кораблю. Однако и здесь ожидали его тяжелые испытания. Мишка Минчик тоже был кандидатом, и к тому же он был большим лентяем. Лазик, тот во сне бормотал: «Чан- Кайши, Чанг-Тсолин, Сун-Чунгфанг». Мишка Минчик не хотел утруждать себя подобной зубрежкой. Нет, он только восторженно улыбался, сталкиваясь с мужественной физиономией секретаря контрольной комиссии товарища Серебрякова. По вечерам в клубе служащих «Харчсмака» молодняк танцейал, и в этом, разумеется, не было ничего предосудительного. Лазик хорошо понимал, что если двигают ногами какие-нибудь парижские империалисты— это есть настоящее издыхание разлагающегося трупа, когда пляшут на вулкане и когда призрак уже бродит под окном, напоминая о себе бешеным плеском знамен, но если двигает ногами бодрый молодняк, это только крохотная передышка, и это даже развитие боевой энергии для грядущих схваток. Будучи дежурным клуба, Лазик нежно поглядывал на танцующие парочки и приговаривал: «Вертись, вертись, бодрый молодняк». Сам он не танцевал потому, что не мог забыть сиреневого капота Фенечки Гершанович, и еще потому, что никто из женского молодняка с ним танцевать не желал, ссылаясь на его исключительный рост и на чересчур отзывчивую натуру. Все шло по-хорошему, но тут-то выступил Мишка Минчик: — Интересно, почему это дежурный не смотрит за своими прямыми обязанностями? Никто не возражает, когда молодняк танцует настоящий вальс или танцы наших великих меньшинств. Но, по-моему, некоторые товарищи танцуют самый откровенный фокстрот, несмотря на все суровые декреты. Если это будет продолжаться, мне придется обратиться к товарищу Серебрякову. 64 Лазик растерялся. Я могу даже во сне отличить розового предателя Чан-Кайши от безусловного мясника Чанг-Тсолина, но я не умею отличить этот уголовный фокстрот от вполне дозволенного вальса, и я не знаю, что мне теперь делать? Мишка Минчик услужливо ответил: — Это очень просто, товарищ Ройтшванец. Вы можете, конечно, изучить музыкальные арии, но это вам совершенно не поможет, так как они слышат ушами одно, а ногами выводят совсем другое. Значит, вы должны изучить недозволенные прыжки. Отправляйтесь на улицу Карла Маркса в дом номер шесть, там молодой паразит Поль Виолон за какие- нибудь пять рублей немедленно разовьет вас, а тогда вы сможете честно выполнять ваши прямые обязанности дежурного. Лазику пришлось отказаться от ужинов, чтобы выгнать необходимые пять рублей. Но Поль Виолон, он же, говоря иначе, Осип Кац, гордо заявил Лазику: — За какие-нибудь пять рублей я могу вас научить отсталому вальсу, но американский фокстрот стоит десять рублей, потому что это запрещенная литература и я должен буду заниматься с вами в изолированном углу, среди драгоценных ковров. Лазику пришлось отказаться и от обедов. Танцы давались ему с трудом. Осип Кац шептал: — Молю вас, дергайте этой ножкой, так будет значительно шикарней! Лазик потел, дергал ногой и для успокоения своей совести приговаривал: — Я этим занимаюсь вовсе не для шика, но как обыкновенным китайским вопросом, потому что я безошибочный кандидат. Закончив науку, Лазик иными глазами взглянул на танцующий молодняк. Это — ничего. Это — уже сомнительно. А это... Это!.. Он подбежал к таперу. — Что за провокаторские мелодии вы исполняете, уважаемый товарищ? — Вальс «Мечта». — Хорошенький вальс!.. И, расталкивая танцующих, Лазик храбро ринулся к одной сугубо преступной паре. Он схватил рослого мужчину за бедра, ибо выше достать он никак не мог. Опомнитесь, сумасшедший гражданин! Вы знаете, что вы делаете? Вы делаете преступление. Как будто я не вижу, куда вы заходите вашей левой ногой! Он играет вальс из позапрошлого столетья, а вы плюете на него; вы разлагаетесь на глазах у всего молодняка, как будто вы не в клубе служащих «Харчсмака», но на вулкане в Нью- Йорке. Я истратил десять кровных рублей, чтобы определять эти незаконные выходки. Я вас не отпущу отсюда. Я отведу вас к товарищу Серебрякову, потому что я безоблачный кандидат. Я сказал себе: «Лезь, Лазик», — и я лезу... Высвободив свою ногу, высокий мужчина мрачно ответил Лазику: — Во-первых, я сам Серебряков. А во-вторых, мы сейчас поговорим с вами, на что вы истратили десять рублей и как вы понимаете обязанности члена. (Мишка Минчик, видимо, успел вовремя осведомить товарища Серебрякова.) — Кандидат проводит вечера в отвратительном вертепе среди буржуазных подонков. Стыдитесь, товарищ! Вместо огромных проблем мирового движения или нашего хозяйственного строительства вас интересуют какие-то нездоровые забавы, эротические эксцессы, накипь нэпа. На что вы тратите ваше время?.. Простите, товарищ Серебряков, я даже потратил на это десять рублей, и хоть идеологически время дороже денег, для меня деньги немножечко дороже времени, по-тому что у меня вовсе нет денег, а в Гомеле у меня было недавно шесть недель совершенно ненужного мне времени. Вы спрашиваете меня, на что я потратил эти кровные десять рублей? Я вам отвечу: на трактат об одном яйце. Это кусочек глупого Талмуда. Когда мне было тринадцать лет, я зубрил этот трактат с утра до ночи. Скажем, если курица снесла яйцо в субботу, можно его кушать или нельзя? С одной стороны, курица явно грешила, в субботу надо отдыхать, а она вздумала себе нести яйца, но, с другой стороны, она же вынашивала это яйцо в самые разнообразные дни, а в субботу она только облегчила свою душу. Я скажу вам, товарищ Серебряков, что существуют две фракции талмудистов, одни говорят, что субботнее яйцо чистое, другие говорят, что оно нечистое, и об этом яйце написано каких-нибудь сто невозможных страниц. Я никогда не мог понять, зачем столько дискуссий вокруг одного яйца, которое, наверное, скушал какой-нибудь престарелый дурак. Но вот теперь понимаю, что это замечательная наука. Вы спрашиваете, чем я занимался у молодого паразита? Яйцом. Если подвернуть ногу налево, то это невероятный скандал, а если загнуть ее и чуточку присесть, так это самое честное занятие. Я боюсь оскорбить ваш безусловный стаж, товарищ Серебряков, но мне кажется, что вы вот этой ногой заглянули совсем не туда, хотя я еще подумаю над этим; может быть, такое авторитетное па можно истолковать ипаче. Это, вероятно, зависит от того, к какой школе принадлежать, рассматривая яйцо, если к той, что... — Хватит! Черт знает чем набита ваша голова! Я вам советую лучше заняться... — Простите, я уже занимаюсь. Вся сущность в Ханькоу. Теперь мне остается... — Да, да, вот об этом не мешает поговорить. Мало того, что вы сами развратничаете в притоне некоего Каца, мало того, что вы вносите в товарищескую атмосферу враждебный дух вашими глупыми выходками, вы еще проявляете тупое шкурничество в своем отношении к партии. Что значат эти слова: «Лезь, Лазик»?.. — Очень просто. Я предан светлой идее, и я лезу. У нас в Гомеле говорят: «Если нельзя перепрыгнуть, надо перелезть». Вы, конечно, полны ума и стажа. Вам ничего не стоило прыгнуть. Вы и прыгнули. А я? Вы же сами говорите, что у меня голова набита черт знает чем. Так мне остается только лезть, и я себе тихонечко 65 лезу. Я прошу вас простить мне, что я вас схватил за авторитетную ногу. Я ведь знал только вашу роковую фамилию. Я не буду больше омрачать вашей атмосферы. Я ведь теперь понял, что иногда можно кушать эти яйца, если только... Серебряков не выдержал. Он внушительно постучал кулаком по дубовому столу. — Можете идти, товарищ. У меня слишком мало времени... Вежливо кланяясь, Лазик удалился из кабинета. В дверях он, однако, успел договорить: — Ну да, у вас слишком мало времени, чтобы терять его, как я, 136 например, потерял мои кровные десять рублей... В коридоре он встретился с Мишкой Минчиком. — Что же вы скажете после разговора с товарищем Серебряковым? Как вам нравится их безусловная дисциплина? — Я скажу, что это гораздо труднее, чем Талмуд. Но все-таки я попробую пролезть. Я еще остаюсь кандидатом, хоть я теперь немного затуманенный кандидат. 9 Мишка Минчик не успокоился. Он снова толкнул Лазика на безумный поступок. Произошло это в связи с циркуляром об изъятии из клубных библиотек идеологически вредных книг. Лазик числился библиотекарем, и, получив бумагу, он не на шутку взволновался. В циркуляре были перечислены тысяча семьдесят два названия, а в библиотеке клуба «Харчсмака» имелись всего-навсего три книги: «Пауки и мухи», задачник Евтушевского и монография поэтического стиля Демьяна Бедного. Ни одна из этих трех книг не значилась в присланном перечне. — Теперь я вижу, что талмудисты были самыми смешными щенками. Что они придумали? Еврею, например, нельзя кушать осетрину. Потому что осетрина это дорого? Нет. Потому что это невкусно? Тоже нет. Потому что осетрина плавает без подходящей чешуи, и, значит, она вполне нечистая, и еврей, скушав ее, осквернит свой избранный желудок. Пусть это едят другие, низкие народы. Я вам говорю, товарищ Минчик, эти щенки разговаривали о каких-то блюдах. Но вот пришел наконец настоящий двадцатый век, и люди поумнели, и вместо глупой осетрины перед нами стоит какой-нибудь Кант, а с ним тысяча семьдесят одно преступление. Пусть французы на вулкане читают все эти нечистые штучки, у нас избранные мозги, и мы не можем пачкать их разными нахальными заблуждениями. Да, это замечательно придумано, и я не понимаю только одного: как я могу изъять эти книги, когда здесь нет этих книг? — Если сказано «изъять», значит, надо изъять. Я вам советую, товарищ Ройтшванец, обыскать все это обширное помещение. — Простите, товарищ Минчик, но где же я найду эти недоступные книги? Я сам понимаю, что надо очистить весь безупречный дом. Это как перед пасхой, когда ищут, не завалилась ли под шкап корочка нечистого хлеба. Но в этом безупречном доме, кажется, вовсе нет книг. Я могу посмотреть в буфет, но там, конечно, только мелкоградусное пиво и вполне дозволенная колбаса. Правда, хорошие евреи, когда нет под шкапом корочки, нарочно подкидывают ее, чтобы было что сжечь; один еврей подкидывает, а другой еврей находит, и, конечно, оба понимают, что это смешные штучки, но зато они замечательно молятся и выполняют на все сто процентов свой строжайший циркуляр. Если б у меня был дома Талмуд, я принес бы его сюда и изъял бы его отсюда. Потому что ведь Талмуд, наверное, значится в этом смертоносном списке. Но у меня нет Талмуда, у меня Талмуд только в голове, и я не могу изъять мою злосчастную голову. — Зачем изъять свою голову, когда надо изъять только чужие книги, и это очень просто, стоит посмотреть в различных закоулках, например, в этом анонимном портфеле, может быть, в нем вы найдете заразительные книги. — Мне становится невыносимо лезть к моей светлой цели. Легче, кажется, утонуть в бушующем океане, который зовут почему-то Днепром, чем хватать чужие ноги или залезать в чужие портфели. Но я лезу к моим идеалам, я лезу, и я пролезу. Товарищ Серебряков застал Лазика над раскрытой книгой. — Во-первых, вы читаете черт знает что. А во-вторых... во-вторых... во-вторых, вы посмели залезть в мой портфель. — Я вовсе не читаю этот смешной роман для чтения. Я его читаю для голого изъятия, и я не понимаю вашего справедливого гнева, товарищ Серебряков. Я думаю, что вы должны быть мне благодарны за то, что я очистил ваш авторитетный портфель от этой перечисленной заразы. Вы теперь должны простить мне заблуждение с вашей левой ногой. Вы ведь испугались, что я могу отравиться этой осетриной, но вы ее носили в своем портфеле, и вы, наверное, отравлялись ей, хоть она решительно без чешуи. Почему же вы снова сердитесь на меня? Вы снова кричите «во- первых» и «во-вторых». Я прошу вас, не томите мою слабосильную душу. Крикните уже «в-третьих», и тогда я буду знать, что мне делать. Тогда я, может быть, начну спешно нюхать все цветы или глядеть на растраченные зря звезды. — Товарищ Серебряков, однако, не сказал «в-третьих». Он только зловеще усмехнулся. 10 Товарищ Тривас занимался со служащими «Харчсмака» согласно новейшей системе. Скучные лекции он заменял непринужденной беседой. Он начинал сразу с дружеского обмена мнений или же с ответов на неподанные записки. 66 Так было и теперь. Поглядев на восторженное личико Лазика, товарищ Тривас сказал: — Ну! Задавайте вопросы. Лазикзадрожал. — Я еще не совсем знаю, о чем я должен сейчас спрашивать: о чистом разуме муравьев или о позорной ливрее какого-нибудь амстердамского мясника? — В таком случае я задам вам вопросик. Как вы смотрите, например, товарищ, на половые функции в свете этики образцового члена ячейки? — Простите, но я еще не подготовился к этому. Может быть, вы спросите меня о чем-нибудь другом, например, о Чанг-Тсолине или даже о стокгольмском съезде? Я ведь не знаю никаких половых достижений. Правда, в Гомеле я встречался с дочерью служителя культа, с бывшим товарищем Феней Гершанович. Но мы оба были совершенно беспартийными, и у нас не было никаких функций, если не считать моих чисто патологических вздохов. Конечно, теперь к бывшему товарищу Гершанович примазался один настоящий член ячейки, скажем, товарищ Шацман, но я думаю, что это перечисленный фокстрот или даже хищническая концессия, потому что Феня Гершанович любит шумные туалеты и пол, а у Шацмана нет никакой этики, зато у него стопроцентное положение, и все вместе это исключительно функции, как у несознательных паразитов, но нет ни горячей любви, ни чисто пролетарской сирени, которая доводит мое преданное сердце до этих публичных слез. И вспомнив лиловый капот Фени Гершанович, Лазик заплакал к общему удовольствию скучающих служащих «Харчсмака». Хоть Лазик орошал свои брюки самыми обыкновенными слезами, товарищ Тривас в восторге закричал: Вот она, типичная розовая водица мещанской надстройки! Мы должны покончить с позорными предрассудками. В основе пол — это голое средство размножения и поскольку в дело не вмешивается капитализм Мальтуса и прочие перегородки, мы можем рассматривать так называемую «любовь» как строго производственный процесс двух кустарей-одиночек. Чем короче он, тем больше времени остается у пролетариата для профсоюзов и для кооперации. Что же касается слез выступавшего товарища, то они характерны как пережиток собственности, когда фабрикант рассматривал товарища-женщину как свои акции. Этому пора положить предел. Я не возражаю против самих функций, поскольку вы — бодрый молодняк, но, услышав слюнки о любви, знайте, что это преступное втирание очков, и, как паршивую овцу, гоните прочь всякого, кто только вздумает заменить железный материализм какой-нибудь любовной кашицей. Лазик послушливо высморкался. Минчику он признался: — Это в десять раз труднее, чем хедер. Там нас учили, что на свете существует очень много вкусных вещей, которые нельзя кушать. Это глупо, но это ясно. А здесь нам говорят: «Вы можете кушать хотя бы выдуманные Левкой бананы, но вы должны их кушать как самую низкую картошку, вы не смеете улыбаться или даже плакать от контрабандного счастья, нет, вы должны посыпать их какой-нибудь обыкновенной солью». Я боюсь, что я на всю жизнь останусь мрачным кандидатом, потому что мне легче умереть среди заноз и паутины, нежели забыть, как пахнет сумасшедшая сирень. Вечером Минчик повел печального Лазика в парк. Это было чрезмерно жестоким утешением. Лазик видел на небе звезды и на земле цветы, пышные, как пережитки беспартийные парочки целовались под кустами. Вдруг Минчик остановил Лазика: — Ты видишь эту разлагающуюся девицу? Это же не кто иной, как товарищ Горенко, член нашего клуба «Харчсмак». Она сегодня была на лекции товарища Триваса, но можно сказать, что она там не была, потому что она себя ведет как самая паршивая овца. Я думаю, что тебе нужно действовать, дорогой товарищ Ройтшванец. Я не хочу быть черным высматривателем. Я не хочу губить эту отсталую душу, которая любит, как и я, позапрошлую сирень. Кто говорит, что ты должен ее губить? Ты должен спасти ее от самых ужасных последствий. Ты должен спасти ее, а с ней и этого несчастного мужчину от какой-нибудь беспощадной комиссии. И потом я грозно спрошу тебя: ты все-таки кандидат, товарищ Ройтшванец, или ты сразу готовый отступник в ливрее? Лазик робко подошел к парочке. Он не видел лиц. Он только слышал страстный шепот: — Я люблю вас, Аня! Мы уедем в Крым. Ваши губки как роза... Лазик вскрикнул: — Я умоляю вас, прекратите сейчас же эту противозаконную демонстрацию! Может быть, я сам мечтал о подобных предпосылках, хоть я люблю не розы, а сирень или даже несуществующую орхидею. Но я не могу видеть вашего жестокого самоубийства. Дорогие кустари-одиночки, я тоже кустарь, и я тоже одиночка. Я срочно скажу вам, вы должны заниматься половым производством, а у вас вместо голого пола выходит какой-то упраздненный Крым. Я заклинаю вас, во имя контрольной комиссии немедленно замените этот ангельский разговор одной вполне дозволенной функцией. На этот раз товарищ Серебряков даже не усмехнулся. Он только взглянул на Лазика, и Лазик сразу понял все. Он быстро побежал прочь. До утра он бегал по опустевшим аллеям парка, а утром он напугал парикмахера Жоржа, то есть Симку Цукера, загадочной просьбой: — Побрейте меня сильнее, товарищ Жорж, побрейте меня до самого основания, раз и навсегда, на шесть недель, может быть, на все шесть лет! Чанг-Тсолин, конечно, разбит, и мы можем улыбаться. Но остается недоступная мне функция... Теперь он, наверное, скажет «в-третьих», и я, Лазик Ройтшванец, затихну среди вековых паутин. 67 11 — Вы скрыли ваше темное прошлое и восемьдесят седьмую статью уложения. Вы пытались укрепить свое положение нелепыми доносами. Вы проявили чуждую нам идеологию: антисемитизм, мистицизм и болезненную эротику. В беседах с одним молодым товарищем вы приравнивали разумную дисциплину к каким-то средневековым пережиткам. Отвечайте! — Может быть, я могу, как товарищ Тривас на своих мировых лекциях, вовсе не отвечать вам стройным хором, но задавать небольшие вопросы? Это доведет наш текущий момент до великой диалектики. Я, например, спрошу вас— зачем мне было скрывать восемьдесят седьмую статью? Ведь это же не пфейферские брюки. Я столько говорил о моих шести вековечных неделях, что это надоело даже буфетной колбасе. Когда я раскрывал рот, бодрый молодняк «Харчсмака» убегал от меня, как от одной гомельской бочки, восклицая: «Этот Ройтшванец снова начнет жаловаться на свою занозливую тюрьму». Другой вопрос: кому я, извиняюсь за черное выражение, громко доносил? Я только тихонько шепнул одному авторитетному члену об его собственной ноге. А если я потревожил функции товарища Горенко и этого неназываемого кустаря- одиночки, то исключительно в порыве безусловной дисциплины. Третий вопрос, как я могу быть кошмарным антисемитом, если я сам стопроцентный еврей из Гомеля? Вопрос четвертый, и совсем небольшой: что такое «болезненная эротика»? Если это некоторые функции, то я, увы, ими вовсе не занимался, ни в здоровом, ни в больном положении, за что и был справедливо поруган товарищем Тривасом при стечении всего бодрого молодняка. Я могу задать вам еще сто вопросов, но я не хочу у вас отнимать ваше знаменитое время. Я только спрошу вас, товарищ Серебряков, почему же вы, гуляя ночью в ароматном парке, не украсили вашу авторитетную грудь каким-нибудь сигнальным фонариком? Почему вы не опечатали вашего портфеля вопиющей печатью? Почему, заходя левой ногой, вы не крикнули в огромный рупор, что это заходите именно вы, а не я и не другой Ройтшванец? Почему вы смущали мою неокрепшую душу вашим безмолвным мистицизмом? Товарищ Серебряков иронически прищурился. — Это все? Нет, это еще не все. Я хочу вам сказать о «вашем молодом товарище». Его, конечно, нужно поблагодарить. И я говорю ему: народное мерси, дорогой товарищ Минчик! Ты теперь, конечно, вместо трепещущего кандидата станешь вполне стойким членом, и вот я предлагаю тебе немедленно жениться на одной драгоценной особе. Правда, у нее злополучная фамилия, но это может помешать какой-нибудь колоратурной певице, а она вовсе не певица, нет, она только гуляет по улицам Гомеля, и если ты женишься на ней, дорогой товарищ Минчик, вы сможете гулять вместе, и это будет настоящая международная мелодия. Товарищ Серебряков нахмурился. — Это все? — Нет, это еще не совсем все. Так как я неслыханно осмелел от моего грохочущего провала, я хочу вам сейчас же высказать одну мысль, курчавую, как предстоящая мне бородка. Вы, конечно, знаете, что отсталые евреи верят в Тору. Тора— это такой закон, который свалился прямо-таки с неба, и вот они нянчатся с Торой, как вы нянчитесь с вашей безусловной дисциплиной. Каждое утро они благодарят бога, что он им подарил эту невыносимую Тору. Они ее читают и перечитывают, из одного закона они делают тысячу, и они не могут в субботу курить, и они не могут кушать какие-нибудь битки в сметане, и они ничего не могут, они стопроцентные ослы, и это понятно каждому марксисту. Но вот раз в год они откровенничают со своим выдуманным богом. Они говорят с ним вполне по душам, как я говорю сейчас с вами. Евреи обязаны радоваться исходу из Египта, хотя, может быть, они именно хотят теперь попасть в этот потерянный Египет, и они радуются, потому что таков закон; они едят толченые орехи и они пьют сладкое вино. Вот тогда- то они и начинают прямой разговор с богом. Конечно, они не ругаются, они говорят, как роскошные дипломаты; ведь если нужно подпустить позапрошлую вежливость, беседуя с каким-нибудь эстонским послом, то тем паче евреи надевают на свои слова смехотворные фраки, когда им приходится говорить своему избранному богу довольно-таки неприятные вещи. Они начинают издалека, чтобы не обидеть бога. Они расшаркиваются перед ним: «Если бы ты только вывел нас из Египта и ничего больше не сделал, то и это было бы хорошо». Они подходят с другой стороны: «Если бы ты дал нам манну и ничего больше не сделал, то и то было бы хорошо». А потом им надоедает, и они уже с нахальным отчаянием говорят: «Но если бы ты нас вывел, и если бы ты нам дал манну, и если бы ты вовсе не дал нам этой самой Торы, то было бы замечательно хорошо». Это, конечно, можно говорить только раз в год, когда это стоит вот здесь в горле, и вот я говорю вам это, товарищ Серебряков. Грозно крикнул товарищ Серебряков: — Это наконец-то все? — Это почти все, но это еще не все. Я отчислил один рубль восемьдесят копеек в пользу общества «Руки прочь от Китая», хотя я вовсе не собираюсь хватать этих трехсложных китайцев своими руками, у меня и так от них разрывается слабосильная голова; но я с удовольствием оплакал мой один кровный рубль семьдесят копеек. Пусть их никто не хватает. Зачем залезать руками в какой-нибудь сплошной Китай? И затем я понимаю, что служащий «Харчсмака» должен буйно приветствовать возрождение самого последнего Востока. Против этого я не возражаю. Нет, меня занимает один роковой вопрос: что, если я устрою добровольное общество «Руки прочь от несчастного Ройтшванеца», с уставом и с вопиющей печатью, скажите мне, подействует это или нет? Я, конечно, не попрошу у вас, товарищ Серебряков, никаких восторженных отчислений, вроде оплаканного мною одного рубля семидесяти копеек. Нет, теперь меня интересуют не деньги, а время, то есть предстоящие мне шесть недель или даже шесть лет. Я хочу знать, как отнесется к этому 68 мощному обществу какой-нибудь новый Минчик и станут ли меня после таких восторженных лозунгов хватать бескорыстными руками? Здесь товарищ Серебряков не выдержал. Задыхаясь, он крикнул: — Это все? Это все? — Это, кажется, все. Нет, это не все. Мне остается сказать вам одну вполне интимную новость: вы можете теперь со мной не церемониться, так как я вас все равно перехитрил с самого утра. Вы еще только сидели и думали, что бы такое сделать с Ройтшванецом, а я уже все понял, и я моментально побрился. 12 Прошло несколько недель. Опали деревья в «Пролетарском саду», товарищ Аня Горенко проследовала вместо Крыма в лечебницу. Поля Виолона увезли куда-то на восток. Только Днепр по-прежнему сверкал под роковым оорывом. Как-то утром Лазик, весь заросший рыжей бородкой постучался в дверь Мишки Минчика. Так ты не женился на Пуке? Жаль! Ты по крайней мере стал беспрерывным членом. А она? Она ничего не получила. Я, скажу между нами, я боюсь, что она останется навеки бездетной, эта замечательная 142 гражданка. Но ведь такие мелодии не должны замирать без следа. Впрочем, я вовсе не хочу насиловать твоих свободных функций. Я пришел к тебе совсем по другому делу. Мне придется покинуть Киев, как я уже однажды покинул родной Гомель. Это законы природы, я чувствую, что мне предстоит полный круговорот. Думал ли безответный Мотель Ройтшванец, что его замогильному сыну предстоит такая бурная жизнь? Но я не плачу. Я утешаю себя словами одного умного цадика. Он сказал, что двигаться — это значит жить, а сидеть на одном месте — это значит умереть. Самая скверная кляча лучше самого пышного дворца. По-моему, еврей, который не двигается, это даже неприлично, это как поломанный паровоз. Итак, я покидаю Киев. Я разучился кроить брюки, и я не могу стать удивительным спецом, потому что я вовсе не знаю государственного языка. Я выучил десяток слов, не считая авторитетных имен, но оказалось, что это вовсе не украинские, а белорусские слова. Меня учил Юзя- настройщик, и он, конечно, надул меня. Я решил уехать в маленький городок, где нет ни бурных рек, ни грохочущих фокстротов, ни таких государственных языков, как, скажем, твой язык, Минчик. Ты думаешь, что я пришел к тебе проститься и поцеловать твои бритые ежедневно щеки? Как же я могу подобной глупостью отрывать тебя от твоих великих забот? Нет, я пришел, чтобы прежде всего спросить тебя — скоро ли установится настоящий мир, то есть после нашей смерти или до нашей смерти? Мишка Минчик бодро сплюнул. — Какие тут могут быть разговоры? Конечно, до. Это зависит от одного-другого урожая и от полного уничтожения Чанг-Тсолина. Это дело плевых минут. Лазик радостно улыбнулся. — Очень хорошо, что ты так думаешь, Минчик. Скажи мне теперь: в этом настоящем мире у каждого будет своя часть и все эти части будут равны — так или не так? — Конечно, так, за исключением паразитов, которых тогда вообще не будет. — Теперь послушай меня, Минчик, я пришел к тебе с очень выгодным предложением. Я хочу тебе продать мою часть за какие-нибудь десять несчастных рублей. Это же не деньги! Паразит Поль Виолон взял с меня за уроки позорных телодвижений тоже десять рублей. Это же не деньги! Паразит Поль Виолон взял с меня мою свежую часть в этом будущем мире, и я согласен выдать форменную расписку. — Ты что же, сошел с ума, Ройтшванец, после стольких злодейских прыжков? Как ты смеешь предлагать мне, проверенному марксисту, какой-то мистический кукиш? — Почему ты сердишься? Это вполне здоровый товарообмен. Я от тебя не скрою, что я надул Арона Кагана, но тебя я вовсе не собираюсь надувать. Арон Каган купил у меня совсем другое. Он, как и всякий отсталый продукт, верил в загробную жизнь. Ему было мало, что он был в Гомеле строительным подрядчиком и каждый день кушал курицу, он захотел кушать курицу на небе, и так как он был неслыханным обжорой, он, наверное, побоялся, что ему дадут там слишком мало, ну, какую-нибудь лапку или крылышко. Каждому еврею приготовлена одна часть в будущей жизни, и вот я продал Арону Кагану мою часть. Я его надул вдвойне. Во-первых, я уже однажды продал эту часть, еще будучи мальчиком, в хедере, я ее проиграл, когда я играл с другими мальчиками на пуговицы. Конечно, Кагану я об этом не сказал, потому что нельзя же продавать уже проданную вещь. А во-вторых, я знал, что я умнее его и что существует, скажем, обыкновенный газ или печальные кости, но никаких загробных блюд. Кагана я надул, но с тобой я веду вполне деловой разговор. Я тебе предлагаю самую настоящую часть в настоящем мире. Если ты стойкий член и веришь в наше светлое торжество, как же ты не хочешь мне дать десять переходных рублей ради такого близкого счастья? — Мне некогда слушать твой смешной бред, Ройтшванец. Отправляйся лучше в какое-нибудь сатирическое обозрение, если у тебя такой пышущий талант. Я тебе дам один рубль, чтобы ты сейчас же ушел отсюда; Нет, ты мне дашь кроме этого рубля еще девять других рублей. Билет ведь стоит червонец, и я должен уехать отсюда. Если я останусь в Киеве, я останусь у тебя, Минчик. Я, может быть, перережу себе шею твоим пролетарским ножом или я повешусь на твоих честных подтяжках. Посмотрим, что ты тогда скажешь с твоим государственным языком! Ты будешь дрожать, как самая маленькая дробь. Дай мне еще девять рублей, и я уеду далеко отсюда, чтобы начать тихую жизнь бывшего кандидата в каком-нибудь бывшем парке, среди бывших или даже не бывших цветов. Велика сила человеческого слова: два часа спустя Лазик гордо подошел к железнодорожной кассе, сжимая в руке все десять рублей. 69 13 В вагоне было тепло, накурено, уютно. Лазик, блаженствуя, жевал охотничью колбасу. Вдруг один из пассажиров, глядя на Лазика в упор, спросил: — Простите, гражданин, вы не Пыскис ли из Белгорода? Лазик затрясся. — То есть как это Пыскис? Я прошу вас прекратить подобные намеки. Я всего-навсего Ройтшванец, и я, кстати, не из Белгорода, а из Гомеля. Я вовсе не знаю, кто этот Пыскис. Может быть, он последний растратчик? Может быть, он выстрелил в кого-нибудь? Тогда при чем тут я, если у меня билет до самой Тулы и трудовая книжка? — Да вы не обижайтесь! Этот Пыскис не убийца, а дантист. Правда, у моего сослуживца Егорова он вырвал четыре здоровых зуба, и Егоров обещал его отлупить. Так это Егоров, а не я. Я ведь только из любопытства спросил. Вот какое сходство! Курьезы природы... — Хорошенькие курьезы! У нас в Гомеле был сапожник Шайкевич. Он пил круглый год «пейсаховку» и ругал соседа Вульфа «полосатой блохой». Так вот, пришли белые, и они вдруг объявили, что этот Шайкевич переодетый командир Конной армии, хоть все в Гомеле знали, что Шайкевич умер бы от страха, если бы его посадили верхом на живую лошадь, даже в самое мирное время, но его все-таки расстреляли как конного командира. Этого вам мало? Так я могу сказать вам, что подрядчика Закса прикончили потому, что он был похож на какого-то деникинского генерала, хотя опять-таки все великолепно знали, что Закс играет в «стуколку» и ревнует жену, а генерал, наверное, стреляет из пушки или скачет, как безумный, по пылающему полю битвы. У Закса, видите ли, был подозрительный подбородок. А после всего этого вы сидите напротив меня в честном, то есть жестком вагоне и пьете чай, я жую себе колбасу, и вы говорите вслух, что я — это не я, а загадочный Пыскис. Я же могу умереть, если не из-за подбородка, так из-за носа!.. — Бывает! Как говорится — судебные ошибки. Вот и у нас в Белгороде доктора Ростовцева приняли за какого-то Ростовцева из сарапульской Чеки. Ну, и крышка. Совпадение! Время, конечно, такое. Здесь и обижаться не на кого. Лес рубят — щепки летят. Мало, скажете, народу погибло? Зато утряслось. Без этого дела не сделаешь. Пассажиры лениво позевывали. Лазик не вытерпел. Долго он уговаривал себя: молчи, Лазик! Он и вправду все утро молча жевал колбасу. Зато теперь он разошелся. — Конечно, если этот доктор такая же важная птица, как, скажем, Лазик Ройтшванец, то он мог заранее лечь в готовую могилу, потому что, когда гуляет по улицам стопроцентная история, обыкновенному человеку не остается ничего другого, как только умереть с полным восторгом в глазах. Это китайское дважды два, и это понятно всякому. Но ведь мы с вами не история. Мы только злополучные попутчики какого-нибудь жесткого вагона, и мы можем сказать прямо: почему это анонимный доктор должен был платить за великую фазу? Может быть, у этого доктора даже были милые детки? Может быть, ему попросту хотелось жить еще двадцать пять лет? Я его никогда в глаза не видел, но я понимаю одно: он был, наверное, обыкновенным человеком, а вовсе не каким-нибудь денежным знаком, чтоб его совали в билетную кассу. Почему же вы жестоко пьете ваш чай и не хотите понять этой простой трагедии? Вы думаете, если убить человека и припечатать его вопиющей печатью, как будто это не живой труп, а только дважды два замечательного будущего, кровь перестанет быть кровью? Я хотел бы лучше лежать вместе с этим законченным доктором, нежели 'слушать такое бездушное умножение. Я не умею сделать из моих чувств грохочущий реферат, но я расскажу вам сейчас одну суеверную историю. Я слышал ее в моем кровном Гомеле от старого нищего Берки. Это история о бердичевском цадике, но, моет быть это история о Герше или даже о каком-нибудь докторе. Вы вовсе не обязаны верить в разные пережитки, можете сознательно думать, что бог это такое же глупое предположение, как китайское дважды два. Значит, в Бердичеве жил один знаменитый цадик. Конечно, надо вам сказать, что цадик — это вполне благочестивый человек, это настоящий вождь своего местечка. А бердичевский цадик считался чуть ли не святым, до того он был добр и умен. Потом, он разговаривал с богом запросто, безо всякой там дипломатии. Он разговаривал с ним не на том невыносимом языке, на котором написаны разные старые книги, нет, он разговаривал с богом на самом обыкновенном жаргоне, как разговаривает один еврей с другим. Он сердился па бога, он его уговаривал, он ему доказывал все толком, и он считал с ним по пальцам, и он смешил бога, так смешил, что бог смеялся на весь свет, и в Бердичеве стекла дрожали от этого небесного смеха. Словом, он умел, когда нужно, заговорить бога, только чтобы спасти какую-нибудь человеческую жизнь. Можете вы себе представить, как в Бердичеве уважал; мудрого цадика, его уважали и его любили, потому что, я уже говорил вам, он был самым добрым человеком на земле. Он, кажется, боялся пройти по смешной траве, чтобы трава не расплакалась. Конечно, Бердичев большой город, и кроме цадика в нем жили другие евреи, в нем жил, например, некто Майзель, и я даже не знаю, как его назвать. Скорей всего, он был закоренелым паразитом. Он был стопроцентным спекулянтом, и наш гомельский Райкин по сравнению с ним — слепой щенок. Он хапал деньги, не стесняясь никаких уложений. Он давал ссуды под заклад, и он раздевал догола бердичевских простаков. Он скупал дома, и кто знает, сколько евреев он оставил без крова, так что они даже не знали, где им зажечь субботние свечи. Но вот у каждого насекомого бывают свои прыжки. Этот Майзель раз в год терял черную линию. У евреев существует Иом-Кипур — это день самого высокого суда; тогда нужно поспешно каяться, и вот каждый год в Иом-Кипур этот нахальный Майзель плакал неподдельными слезами. Он вовсе не выдавливал из себя несколько приличных капелек, нет, он обливался настоящими слезами, потому что он хорошо видел, что он самый последний злодей. В Иом-Кипур он отдавал все свои деньги нищим. Он бил себя 70 в грудь кулаком и отчаянно вопил. В этот день он боялся взглянуть на цадика, потому что глаза цадика жгли его, как угли, он корчился под ними. Но вот наступал следующий день, и он просыпался утром как ни в чем не бывало. После дня поста он кушал две курицы. Ой снова хапал деньги, и если вчера он отдал бедняку украденные у него сто рублей, сегодня он спешил вернуть их какой - нибудь новой хитростью. А встретив цадика, он не опускал глаз, нет, он даже засовывал руки в карманы. — Сегодня, кажется, не Иом-Кипур? Когда придет срок, я, может быть, снова покаюсь. А пока что я устраиваю мои дела. Говорят, что даже бог не любит бедных, почему же я их должен любить? Я люблю только хорошие деньги, и вы можете оставить меня в покое с вашими вопросительными взглядами. Мудрый цадик мог беседовать с богом, но в сердце Майзеля он не мог проникнуть. Майзель оставался ужасным злодеем, и все в Бердичеве боялись Майзеля; его боялись и его ненавидели. Теперь я должен что-нибудь сказать о третьем человеке, о старом Герше, но я не знаю, что можно о нем сказать. Он был стар, как наша земля. Он был уродлив, как уродливо горе. Он был несчастен, как может быть несчастен старый еврей, у которого нет ни жены, ни детей, ни угла, ни копейки. Ему было, кажется, шестьдесят лет. Из его больных глаз текли постоянные слезы. Если он не спешил умереть, то, может быть, потому, что у него не было денег на саван. А может быть, и не потому. Может быть, ему попросту хотелось жить, как хочется жить мне и вам, как хотелось жить этому законченному доктору. Словом, он не спешил умереть. Он, как и мой безответный отец, стирал постыдное белье. Когда в доме бывало такое белье, что его стыдились давать служанке, приходил старый Герш, брал белье и уносил его куда-нибудь за город. Цадика все любили, Майзеля все ненавидели, а на старого Герша никто не обращал внимания. Он мог бы умереть, и никто бы не вздохнул; постыдное белье дали бы другому старику — Лейбе или Элии. Но он не умирал. Он тихо жил, и только цадик иногда заглядывал в его глаза, полные готовых слез. Тогда глаза цадика загорались, как угли. Теперь вы знаете, кто жил в Бердичеве, и я могу сказать, что Майзель наконец-то умер. Конечно, можно говорить, что он умер от божьего гнева, но я думаю, что он умер от переполнения желудка, потому что он один, кажется, кушал всех бердичевских куриц. Его похоронили как подобает, то есть нищие про себя смеялись от счастья вслух они плакали от обязательного горя, потому что они получали за свои вздохи старое платье и какое- нибудь мясо с подливкой. Тогда-то злодей Майзель предстал перед богом. Вы, конечно, знаете, как об этом говорят позапрошлые люди, Сидит, скажем себе, бог, и он судит мертвого человека. Он должен еще решить, куда идти этому отчаявшемуся трупу — в рай или в ад, — как будто человек даже после смерти не может лежать тихонько в могиле. Что делать, ведь люди очень любят судить. Меня тоже судили в Гомеле по одной сумасшедшей статье из-за приснившегося им флага, и я знаю, что ничего нет приятнее для человека, как сесть выше всех на один аршин и начать читать невозможные уложения. Когда люди выдумывали бога в какой-нибудь старой комиссии, они его сделали, конечно, по своему замечательному подобью. Они захотели угодить ему: «Ты будешь судить нас, как самый невыносимый судья». Майзель предстал перед богом, и это было как раз в Иом-Кипур. В Бердичеве живые евреи постились и каялись, как каждый год. Цадик пел в синагоге свою надрывающую молитву, а из глаз Герша текли постоянные слезы. Они, конечно, не знали, что вот в эту самую минуту господь судит жулика Майзеля. А на небе уже шла работа. Притащили огромные весы, и все начали говорить в полное удовольствие. Жаль, что не было при этом товарища Ландау из нашего гомельского суда, — вот где бы он мог показать все свое затихнувшее красноречие. Сначала, конечно, выступил прокурор, то есть, умоляю вас, не ищите в этом никакого текущего намека — это был самый настоящий черт, и он приводил все статьи уложения. Он требовал, чтобы умершего паразита предали ему для какой-нибудь высшей меры. Потом заговорил правозаступник, и он заговорил, и он говорил, и он ссылался на все его происхождение, и он бил себя в грудь крылом, пока богу не надоело. Бог, конечно, схватил звоночек, и у всех бердичевских евреев сразу зазвенело в ушах: — Довольно! Теперь пора уже вешать на весах дела этого мертвого Майзеля. Ангелы быстро стали кидать на одну чашу разные шумные злодейства: здесь были слезы бедняков, и жалобы вдов, и крики голодных детей, и все это самого первого сорта, так что черная чаша со страшным грохотом ударилась о какое-нибудь облако. Тогда на другую чашу ангелы стали накладывать совсем смешные капли. Да, онй не клали добрые дела Майзеля, хоть он в Иом-Кипур и раздавал награбленное нищим, нет, они только клали на чашу разные крохотные капельки. Майзель совсем приуныл: какие же тут могут быть разговоры? С одной столоны — куча злодейств, может быть, на сто тысяч целковых, а с другой стороны — кувшин соленой водицы. Но что же он видит? Светлая чаша мало-помалу опускается вниз. Конечно, будь это приличные слезы, они бы весили мало, но я ведь сказал вам, что это были настоящие слезы которые текли из самого сердца, и они весили пуд, если не все сто пудов. Чаши остановились — ни одна не может перетянуть другую. Поровну оказалось добрых и злых дел в жизни мертвого Майзеля. Тогда сконфузились ангелы и даже сам бог. Никто не знал, что делать дальше, а Майзель стоял и дрожал, но в голове его уже бродило новое злодейство. Улучив минуту, когда бог отвернулся, чтобы поглядеть, что делается в какой-нибудь Америке, жулик Майзель схватил с черной чаши одно ужасное дело и быстро засунул его в карман. Но, наверное, Майзель был уже не первым, и бог устроил весы так, чтобы они выдавали подобные обманы. Только-только Майзель совершил свою загробную низость, как черная чаша с двойным грохотом ударилась об облако, и все поняли, что Майзель хотел надуть самого Бога, после того как он надул уже тысячу людей. Здесь даже заступник отказался от своего пышного красноречия: он не хотел защищать подобного злодейства. Но выдуманный бог все-таки хоть чем-нибудь да лучше обыкновенных людей, и он сказал ангелам: — Я вовсе не хочу без последней речи отправить этого Майзеля в ад. Скажите мне, кто из вас хочет защищать такое последнее преступление? 71 Но ангелы, конечно, признанные трусы, они побоялись нарушить небесную дисциплину. — Мы не хотим защищать подобного злодея, но если ты обязательно хочешь, чтоб его кто-нибудь для виду защищал, то ты можешь вызвать сюда бердичевского цадика, потому что еще не было случая, чтоб он отказался защищать самого постыдного человека. В синагоге евреи увидели, что цадик, не допев своей надрывающей молитвы, вдруг уснул. Они, понятно, удивились, но они не попробовали разбудить его: если мудрый уснул, значит, так нужно. Они продолжали молиться. Он думал, что цадик уснул. На самом деле цадик поднлся вверх, и он предстал перед богом, и даже, не успев оглядеться по сторонам, где сидит какой ангел, он сразу начал защищать мертвого Майзеля. Он не перечислял его добрых дел, и он не показывал на кувшинчик с соленой водой. Нет, он сразу начал наседать на бога. Он сразу схватил бога за живое: — Спрашивается, за что ты его судишь? За то, что сн здесь совершил еще одно злодейство? Я думаю, что одним злодейством больше или меньше — это никому не интересно. Если он надувал невинных детей, то это немножечко хуже, чем смешная история с твоими весами, потому что их он действительно надувал, а тебя он только попробовал надуть, и это по своей полной невинности, как дитя пробует надуть отца. Если же ты его судишь за то, что он плохо жил па земле, я тебе отвечу, что в этом виноват вовсе не мертвый Майзель. В этом виноват скорее всего ты. Если бы ты сначала показал людям рай, они все были бы такими замечательными, как эти выдуманные ангелы, но ты ведь показал им сначала самый настоящий ад, потому что ты не станешь отрицать, что жизнь это ад и это даже два раза ад. Что же ты удивляешься, если они в аду жили так, как будто они в аду? Ты еще хочешь теперь взять этого мертвого Майзеля и снова посадить его в ад. Где же тогда справедливость, и зачем ты говоришь, что ты судишь людей? Ты их тогда, скорее всего, пытаешь, и это можно делать безо всяких весов, как делают люди на земле. Значит, ты должен немедленно оправдать этого мертвого Майзеля. Бог, конечно, ничего не мог возразить против такмх умных слов, и он смутился. Он закричал: — Хорошо! Отведите этого мертвого Майзеля в самый пышный рай. Бердичевский цадик мог бы вернуться обратно в Бердичев, но он заметил, что бог сегодня в хорошем настроении и уже немного растроган его жаркими доводами. Цадик подумал: нужно воспользоваться этой минутой, нужно доказать богу, что он довольно уже испытывал человеческое терпение, что люди в Бердичеве, да и в других местах, очень несчастны, что пора наконец-то послать на землю какого-нибудь выдуманного Мессию, чтоб он сейчас же спас все обширное человечество. Цадик не сошел вниз. Он продолжал стыдить бога и уговаривать его. И бог начал поддаваться. Он уже растерянно улыбался, и ой успокаивал бердичевского цадика: — Почему ты так волнуешься? Я ведь не говорил, что я не пошлю Мессию. Наоборот, я сказал, что я его обязательно пошлю. Может быть, ты и прав, говоря, что настало время. Давай-ка обсудим с тобой этот вопрос. Который у нас теперь год на земле?.. — Я говорю вам, что бог уже готов был согласиться, но здесь-то произошла заминка. Евреи в синагоге, конечно, не видели цадика, который беседовал с богом, но цадик, стоя на небе, очень хорошо видел всех евреев в синагоге. Он видел, что из-за его разговора с богом затянулась молитва и, значит, затянулся пост. Легко поститься в двадцать лет, но не в шестьдесят. И вот вдруг цадик видит, что старый Герш падает на пол без чувств. Шутка сказать— со вчерашнего дня он ничего не ел и ничего не пил. Цадик понял, что, если сейчас же не кончится молитва, старый Герш умрет на месте. И цадик сказал богу: — Я, может быть, поступаю очень глупо. Я должен был убедить тебя, что больше ждать нельзя. Тогда бы ты спас все обширное человечество. Но я не могу сейчас больше с тобой разговаривать, потому что мне некогда: если я останусь еще один час на небе, старый Герш, который стирает в Бердичеве постыдное белье, обязательно умрет. А где это сказано, что я имею право заплатить за счастье всего обширного человечества жизнью старого Герша? — И он, не кончив разговора, слез с неба. Он поспешил допеть свою уже бесполезную молитву и закончить пост. Конечно, может быть, Герш умер через год, но он не умер в тот вечер, Цадик не сунул его, как билет, в какую-нибудь железнодорожную кассу. — Вот что я хотел вам рассказать, мои злополучные попутчики. Вы, конечно, можете пить ваш чай и оправдывать черное сердце какой- нибудь великой историей. Я скажу вам только одно: хорошо, этот доктор уже лежит в глухой земле, и не один доктор. Но скажите, что же вам выдали в вашей замечательной кассе?.. 14 Лазик умел артистически кроить брюки. Что бы там ни говорил Пфейфер и другие недоброжелатели, я стою на своем: куда тут Цимаху с его якобы английским фасоном! Но в Туле было немало своих портных, граждане меланхолично отвертывались, проходя мимо сверкающих вывесок. Это ведь только в бабьих сказках Тула кует самовары и печет пряники, на самом деле Тула сокращает штаты. Ножницами Лазик не прожил бы здесь и дня. Спасла его знаменитая диалектика: если сокращают, значит, набирают. Это закон природы: одного человека выгоняют из комнаты, вместо него сажают другого, а выгнанный, он, конечно, тоже должен кушать, если его выгнали из одной комнаты, он может войти в другую, ибо земля, вопреки глупому Талмуду, вертится, и на ней вертятся все бурные сотрудники всевозможных подотделов. Не прошло и недели, как Лазик нашел подходящую дверь. Он стал сотрудником губернского отдела животноводства, и ему было поручено следить за размножением во всей Тульской губернии породистых кроликов, так как центр установил, что это одна из наиболее выгодных разновидностей предстоящего сельхозяйства. Войдя в открывшуюся перед ним дверь, Лазик бодро оглядел поле своей будущей деятельности в виде стола с грязной промокашкой и спросил курьершу Дуню: 72 — Простите, товарищ, где же они?.. Дуня зевнула. — Да где же им быть сейчас? Дома, чай пьют. Или у Марии Игнатьевны. — Тсс! Я вас спрашиваю не о товарище заведующем. О нем я вовсе не хочу вас спрашивать. Довольно я в Киеве хватал авторитетные ноги. Нет, я вас спрашиваю только о вполне невинных кроликах. — Таких тут нет, а если вы хотите Кропоткова, то они не тут, а в бухгалтерии. Лазик заглянул в ящик стола, но там оказалась только пустая коробка от папирос. Он просидел честно до пяти часов, потом ушел домой. Он твердо решил не философствовать. На следующее утро он все же осмелился спросить заведующего: — Извиняюсь, товарищ Петров, я хочу вас только спросить, где же они, то есть порученные мне кролики, — здесь или в губернии? Петров проворчал: — А шут их знает! Кажется, в том шкапу. Поройтесь в бумагах. Весь день Лазик работал. С надлежащей осторожностью, как густопсовый терьер, рылся он в ящиках, чихая от едкой пыли. Наконец он обнаружил если не кроликов, то копию исходящей под № 2178, в которой говорилось о печальной судьбе одной породистой четы, прибывшей из центра в благословенную Тулу. Предшественник Лазика, некто Рожков, ныне сотрудник музыкального подотдела, сообщал в Москву: «Подтверждая получение породистого груза, сообщаем, что присланные экземпляры не поступили в тульский случпункт ввиду особенностей местного климата, продовольственных затруднений, а также незнакомства местного населения с племенным кролиководством, так как в ящике оказались при проверке только мертвые разновидности, и, по свидетельству ветеринарного пункта, смерть последовала либо от морозов, либо от недостаточно азотистого питания, либо от поведения граждан на вокзале, самовольно вскрывших ящик и допустивших дезорганизованную охоту с участием беспризорных собак г. Тулы». Раза три перечел Лазик это печальное послание и, пользуясь отсутствием курьерши, пронзительно вздохнул. — Бедная породистая чета — вот все, что осталось от вашего восторженного прыганья где-нибудь под американскими пальмами, — копия исходящей номер две тысячи сто семьдесят восемь! Но спрашивается, что же мне делать? Как я могу размножить по всей обширной губернии это жестокое воспоминание? Не выдержав томительной пустоты письменного стола, а также Тульской губернии, Лазик дня два спустя обратился к товарищу Петрову: — Что же мне теперь делать, если они решительно умерли и даже припечатаны этой копией? — Как что делать? Работать, товарищ, работать! Размножать! Производить! Интенсировать! Поняли? Видите сравнительную таблицу? Мясо — раз. Мех — два. Невзыскательность — три. Экономия времени — четыре. К концу отчетного года у нас будет не менее тридцати тысяч голов. — Извиняюсь, товарищ Петров, но откуда же вырастет этот замечательный мех или даже мясо, еага их, безответных прародителей, растерзали дезорганизованные собаки. Я могу размножать только одну циркулярную скорбь, но это не даст нам никакой красивой таблицы, потому что они, извиняюсь, как назло сдохли. Сдохли? Ха-ха! Действительно сдохли. Ну, между нами, какие же тут могут быть кролики? Я еще понимаю— свиньи. Но вы, товарищ, все-таки размножайте. Из Москвы пришлют новых, а пока что можно составить хотя бы инструкции сельхозам. Или устройте лекцию с туманными картинами. Словом, не углубляйте. Поняли? Вот, кстати, мы получили анкету из центра. По вашей части здесь семнадцать вопросов. Лазик остался с семнадцатью вопросами и с тяжелым недоумением. Что значит — «не углубляйте»? Рассматривать кроликов как кроликов? Допустим. Но вот его спрашивают в одиннадцатом параграфе: «Как отразилась постановка племенного кролиководства на экономическом положении крестьян? На культурной жизни? На семейных взаимоотношениях? Замечается ли в связи с ней увеличение рождаемости? Установите соотношение в круглых цифрах между количеством кроликов и потреблением мыла на каждый двор». Если кролики — это кролики, то их вообще нет. Правда, можно предположить, что кролики это только могучий символ какой-нибудь роскошной электрификации. В Талмуде много таких сумасшедших шуток. Например, сказано «овечьи сосцы», а на самом деле это священные сосуды каких-нибудь левитов. Может быть, они понимают под словом «кролики» самую обыкновенную ячейку?.. Но ведь товарищ Петров сказал ему: «Не углубляйте». После долгих колебаний Лазик решил от аллегории воздержаться. На первый вопрос: «Сколько в Тульской губернии голов кроликов ко дню заполнения анкеты», — он стойко ответил: «Один надгробный памятник в виде разрывающей мое сердце исходящей», — и против шестнадцати остальных провел трагическую черту, ни мыла, ни рождаемости, ни семейных отношений — пустота, горе, небытие. На всякий случай он показал лист заведующему. Тогда товарищ Петров начал бегать по длинному коридору и вопить: — Вы с ума сошли? Вы знаете, что такое сокращение штатов? — Еще бы! Кажется, шесть недель отсидел я, а не гражданка Пуке. — Вы ничего не знаете! Вы хотите всех нас погубить! Как можно так отвечать на анкету! Надо углубить вопрос. Надо похвастаться достижениями. Таблицы, сметы, диаграммы. Если бы вы отослали этот бред, мы бы все попали под суд. Переправьте сейчас же все наново! У вас нет ни на грош понимания государственности. «Надгробный памятник»! Это что — остроумие? Настали для Лазика трудовые дни. В три часа уходил товарищ Петров, в пять курьерша Дуня. Но Лазик не знал часов: он сидел, согнувшись над столом, он высчитывал, обдумывал, распределял. К концу пятого дня он закончил работу. Он ответил на все семнадцать вопросов. Он написал: 73 «Так как покойная чета была прислана в Тулу 18 ноября 1924 года, можно определить к текущему моменту кроличье население губернии в 11 726 с половиной головы. Ввиду исправных функций и отсутствия розовой водицы к 1января 1930 года в губернии намечено 260 784 головы. Вредителей, вроде сусликов или филлоксеры, не замечено. Что касается других болезней, то, кроме несчастья с первой четой и возможного, ничего не выражающего насморка, благодаря героическому мужеству губ-здрава, не можем пожаловаться. Кроликов держат в плантациях под пальмами и в прочих шкапах. Рождаемость населения в связи с этим неслыханно бурлит, а мыльному производству, конечно, угнаться за нами трудно, потому что если и приходится на двор какой-нибудь жалкий кусочек, наполовину смыленный, то в круглых цифрах можно сказать, что это голый нуль рядом с роскошным оперением тысячи-другой кроликов». Написав это, Лазик решил не волновать больше товарища Петрова, занятого Марьей Игнатьевной, и отослал бумагу в Москву. Недели две он наслаждался миром и тишиной. Курьерша Дуня зевала, стыл одиноко чай. Товарищ Петров плодотворно отсутствовал, и заведующему кролиководством не оставалось ничего другого, как рисовать на промокашке уши незабвенных прародителей. Но вот коридор наполнился бодрым кряканьем сапог: из Москвы прибыла комиссия для изучения образцовой постановки кролиководства в Тульской губернии. — Мы прежде всего должны вас поздравить, товарищ, — в вашей губернии больше кроликов, чем во всем Союзе. Очевидно, вы нашли особо удачный корм. В Англии подобные результаты достигнуты фосфорными препаратами. Но мы им угрем нос. Чем же вы их кормите? Лазик скромно потупил глаза. — Исключительно служебной фантазией. Москвичи не поняли. Они деликатно сказали: — Ну, это мы увидим на месте. Завтра мы отправимся в сельхозы. Скажите нам, в каком уезде предпочтительно водятся кролики? — Где они водятся? Не в уезде и не в шкапу, а здесь. — Лазик с гордостью показал на свою крохотную головку. Тогда коридор снова заполнился кряканьем сапог, и на этот раз кряканье было зловещим. Товарищ Петров, забыв о Марье Игнатьевне, вопил: — Вы всех подвели! В тюрьму! Под суд! — Почему вы кричите на меня, товарищ Петров? Когда я написал, что от покойников трудно ждать пышного размножения, вы начали топать ногами. Тогда я измучил свою хилую грудь таблицей умножения и сделал настоящее служебное чудо: я заставил этих мертвецов размножаться. Но вот вы снова топаете ногами, и я ничего не понимаю. Вы мне напоминаете, извиняюсь за неприличное сравнение, какого- нибудь римского императора, потому что был такой сумасшедший идол Адриан, и когда один еврей, увидев его, не поклонился, он крикнул: «Отрежьте ему скорее голову! Как он посмел, этот нахальный еврей, не поклониться римскому императору!» Но потом он увидел другого еврея, который тотчас же, конечно, поклонился ему, и все равно он закричал: «Еще скорее отрежьте и этому еврею голову: как он посмел, подобный нахал, кланяться мне!» Я вас спрашиваю, товарищ Петров, что же делать какому-нибудь разводителю кроликов, если он не может ни говорить правду, ни даже смешно врать? — Вы прикидываетесь Иванушкой-дурачком, но посмотрим, что вы скажете, Когда вас посадят. — Ничего, я привык, и я там скорее всего просто молчу, или я рассказываю постыдные истории. Но я не люблю одного: когда меня берут. Тогда у меня делается ужасное сердцебиение. Я лучше сейчас же сам пойду к тюремным воротам, и я попрошу, чтобы меня пустили, скажем, за один час вперед. Так будет гораздо спокойней. Прощайте, товарищ Петров! Прощайте, тишина этих столов в отделе животноводства, чай курьерши Дуни и прискорбные тени двух погибших прародителей, которые прыгали день и ночь в моей неудачной голове вполне преданного спеца! Лазик сидел на скамейке Тверского бульвара и думал, какое должно быть вкусное мясо у кроликов. Это нечто вроде бананов, о которых пел Левка, или вроде орхидей, но нет, орхидей, кажется, не едят, их только нюхают, а Лазику хотелось прежде всего закусить. Он не настаивал на кроликах, он обрадовался бы и ломтику давно минувшей колбасы. Шутка сказать, третий день довольствовался он обнюхиванием различных столовок и пивных, из которых вылетали запахи, достойные таинственных орхидей. Денег у него не было, не было ни друзей, ни рекомендательных писем, ни верных адресов. Москва встретила Ройтшванеца парадно и сухо: «Ну, памятник Пушкину, ну, десять тысяч переулков, ну, Совет самых невозможных комиссаров!.. Что же дальше?.. Нельзя ведь только нюхать, как пахнут подъезды кухмистерских». Лазик искал лазейку. Внимательно обозревал он окрестности. Повсюду глаза его натыкались на назидательный окрик «Берегись автомобиля!». — Именно, нашел я чего беречься! Во-первых, здесь столько же автомобилей, сколько у нас в Гомеле орхидей, во-вторых, они двигаются гораздо медленней, чем, например, старик Гершанович, когда он идет из синагоги домой ужинать, а в-третьих, если меня и раздавит автомобиль, то это, по крайней мере, американская смерть, как в настоящем двадцатом веке, что все-таки приличней, чем умереть от позапрошлого голода. Нет, дайте мне написать маленькое предупреждение, я напишу так: «Берегись моментальных глаз товарища Фени Гершанович! Берегись запахов кролика и вообще сильного аппетита!» Впрочем, кто обращает внимание на самые мудрые наставления? Рядом с Лазиком сидел рослый детина в трусиках и в порыжевших от времени штиблетах, но без прочего. На его груди и ногах бодро курчавилась поросль. Он держал портфель под мышкой, насвистывал военный марш и перебирал ногами, как застоявшаяся лошадь. Лазик на него не глядел: мало ли в Москве людей? Голый? Пусть голый! Это ведь не Фенечка Гершанович. Зато оголенный гражданин, посвистывая, не сводил 74 глаз с Лазика: что он ищет то на домах, то на небе, то под скамейкой?.. Заинтересовавшись, он наконец спросил Лазика: — Потеряли что-нибудь?.. Тогда Лазик недоверчиво взглянул на волосатые плечи соседа — как будто тот же Минчик не может в два счета раздеться?.. Потерял? Нет, мне нечего терять, кроме нашей гомельской надежды, но ее я еще не потерял. Можно, конечно, потерять жену, или деньги, или даже собственное имя. Это совершенные пустяки. Сегодня человек теряет зубы, а завтра американский дантист вставляет ему новые. Но нельзя потерять надежду. Это все равно что взять и умереть за двадцать лет до своей собственной смерти. На что мне надеяться, если у меня нет протекции и если вся Москва пахнет так вкусно, как одно рагу из несуществующих кроликов? Но я все-таки надеюсь. Может, кто- нибудь сейчас пройдет по бульвару и уронит хорошенькую связь. Тогда я стану заведующим московскими плантациями ананасов или даже питомников для скрещивания сознательных граждан с угнетенными обезьянами. — Здорово! Вы, значит, товарищ, тоже литературой занимаетесь? Давайте знакомиться: Архип Стойкий. Читали в «Комсомольской правде» отрывок из романа «Мыловаренный Гуд»? Вот это эпос! Производство и без слюнтяйства. А вы где же печатались?.. Лазик задумался. Чем он вправду не писатель? Если нужно снять рубашку, он снимет. Главное — фантазия, а ведь Пфейфер не раз говорил ему: «Вы, Ройтшванец, врете, как будто вы не живой человек, но целая газета». Конечно, Лазик в душе писатель! Вот зачем он приехал в Москву. До этой минуты, говоря откровенно, Лазик мало думал о литературе. Он только знал, что Пушкин ревновал свою жену, совсем как подрядчик Шайкевич, и что у Льва Толстого была замечательная борода, как у Карла Маркса, но у Маркса лопатой, а вот у Толстого совком. Но теперь он понял, что он, Лазик Ройтшванец, вовсе не «мужеский портной» и даже не спец, а грохочущий писатель. Фамильярно подмигнул он ревнивому Пушкину. — Печатался? Где угодно, и у меня было, кажется, штук сорок хорошеньких псевдонимов. Меня, например, в Гомеле считали почти что Пушкиным, конечно, без инстинкта собственности, как у фабриканта. Вы слыхали, наверное, о нашем гомельском барде Шурке Бездомном? Он пишет стихи исключительно о ненормальных комбригах. Так вот я и ему давал советы: «Вставька еще одну улыбку на чело, дорогой Шурка Бездомный». И он всегда вставлял. — Устарело, товарищ. И Пушкин, и Шурка Бездомный, все это — слюнтяйство. Вот я покажу вам, как теперь пишут у нас, в Москве. Архип Стойкий вытащил из портфеля несколько листков и, дрыгнув голой ногой, прогромыхал: — Отрывок девяносто восьмой. «Мыло гудело, как железные пчелы. Бодро тряхнул головой Сенька Пувак: «Так-то, братва, отстояли». Рядом с ним улыбалась Дуня. С гордостью взирала она на приводные ремни, и красная звезда колыхалась на ее груди, полной здорового энтузиазма. Мыло кипело. «Обслужим весь Союз»,— сказал Сенька. Он смотрел теперь на звезду девушки: «Что же, Дуня, пойдем! Наша дорога молодого класса к солнцу. Забудем о грязных забавах тех, что владели когда-то этим заводом. Дай я тебя прижму к себе трудовой рукой!» И, отдаваясь биению новой жизни, Дуня, чуть заалев, прошептала: «Ты видишь, мы обогнали довоенную норму. Гуди, мыло, гуди! Если у нас будет сын, мы назовем его просто: «Мыловаренный Гуд». Архип Стойкий горделиво оглядел Тверской бульвар. На поросли сверкали теперь крупные капли пота. — Здорово? Вот и вы так валяйте! Можно, например, о шелковичных червях. Главное— гнуть линию. Кто в журналах? Буржуазные дегенераты. Мы их в дверь, а они в окно. За этим надо глядеть в оба! У меня вот только шестнадцать отрывков напечатано. А их всего двести четырнадцать. С этим пора кончать. Я вам советую, товарищ, сразу войти в нашу группу «Бди». Мы бдим, чтобы в издательства не пролезли всякие трупы. Если вы войдете в нашу группу, вас будут повсюду печатать. Идет? Лазик охотно согласился. — После мертвых кроликов я уже ничего не боюсь. «Бди» так «Бди». Только скажите мне, что я должен немедленно делать? Снять рубашку, конечно, дело двух минут, но у меня нет, например, роскошного портфеля. — Пустяки! Это необязательно. Я, правда, стою за загар. Это — здоровье, и это отделяет нас даже с виду от разных бледных выродков из промежуточных групп. Я загораю. Я ем черный хлеб и пью артезианскую воду. Я прост, суров, непримирим. Я настоящий «бдист», и вы теперь тоже «бдист». При напоминании даже о столь неизысканном кушанье, как черный хлеб, Лазик меланхолично вздохнул. Конечно, вкуснее, когда на этом суровом хлебе — ломтик промежуточной колбасы. Но если «бдист» должен есть только хлеб, я в текущий момент не возражаю, я только прошу вас об одном: скажите, где мне его моментально найти, этот непримиримый хлеб, потому что я на свежем воздухе чуть-чуть проголодался. Архип Стойкий бодро подмигнул Лазику и повел его в укромную пивную. Вскоре на столе появились битки с луком и четыре бутылки пива. Выпив стакан, Лазик сразу охмелел и начал восторженно пищать: — Если это — суровая вода и артезианский хлеб, то спрашивается, кто же я и кто же вы? Я думаю, что тогда вы Лев Толстой, а я сам Пушкин, хотя у меня нет никакой жены, кроме Фенечки Гершанович, но она скорей всего жена петуха Шацмана, а у вас нет бороды, то есть борода у вас растет под мышкой. Скажите, как называется это сумасшедшее блюдо? Битки? Вы говорите, что это обыкновенные битки, а я вам скажу после трех дней сплошного Иом-Кипура, что это не битки, это кролики, а может быть, это все бананы. Архип Стойкий пил на славу. Менялись бутылки, чадили битки, бодро звенели стаканы. — Мы их отовсюду выкурим!.. Да здравствует бдизм! С трудом ворочая языком, отяжелевший Лазик лопотал: 75 — Конечно, пусть здравствует, раз на столе такой пышный кролик. Вы говорите, что трупы лезут? Какие это, однако, нахальные трупы! Труп должен лежать под какой-нибудь трогательной надписью. А лезть в окно — это для трупа прямо-таки неприлично. Это же не мыло, чтобы вечно гудеть. Я вот только хочу вам предложить одно. У меня с колыбели слабые глаза. Я однажды схватил по ошибке совсем не ту ногу. Я могу спутать, как говорят в Гомеле, заграничного слона с Мошкой-папиросником. А вы человек вполне занятой. Вы загораете, и вы пьете эту артезианскую воду, не говоря уже о Дуне, которая, наверное, все время гудит. Словом, своими средствами мы не обойдемся. Так вот, я предлагаю вам включить в нашу группу одну гомельскую особу. У нее, правда, постыдная фамилия, но мы ей подарим неприступный псевдоним. Она, наверное, может быть поэтессой. Стоит ей только взглянуть на вашу свободную грудь, как она разразится сплошными стихами. Беседуя на литературные темы, друзья и не заметили, как прошло время. — С вас восемь рублей двадцать копеек. — Ну, ну, я не спорю... Так и быть, сегодня платите вы. А в следующий раз уж я выставлю батарею. — Я тоже не спорю. Зачем спорить? Я ведь, кажется, не труп. Но у меня в кармане только портрет португальского бича и, может быть, еще одна дырка. Я же вам сказал, что я три дня постился, и, кажется, ясно, что это не опиум, а только железный материализм. Архип Стойкий встал, икнул и философически заметил: — Черт побери — нет даже карманов, чтобы хоть для виду пошарить! Эй вы, гражданин! Анекдот, но факт: забыл дома пиджак с бумажником. Ничего не поделаешь — физкультура. Ну, пока... Шатаясь, он вышел на улицу. Хозяин пивной попробовал было потрясти за шиворот оставшегося Лазика, но убедившись, что ничего из него, кроме какого-то портрета, не вытряхнешь, удовлетворился тумаком... Лазик очутился на бульваре с чуть припухшим глазом. Но он не унывал: позади был роскошный ужин, а впереди слава Пушкина. Вы еще увидите, что ему поставят в парке Паскевича хорошенький памятник! Он будет стоять в бронзовых штанах и пренебрежительно улыбаться. Вот тогда-то придет к этому памятнику Феня Гершанович и заплачет: «Почему я полюбила петуха Шацмана без памятника, а не этого прославленного на всю Америку героя?» И хоть у Лазика будут бронзовые штаны, он не выдержит, он сбежит с подставки, он скажет: «Я люблю вас даже после смерти, и, если вы хотите, мы можем сейчас же жениться на все три трети». Мечтая так, Лазик уснул. 16 На следующий вечер Лазик отправился в «Литературный клуб». Он важно расписался при входе «Ройтшванец-Бдист». Кто-то спросил его: — Вы, товарищ, поэт или критик? Лазик, не смущаясь, ответил: — Беспощадный критик из контрольной комиссии. А что это у вас сегодня за гуд? Танцы меньшинств или лекция о половом вопросе? Узнав, что он попал на литературный диспут «Нужно ли печатать и кого?», Лазик обрадовался. Вот тут-то он покажет себя! Докладчик был «бдист». Долго говорил он о том, что «красные ризы должны быть белыми». «Попутчики» — надстройка над базой. Пока читатель был зелен, ему еще могли преподносить подозрительные книги, но теперь он созрел, он требует, чтобы его мозги ограждали от гнилой продукции. Можно ли после таких мировых шедевров, как «Мыловаренный Гуд», печатать старческое шамкание разных дегенератов, да еще в двадцати тысячах экземплярах? Долой политику страуса и да здравствует писательский молодняк! Лазик неистово аплодировал. Он хотел было сразу выступить с предложением поставить двойной памятник Архипу Стойкому и Лазику Ройтшванецу — вот как Минину и Пожарскому, но его опередил представитель какого-то издательства: — Я только хотел обратить внимание докладчика на голые цифры. Товарищи, мы ведь состоим на хозрасчете. Читатель, к сожалению, еще не покупает произведений «бдистов». Роман «Великая Братва» разошелся всего в шести экземплярах, а повесть «Трудовой Поцелуй» в четырех. Надо попытаться примирить марксистскую линию с тяжелым экономическим положением. Мы издаем в двадцати тысячах яд какого- нибудь «попутчика», чтобы иметь возможность выпустить в роскошном издании полное собрание сочинений товарища Архипа Стойкого — это испытанное противоядие. Архип Стойкий негодующе хрипел: — Вздор! Если издавать только нас, кого же они будут покупать?.. Довольно компромиссов! Но представитель издательства не сдавался. Он усыпил зал цифрами. Тогда-то Лазик нашел, что настало время высказаться. Нежно глядел он и на докладчика, и на Архипа Стойкого, и на заведующего издательством. Вы все очень симпатичные марксисты, и я сейчас маленькой диалектикой примирю вас. Архип Стойкий — это вроде Льва Толстого, и его надо сегодня же напечатать. Какие тут могут быть разговоры, если он хочет, чтобы его напечатали. Деньги здесь, кажется, ни при чем. Если вчера мелкий собственник накормил нас кроликами, не останавливаясь ни перед какими расходами, то государство, по-моему, должно моментально напечатать все отрывки из этого «Мыльного Гуда», потому что если их не напечатать, то товарищ Архип Стойкий перестанет загорать, и он станет лазящим трупом. Но остается второй вопрос — об этих неприличных «попутчиках». С одной стороны, их нельзя печатать, потому что это не вполне выдержанный дух, а с другой, их необходимо печатать, потому что без этого в издательстве одна сплошная дыра и никакой даже разменной монеты. Как же разрешить такое противоречие? Да очень просто. На что уж глупы наши гомельские евреи, которые еще верят в бога и отрицают передовую ветчину, но даже они до этого додумались. Я вам скажу, например, что еврей должен перед пасхой продать всю свою посуду и оставить дома только пасхальную. Так 76 придумали спецы в талмудической подкомиссии. Но кому же продать всю посуду в городе? И потом, продашь горшок за десять копеек, а новый стоит весь рубль. Так вот еврей перед пасхой зовет к себе русского, скажем, носильщика или сторожа, и он говорит ему: «Я продаю тебе всю посуду за пять копеек», а тот отвечает: «Хорошо, покупаю». Конечно, оба понимают, что это нарочно, и сторожу просто дают за душевное подкрепление полтинник на водку. Вот что значит найти выход из последнего положения! Я вижу, что вы не жили в Гомеле и еще не понимаете, как это делается, так я вам расскажу о носовых платках. В субботу еврею нельзя ничего носить, даже необходимого платочка, кроме как у себя во дворе. Но ведь насморк бывает и в субботу. Нельзя же весь день сидеть дома. А в синагоге, например, совершенно некуда высморкаться. Вы думаете, что евреи остались с двумя пальцами? Ничего подобного. Они подумали, и они придумали. Если протянуть проволоку вокруг всего Гомеля, то можно считать весь Гомель за один двор, и тогда можно ходить по всему Гомелю хоть с дюжиной платков. Они сложились и купили проволоку и в десять минут обкрутили весь Гомель. Я говорю вам: главное — заранее условиться. Может быть, эти «попутчики» и то и се, платочки и посуда и черт знает что. Но мы их продадим сторожу, и мы обнесем их проволокой. Мы скажем, что они у нас во дворе, и тогда можно будет их печатать с каким-нибудь оглушительным предисловием. Он там пишет, что у Шурочки большая любовь, а мы в предисловии продадим его, как сто горшков: «Шурочка не Шурочка, а любовь не любовь, но одни классовые скакания». Книжка пойдет хоть в двадцати тысячах, и в кассе будут деньги, и Архипу Стойкому выдадут за его «Мыльное Гудение», может быть, груду червонцев. Архип Стойкий недоверчиво поморщился. — Вы «бдист» или не «бдист»? Юлите! И нашим и вашим. С кем вы только успели снюхаться?.. Лазик, однако, быстро его успокоил: — Это чтобы заткнуть рот тому в очках и чтобы вам выдали наконец немножко червонцев, потому что номер с пивной, кажется, больше не пройдет, а я уже успел снова проголодаться. Хоть на Архипе Стойком и была блуза с карманами, но денег в карманах не было. Лазику пришлось отдаться сладким воспоминаниям: как они дивно пахли, кроличьи бананы! Вдруг к нему подошел какой-то упитанный гражданин весьма пристойного вида. Виновато улыбаясь, он сказал Лазику: — Извиняюсь, можно вас на два слова? Вы говорили прямо как Троцкий. Одна блестящая мысль за другой. Я думаю, что мы с вами поймем друг друга. Я, видите ли, ищу снисходительного марксиста. Лазик умилился: — Я вас понимаю. Я в Гомеле тоже искал снисходительную девушку. Но Феня Гершанович оказалась неприступной, как два американских замка. Правда, потом она стала снисходительной, но не ко мне, а к Шацману, и, конечно, тогда она перестала быть девушкой. Это называется гомельское счастье! Но скажите мне, зачем вам понадобился снисходительный марксист. Уж не вздумали ли вы исправлять самого Карла Маркса? — Тс-с! Что вы говорите? И в таком месте!.. У меня очень деликатное дело. Может быть; мы выйдем вместе? Разрешите представиться — Рюрик Абрамович Солитер. Ноздри Лазика раздувались, во рту было мокро, кружилась голова. Он решил действовать напролом. — Вы знаете, Рюрик Абрамович, с кем вы говорите? Я же великий писатель. Я завтра, может быть, буду стоять в бронзовых штанах. Я беспощадный критик. У меня внутри тысяча анкет. Но мы с вами выйдем вместе. Мы не только выйдем вместе, мы еще войдем вместе в какой- нибудь рай. Сразу видно, что у вас в карманах не только дырки, и вы угостите меня этими кроликами, то есть хорошенькими битками в сметане. Рюрик Абрамович ласково обнял Лазика за шею. — Конечно, конечно. Мы пойдем с вами в ресторан «Венеция». Там рябчики и пиво — что надо. — Прикончив вторую птицу, Лазик сказал: — Мерси. После этих кроликов я стал таким снисходительным, что я могу сейчас заплакать. Но если вы хотите, чтоб я исправил Карла Маркса, на это я ни за что не пойду. Я люблю бриться через день, а не сидеть на исправляющих занозах. — Да что вы, что вы!.. Разве я разбойник? Я ведь только несчастный еврей из Крыжополя. Хотите еще птичечку? Соуску? Здесь дело литературное. Мы же почти земляки, и вы меня поймете. Мне нужно продать дворнику посуду. Вы из Гомеля, а я из Крыжополя. Это две кочерги. Но вы себе марксист, а я нетрудовой элемент, полный слез и несчастья. Чем я только не торговал. Я могу даже сказать об этом стихами, как ваш Пушкин: сахарин, и аспирин, и английский фунт, и изюм, и черт знает что. Меня восемь раз высылали: и минус шесть, и Нарым, и Соловки, и еще куда-нибудь, как будто я им Нансен, чтобы открывать Ледовитый полюс. Я все вытерпел. Но теперь — никаких дел. Можно сойти с ума от их понижения цен! Я потерял сто червонцев на одном коверкоте. Я не знал, что бы мне еще придумать. Я стоял на Петровке, как у иерусалимской Стены плача. Если из меня не текли слезы, то только от воспитания. Вдруг выскакивает Фукс и говорит мне: «Издавай! Я издаю, и ничего — дает». Я, конечно, схватил его за шиворот: «Может быть, ты съел тухлую рыбу? Что я, государственный комитет, чтобы издавать?» А он смеется: «Ты же не будешь издавать какую-нибудь пропаганду. Нет, ты будешь издавать романы с парижскими штучками, и ты заработаешь сто на сто». Что же, он оказался не таким дураком, этот Фукс! Я уже все придумал. У меня есть название: издательство «Красный Диван». У меня даже есть рукопись. Это такой роман, что я не могу читать его спокойно. Я его читал уже восемь раз, и все-таки я не могу успокоиться. Глаза у меня на лоб лезут. Ну и городок, скажу я вам, Париж! Вы сами прочтете. Сначала мальчик спит с девочкой. Хорошо, это и у нас в Крыжополе бывает. А потом мальчик спит с мальчиком, а девочка с девочкой, и каждый отдельно, и все вместе, и на двухсотой странице я уж не могу ничего разобрать, потому что это даже не кровать в семейном доме, а какая-то ветряная мельница. Я не знаю, может быть, и переводчик наврал, потому что это один эстонец, настройщик роялей. Он понимал из 77 десяти слов пять, и он даже сам сказал мне, что за сорок рублей не может понимать все слова, хватит с меня половины. Но разве в словах дело? Книга эта замечательно пойдет, верьте моему нюху. Я только боюсь взять ее и просто издать. Довольно с меня этих полярных прогулок! Я хочу, чтобы вы написали о ней настоящее марксистское предисловие. Я дам вам пятьдесят рублей. После вашей тонкой речи я знаю, что вы напишете предисловие, как последний дипломат. Идет? Вот вам авансик. Еще пивца? Кофейку? Над предисловием Лазику пришлось прокорпеть не меньше, чем над памятной анкетой о кролиководстве. Одиннадцать раз перечел он рукопись и все же ничего не понял. «Здесь Валентин взял трамвай, и он увидел Анжелику танцевать среди лимузинов. Тогда в нем пробудилась страсть к очертаниям, и он невольно отобрал у своего соседа теннисную ракету. Он сказал ему: «Ты ведь хочешь лежать со мной, после «Быка на крыше», среди леса в Булони или даже в ложе глухой привратницы?» Лазик тихо стонал. Вот кто съел тухлую рыбу! Ну, пусть себе лежат на крыше или даже в глухой ложе: это их семейное дело. Но при чем тут ракета? Нет, кажется, легче размножать мертвых кроликов! Однако Ройтшванец был человеком твердой воли. Он решил дослужиться до бронзовых брюк, и он работал как вол. Через несколько дней он закончил краткое, но содержательное предисловие: «Французский писатель Альфонс Кюроз, книгу которого мы торопимся преподнести пролетарскому читателю, не так прост, как это кажется с поверхностного виду. Под видом столкновений разных полов он на самом деле звонко бичует французскую буржуазию, которая танцует, как сумасшедшая, среди люстр и лимузинов. Валентин — типичный дегенерат, который, наверное, хочет нашу нефть и пока что эксплуатирует свою глухую привратницу. Положение угнетенного класса раскрыто автором хотя бы в таких словах этой якобы голосующей рабыни: «Господин, — промолвила она, — вытрите ноги, если это вам нравится». Сколько здесь раболепства под видом ложной свободы! Конечно, Альфонс Кюроз шатается между двумя станами, и он не может никак стать на твердую платформу. Мы знаем с точки зрения беспощадного марксизма, что он вполне деклассированный тип и содрогается на перепутье. Но талант подсказывает ему, что скоро уж не будетникаких очертаний, а теннис перейдет в мозолистые ладони бодрых пионеров. Когда падает в будуаре массивный таз, он символически вздрагивает и, пряча в комод грязное белье своего прошлого, невыносимо кричит: «Идет, он идет!» Наш пролетарский читатель усмехнется: да, он таки идет, новый хозяин жизни, и пора вам, мечущиеся Кюрозы, стать под великий флаг установленного образца!» Легко понять, как дрожал Лазик, заканчивая это предисловие: он ведь хорошо помнил 87-ю статью. Но вдохновение победило страх. Рюрик Абрамович прочел предисловие вслух, он прочел его с пафосом, брызгая слюной и жестикулируя. — Что говорить, первый сорт! Представляю себе, как бестия Фукс будет мне завидовать. Получив деньги, Лазик возгордился. Он пошел в «Венецию», выпил графинчик водки и начал хвастаться: — Я все могу разрезать с марксистской точки. Даже пупок. Я прямо- таки гений, и мне смешно думать, что передо мной сидят какие-то живые люди, а не одна вечная память. Что, Фенечка, ты таки прогадала? Я вскрываю научно твой сиреневый капот и говорю— это шатанье между двумя платформами. Эй вы, Бетховен, играйте мне мелодию! А вы кто такой? Официант? Не знаю. Не знаком. Вы, может быть, Максим Горький? Одним словом, помогите мне встать, потому что у меня ноги не двигаются. Они уже, наверное, стали из бронзы. Лазика повели в уборную. Позабыв о мировой славе, он виновато застыл над раковиной. Что делать — он ведь никогда не пил столько. Две недели спустя Ройтшванеца уже знала вся литературная Москва. Он заходил как свой человек в редакции посидеть, поговорить, он требовал в издательствах авансы под различные труды, он выступал на диспутах. Все быстро привыкли к его непомерно маленькому росту и тонкому голосу, похожему на писк мышки. Правда, никто не знал толком, чем он знаменит, но на всякий случай говорили: «Надо позвать и этого Ройтшванеца... » Когда Лазика спрашивали: — Работаете? Он гордо отвечал: — Еще бы! Заканчиваю шестой том марксистской критики всяких очертаний. Это вызывало благоговейный трепет одних, зависть других. Однажды Лазик сидел в «Литературном клубе», поджидая оказии: вдруг объявится какой-нибудь новый Солитер. С ним заговорил очкастый субъект, все время надрывно зевавший. — Скучный сегодня доклад... — А когда он не бывает скучным? Это же вам не «Венеция» с мелодиями... Очкастый усмехнулся. — Вы — поэт? Прозаик? — Я? Я марксист на седьмом томе. Да, не что-нибудь возле, но стопроцентный критик. А вы кто же? — Я — ученый секретарь Академии. Лазика передернуло: вот это номер! Наверное, ему платят все сто рублей за предисловие и вообще громовой почет. Как должны, например, кормить такого академи-ческого фрукта! Сплошными орхидеями. Почему же Лазик не может быть секретарем Академии? Это, вероятно, обыкновенный дом, если не на Лубянке, так на Петровке. А насчет учености не может быть речи. Более ученого, кажется, трудно себе представить. Мало учил его хотя бы товарищ Серебряков, уж не говоря о хедере? На ближайшем диспуте «О современном языке» Лазик так начал свою речь: — Я говорю не только как беспощадный критик, но как очень ученый секретарь самой главной Академии. Я знаю ваш могучий язык вдоль и поперек, и я скажу, что это только предсмертное скакание, потому что, когда волнуется классовый океан... 78 Кончить ему не удалось. За одной бедой пришла другая. Рюрик Абрамович снова уехал открывать Северный полюс, и, разбирая дела издательства «Красный Диван», нескромные люди заинтересовались автором патетического предисловия. После скандала на диспуте «бдисты» поспешили отступиться от Ройтшванеца, и литературная карьера Лазика кончилась следующим, не вполне литературным разговором: — Имя? Год рождения? Состоите на учете? Хорошо. Теперь объясните мне, кто вы, собственно говоря, такой? — Я? Надстройка. — Как?.. — Очень просто. Если вы база, то я надстройка. Я говорю с вами как закоренелый марксист. — Знаете что, вы эти истории бросьте! Меня разыграть не так-то легко. Я вас насквозь вижу. Отвечайте без дураков, что вы за птица? — Если птица, то филин. Как? Вы не знаете этой постыдной истории? Но ведь ее знает весь Гомель. Тогда я вам сейчас же расскажу. Два еврея разговаривают: «Что такое филин?» — «Рыба». — «Почему же она сидит на ветке?» — «Сумасшедшая». Так вот я скорей всего птица или рыба, одним словом, что-то сумасшедшее. — Ах так!.. Прикидываетесь!.. Я, кстати, спец по части симуляторов. Здесь один прохвост был, продавал на черной бирже доллары. Так он, вроде вас, комедию затеял. Объявил себя собакой. На четвереньках ползал, лаял, даже заднюю лапу поднимал. Ну, я ему: «Что же, раз вы собака, то и говорить не о чем: собаке — собачья смерть!» Он мигом вскочил на обе ноги и как закричит: «Хорошо, я уже не собака, я — Осип Бейчик, и, пожалуйста, обращайтесь со мной по-человечески!» Итак, вы — рыба? — Нет, я не рыба. Я вовсе не хочу плавать в какой-то холодной воде. Я попробовал говорить с вами возвышенно, как на самых шикарных диспутах, но если вам это не нравится, я могу говорить с вами просто. Кто я? Я — бывший мужеский портной. Все началось с брюк Пфейфера, а кончилось этими бронзовыми брюками. Меня раздавило величье истории. Я, например, три дня постился, а потом я встретил товарища Архипа Стойкого. У него росла борода не на месте, и он читал мне такие глупости, что услышь их последняя гомельская кляча, и та, наверное, сдохла бы от сухого сарказма. Тогда я подумал, если этот Архип Стойкий — великий писатель, почему же мне не влезть на готовый пьедестал? Я не виноват, если я ничего не понял в романе гражданина Кюроза. Вы тоже не поняли бы, и я даю вам честное слово, что даже китайские генералы здесь тоже ничего не поняли бы. А если я один раз и нализался в «Венеции», то это еще не государственный порок. У нас в Гомеле говорят: «Человек, конечно, вышел из земли, и он, конечно, вернется в землю. Это вполне понятно. Но между тем, как он вышел, и между тем, как он вернется, можно, кажется, опрокинуть одну рюмочку». Я не помню, что я говорил там, в этой журчащей «Венеции», потому что меня там просто на просто тошнило. Теперь я развенчан, как несуществующий бог. Что делать, я не возражаю. Вы не хотите, чтоб я был новым Пушкиным, я не буду. Я снимаю с себя эти бронзовые штаны, и я прощаюсь с вкусными орхидеями. Я обещаю вам быть тише, чем стриженная под бобрик трава. Только не отсылайте меня к Рюрику Абрамовичу! У меня нет никакой шубы, а он теперь, наверное, не заказывает больше предисловия. Не пытайте злосчастного Ройтшванеца! Нет, лучше отпустите его на все пятнадцать сторон!.. К осени Лазик устроился. Он снова ел битки. Правда, в его новой службе не было ничего возвышающего душу, но, наученный горьким опытом, он больше не мечтал о мировой славе. Некто Борис Самойлович Хейфец получал из Минска контрабандное сукно. В обязанности Пазика входило разносить материал частным портным. За это он получал шесть червонцев в месяц. Конечно, в Москве было теплей, чем на Северном полюсе, но Лазик все время дрожал. Он нес сукно, как бедная мать подкидыша, прижимая его к груди и пугливо озираясь на щебечущих воробьев. Он даже завидовал Рюрику Абрамовичу — тот уже на месте, привык, может быть, оброс толстой кожей, как ледовитый медведь, а ему, Лазику, только предстоит эта лихорадочная экскурсия. Единственным утешением Лазика были две соседки. Он встречал их иногда в коридоре или на лестнице, останавливался, благоговейно вздыхал и терял отрез сукна. Время взяло свое — он в душе изменял Фене Гершанович. Как-никак Фенечка была яблоком отсталого продукта, а соседки Лазика работали в «Льняном тресте», ходили в театры со стрельбой и выражались научно; так, например, одна из них, столкнувшись в дверях с Лазиком, сказала: «Такие арапы зря занимают жилищную площадь...» Лазик влюбился сразу в обеих, и это его несколько смущало. Он знал, что одну, пышную и розовую, зовут «товарищем Нюсей», а другую, остроносую брюнетку, —« товарищем Лилей». В кого же он влюблен, в Лилю или в Нюсю? Впрочем, этот вопрос занимал его абстрактно, так как он скорей согласился бы отправиться в гости к ледовитому Рюрику Абрамовичу, нежели заговорить с одной из прекрасных соседок. Однажды вечером, вернувшись домой после трудового дня (Хейфец получил большую партию коверкота), Лазик увидал в дверях своей комнаты товарища Нюсю. Он тихо пискнул от восторга. Нюся первая заговорила: — Почему вы все время на меня смотрите и не здороваетесь? Лазик молчал. — Вы что же — немой? Тогда героическим усилием воли Лазик заставил себя заговорить: — Нет, я не немой. Немая это Пуке. А я — Ройтшванец. Но как я могу с вами говорить? О, если б я вас встретил раньше, когда я был кандидатом в Пушкины или хотя бы просто кандидатом! А что я теперь? Отпетый курьер вполне частного предприятия, то есть Бориса Самойловича. Вы же — бронзовое божество. Нюся рассмеялась. — Я не божество, а делопроизводительница, но комната у вас хорошая. Вы один ведь живете? Как только вам раздобыть удалось? 79 — Это — Борис Самойлович. У него удивительные связи. Но почему вы говорите о глупой комнате, когда вы даже не передовой отряд, а бронзовое очертание? — Что вы к бронзе привязались? Я не из бронзы. Я, кажется… Нюся не договорила, вместо слов она только повиляла своими не бронзовыми формами. Лазик зажмурился. Он еле-еле пролепетал: — Какой сверхъестественный фейерверк!.. Нюся подошла к окну; тщательно осмотрела она скромную обстановку. Лазик не сводил с нее глаз: мираж, дивное видение! Надо сознаться, что Лазик отличался чрезмерной восторженностью. Хоть Нюся и была женщиной дородной, красотой она никак не отличалась: нос картошкой, вместо бровей — белый пух, короткая толстая шея. Единственное, чем могла она похвастаться, — это изобилие материала; рядом с Лазиком казалась она в ширину бушующим океаном, а в вышину небоскребом. Молчание длилось довольно долго. Наконец Нюся сказала: — Вы все еще на меня глаза пялите? Нравлюсь? — О!.. О!.. Лазик не находил слов. Он размахивал ручками и прерывисто дышал. — Нравитесь? Какое постыдное слово! Почему я не Пушкин? Почему я хотя бы не Шурка Бездомный? Я смеюсь, когда думаю сейчас о моих недавних сомнениях. Вы слышите, как я ужасно смеюсь? Нюся только пожала плечами: Лазик ведь не смеялся. — Вы не слышите? Он громко крикнул: «Ха-ха!» — Теперь вы слышите? Я смеюсь, потому что я сомневался в связи с этим товарищем Лилей. У нее же ничего нет, кроме носа. Она недостойна даже спать с вами в одной комнате. Когда я гляжу на вас со всех четырех сторон, в мои глаза летит электричество. Вы стоите сейчас над миром, как бронзовая... — Тьфу! Снова бронза? Да вы попробуйте — я нехолодная. В голове Лазика пронеслось: Феня Гершанович, Шацман, корова, пигмей... Здесь надо быть действительно храбрым! Я же бодрый класс! Но как поцеловать ее, если она стоит? Влезть на табуретку! Смелей!.. В который раз Лазик пришпорил себя любимым назиданием: «Лезь, Лазик, лезь!» Он вскочил на табуретку. Сразу стал он высоким и дерзким. Тонкими ручками обнял он массивную шею. Он поцеловал Нюсю прямо в губы, как целовал этот нахальный Валентин свою парижскую Анжелику. Но здесь- то и произошло непредвиденное: у него закружилась голова, и под хохот Нюси он упал на пол. Встать? Но ведь она смеется... Он не виноват. Он смело пошел в бой, и если он контужен, то это бывает с самыми безошибочными героями. Но она этого не понимает. Значит, лучше не вставать. Лучше лежать на полу, как будто он уже умер от нахлынувшего счастья. — Хи-хи!.. Что ж вы не встаете? Расшиблись? — Нет, я не расшибся, но я, может быть, окончательно умер от таких обжигающих чувств. Может быть, перед вами лежит только холодный труп тореадора или даже Евгения Онегина. Всласть насмеявшись, Нюся заставила Лазика встать. Преспокойно она сказала: — Лилька и мне надоела. Лезет со своим носом куда не следует. Нельзя никого к себе позвать— сейчас же отобьет. А вы хоть ростом не вышли, но в общем ничего, сойдет. Словом, хотите поженимся? Завтра с утра пойдем в загс, а после службы я перетащу мои пожитки. Будем жить вместе. Вместо ответа Лазик упал на колени. Несвязно восклицал он: — Вы слаще бананов! Вы бурлите, как сто Днепров! Когда я получу от Бориса Самойловича шесть червонцев, я куплю вам теннисную ракету. Я люблю вас, как ископаемый бог! Нюся потрепала его по головке и, сказав: «Значит, до завтра», — как благоразумная невеста былых времен, ушла к себе спать. Не до сна было Лазику. Забыв о строжайших постановлениях жилтоварищества, как тигр, метался он по комнате от страха, от страсти, от счастья. Он разговаривал сам с собой: «Лазик, ты понимаешь, что случилось? Ты жил тридцать два года, как последний крот. Кто тебя вздумал бы поцеловать, кроме тети Хаси? А теперь ты стал счастливым любовником. Тебя можно показывать во всех театрах. Завтра ты войдешь в рай. Чем такая комната хуже ложи глухой привратницы? О тебе будут писать парижские романы. Рычи, Лазик, смейся, танцуй! Ты уже не рассыльный Бориса Самойловича, ты бык на последней крыше». Утром Лазик презрительно отпихнул ногой пакет с коверкотом. Он заявил Борису Самойловичу: — Сегодня я вообще не работаю. Я открыл себе высший план. Может быть, завтра я отнесу весь материал Сухачевскому, на эту дикую Шаболовку. Но сегодня я даже не хочу с вами разговаривать, потому что вы живете на земле с вашим собачьим коверкотом, а я порхаю среди сплошных очертаний. — Что с вами? Вы с утра налакались? Или у вас грипп с осложнением? — У меня любовь с осложнением. Завтра я к вам приду, но сегодня я женюсь, и не на обыкновенной женщине, а на приснившемся очертании. В отделе записей Лазик держался с достоинством. Вот только никак не удавалось ему взять Нюсю под руку, как он ни старался. Встать на стул в учреждении он счел неудобным, а Нюся ни за что не хотела присесть на корточки. Я не стану рассказывать о том, как Лазик на тридцать третьем году своей жизни стал торжествующим любовником. Уже светало, когда он разбудил Нюсю, заговорив от полноты чувств: — Ты знаешь, мы играли в Гомеле трагедию товарища Луначарского. Тогда я ничего не понимал. Я был слеп, как бронзовая крыса. Мне нужно было кусать герцогиню, но я только несознательно хрипел. Теперь я понимаю, что это за замечательная трагедия! Если бы я был настоящим классовым герцогом, я бы стал сейчас же кусать тебя от предпоследней вспышки. Но я не герцог, и я только хочу еще раз поцеловать эту не бронзу. 80 Нюся огрызнулась: — Пошел к черту! Я спать хочу! Утром Нюся встала, зевая, оделась, выпила чаю, а потом сказала Лазику: — Ну, теперь идем в загс. — Мы же вчера там были... — Вчера! Вчера поженились, а сегодня разводиться пойдем. Лазик присел на табуретку — здесь познал он первое счастье — и тихо заплакал. — Нюся! Очертание! Почему же ты хочешь растаять? Я ничего не понимаю... Ведь мы не обязаны разводиться. Мы даже можем жить вместе до замогильных досок. У позапрошлых евреев есть такое правило, что если молодые не спали вместе, они должны утром развестись. Это, конечно, насилье над свободной совестью, но это еще понятно. Зачем же люди женятся? Но разве есть такой закон, что если молодые спали вместе, то они обязаны утром развестись?.. — Надоел ты мне, пискун! Ну, спали! Кажется, встали. Хватит! Не буду же я с таким клопом каждую ночь возиться! У нас свобода теперь. Выбирай кого хочешь. А не пойдешь в загс, я и одна забегу — мне по дороге. Вот давай-ка лучше с тобой о комнате поговорим. Пополам ее не разделишь. А назад к Лильке я не могу. Я с ней из- за тебя поссорилась. И потом, она сказала, что сегодня тоже в загс пойдет с Гариным. Жить будут у нее. Ну, а ты мужчина, тебе легче устроиться. Значит, комната за мной. А свое добро забирай, только сразу, чтобы не валандаться. Я этого не люблю. И в гости не вздумай ходить. Я в загсе четырнадцать раз была. Если все бывшие мужья начнут ко мне шляться — места не хватит. Лазик тихонько высморкался. Я знаю, что я несчастен. Тетя Хася говорила, что я ударился головой о горшок. Когда у меня кончается мираж, ты говоришь о какой-то смешной жилплощади. Будь у меня Академия, я отдал бы тебе всю Академию. Прости, что я разбудил тебя ночью с моими театральными аплодисментами. Я сейчас иду бродить по миру, как подобает проклятому Ройтшванецу. На земле есть квадратные метры, и загс, и даже что-то не из бронзы. Но на земле нет счастья. Это только отсталое слово могучего языка. Увидев Лазика, Борис Самойлович рассмеялся: — Женились? Поздравляю! — Дайте мне коверкот для Сухачевского и не трогайте моих наболевших мест. Я не только женился, я уже и развелся. Зачем вы мне дали эту жестокую жилплощадь? Лучше бы я спал на скамье бульвара! Я сейчас могу всех перекусать, как бешеный кролик. Я отрицаю ваш организованный мир! Вы хотите только червонцы. Она хотела квадратные метры. Я хотел что-то другое, о чем я с вами вовсе не буду говорить. Но я спрошу вас — кто же ничего не хочет? Кто хочет только гробовой любви и капельки веселых слез от чужого счастья?.. 19 Лазик поселился у Хейфеца на кухне вместе со старой служанкой Дашей. Даша числилась тетушкой Бориса Самойловича, а Лазик его племянником. Ночами Лазик оплакивал свое короткое счастье. Днем же по-прежнему он разносил товар, получал деньги или чинил брюки Бориса Самойловича. Вы, пожалуй, спросите, почему Борис Самойлович не мог сделать себе новые из лучшего английского шевиота? Как будто брюки — это булавочная головка! Впрочем, Лазик хорошо знал, что такое брюки... Жил Борис Самойлович сосредоточенно, как человек, преданный высокой идее. Он любил, например, индюшек или каплунов, но в квартире находился гражданин Тыченко, и Тыченко мог учуять подозрительный дух. Борис Самойлович ел суповую говядину. Он ходил в заплатанных Лазиком штанах. — Ты, Ройтшванец, хоть одну ночь был женат, а я вот уже второй год как обхожусь скомканными воспоминаниями. Сюда привести нельзя — Тыченко узнает: «Кто, почему, что это за роскошная жизнь?..» А пойти тоже опасно: вдруг попадешь на облаву. Марьянчик рассказывал, что в Никольском три голых датчанки изображают подводный телеграф, и всего червонец за телеграмму. Это же даром! У меня даже сердцебиение сделалось. Из дому вышел. Вернулся. Схватят — и крышка. Как-то ночью Борис Самойлович привел Лазика к себе, закрыл дверь на ключ, посмотрел, не шляется ли по коридору Тыченко, и наконец вынул из-под рязного белья небольшую картину в пышной раме. Лазик увидел охотничью собаку, которая бесцеремонно разрывала юбку крестьянки. Борис Самойлович благоговейно зашептал: — Видишь? Это мне Сапелов продал за десять червонцев. У Сапелова не только оружейный музей был, но и конский завод. Он прямо сказал мне: «Риск, что отберут, большой. Но если продержите это до конца — богатство. Иностранцы дадут не меньше ста тысяч, потому что это великая кисть. Это или Репин, или Рафаэль, или оба вместе. Вот и рискнул. Я даже не о деньгах думаю. Я гляжу тихонько по ночам и наслаждаюсь. Какое выражение юбки! Это — кисть! Ты хоть, Ройтшванец, ничего на свете не признаешь, но я тебе скажу, что есть, брат мой, замечательная красота. Дни шли, полные опасностей. Лазик обходил портных. Иногда при виде ножниц и утюга просыпались в нем угрызения совести: «Зачем я променял это на какие- то скитания?.. Но что же мне было делать? Не я отобрал у себя вывеску и счастье. Поздно жаловаться! Теперь я мчусь, как бедный листик, гонимый столетним ураганом». Червонцы Борис Самойлович выменивал на английские фунты и порой пересчитывал их; тогда Лазик должен был сидеть в уборной и отчаянно шуршать бумагой, чтобы сбить с толку Тыченко. Пересчитав деньги, Борис Самойлович меланхолично вздыхал. Он шел в кухню на цыпочках и говорил прислуге: 81 — Тетя Даша, может быть, вы поставите мне простой пролетарский самовар? Ни девочек, ни пообедать в «Московской», ни послушать оперетку, — жаловался он Лазику. — Я же мученик! Я святой! После смерти я, наверное, не буду вянуть, нет, тогда я начну благоухать. Но пока что чем мне утешиться? — Вы можете думать, например, что вы уже после смерти, и тогда вы можете благоухать вовсю, если для вас это утешение. Но не так-то легко было Борису Самойловичу утешиться. Он шептал: — Ты понимаешь, болван, что весь их коммунизм это только пломбированная чепуха? Лазик отвечал уклончиво: — У нас в Гомеле говорят: одной селедки хватит и на десять человек, а большую курицу слопают двое. Это полная правда. Вы, конечно, любите кушать курицу, и я тоже люблю, и это все любят. Селедка во рту — другой разговор. А все вместе — это вовсе не ваш одинокий гнев, когда вы шуршите бумажками, но точная арифметика. Я это понимаю без всякой политграмоты, и мы с вами два ожесточенных класса. Всякий увидит, что вы — это мягкий вагон, а я — чересчур жесткий. Пока что нас везет один рассеянный паровоз. Но что будет завтра, я не знаю... Как-то вечером, возвращаясь домой, Лазик увидел Бориса Самойловича, обмотанного башлыком; который почему-то прихрамывал. — Где это вы упали, Борис Самойлович? Может быть, на шоссе Энтузиастов? Там таки скользко... — Тише! Я уже не Борис Самойлович, я Оскар Захарьевич и хромаю с самого детства. Во-первых, держи этот сверточек. Только осторожней — здесь все мое будущее. А во-вторых, они сцапали Тыченко, и оказалось, что Тыченко вовсе не в партии, он работал вместе с Марьянчиком. Значит, это идет через Минск, и сегодня схватят меня. Если б еще в Нарым, я подумал бы. Но здесь пахнет процессом. Ройтшванец, я решил удрать в Лодзь. Там у меня племянник. Не как ты — настоящий. Бог даст, проживу. Только бы провезти этот сверточек. Теперь спрашивается, что тебе делать? — Мне? Ничего. Я привык. Самое большее, что я могу сделать при данной ситуации, это пойти в парикмахерскую. — Ты дурак, Ройтшванец! Ведь если я убегу, схватят тебя. Пойди, доказывай им, что ты не племянник. Потом, кого видали с материалом? Тебя. Хочешь десять лет получить? Хочешь? Идиот! А что если тебя расстреляют? — Зачем же я стану заглядывать вперед, в мое кровавое будущее? Лучше я пойду и переменю на всякий случай белье. — Постой!.. Знаешь что, я возьму тебя с собой. Ты перевезешь этот сверточек. А остальное устроится. Нас переправит Файгельсон из Минска. Ты еще сомневаешься? Но ты, мало сказать, идиот, ты дерево. Я тебя устрою в Лодзи. — Я не понимаю, зачем мне бежать? Вы, конечно, спасаете вашего Рафаэля и беленькие бумажки. А что мне спасать? Если себя, то ради этого не стоит ехать в Лодзь, я спокойно могу умереть на Дорогомиловском кладбище. Если не себя, то кого? Мою бывшую супругу, или Тыченко, или, может быть, ваш неприступный сверток? Хорошо, у вас там племянник, но у меня там нет племянника, а вам я верю, как позапрошлому снегу. У меня была тетя в Глухове, но ее уже нет. Зачем же мне бежать или хотя бы ускорять походку? И вот я все-таки соглашаюсь, и я бегу с вами впопыхах в вашу проклятую Лодзь. Я уже больше не стоячий гражданин, но одно скаканье и неизвестность. Я сам не могу остановиться. Бежим, Оскар, или Борис, или Репин с кистью, бежим! Мы — листики, а кругом ураганы. Но стойте — я плачу заядлыми слезами. Я прощаюсь с моей провалившейся молодостью. Я прощаюсь с Гомелем и с наперстком. Я прощаюсь с этим Иваном Великим и с табуреткой моей бывшей супруги. Я стою, как вкопанный, я рыдаю, и я все-таки ничего не могу поделать с подобным землетрясением — я бегу, и бегу, и бегу... 20 Посмотрим с тобой правде в глаза, Ройтшванец. Ты большой философ, и ты не дорожишь жизнью. Ты даже хотел немедленно умереть на Дорогомиловском кладбище. У тебя нет никого на свете. А у меня вот племянник в Лодзи. Я так не хочу умирать, что, когда я вижу на улице чужие похороны, у меня начинает колоть в животе. Значит, сверточек должен взять именно ты. Если тебя схватят, что же, ты умрешь какойнибудь интересной смертью. Но если ты провезешь этот сверток, я тебя озолочу. А ты его наверное провезешь. Ты же такой маленький, что тебя вообще никто не заметит. Потом, ты, как- никак, мой служащий, и ты обязан носить мои свертки. — Я не говорю «нет», но я могу петь над собой похоронный марш, потому что мне тоже хочется еще пожить, хотя бы один год, и у меня колет в животе, как будто я уже вижу свои собственные похороны. Беглецы благополучно миновали пограничные посты. Завидев издали шапку польского жандарма, Борис Самойлович подозвал Лазика: — Ну, теперь давай-ка сюда этот сверточек. Лазик расстегнул брюки и вытащил заветный пакет. Отдавая его, он только спросил: — А когда вы начнете меня золотить?.. Но Борис Самойлович ничего не ответил. Конфиденциально улыбаясь, протянул он жандарму одну из шуршащих бумажек. — То, пане, лепший паспорт. Жандарм решил поторговаться: мало; это с одного, а не с двоих. Тогда Борис Самойлович, недоуменно пожимая плечами, сказал: 82 — То не есть мой человек. Я его совсем не знаму, то есть, наверное, большевик. По морде видно, что то есть пся крев. Лазика арестовали. Он не спорил, не защищался. Он только тихо сказал Борису Самойловичу: — Яже говорил еще в Москве, чтоя вам верю, как позапрошлогоднему снегу. Вы можете кланяться от меня вашему дорогому племяннику, а потом золотить себя со всех сторон. Тогда вы станете таким красавчиком, что все польки устроят один беспроволочный телеграф. А Ройтшванец будет сидеть на заграничных занозах и думать, что нет на свете даже воровской справедливости. Перед тем как приступить к допросу арестованного, ротмистр решил малость подкрепиться: он съел кусок копченой полендвицы и опорожнил графинчик «чистой». Хоть его ноги отяжелели, голова стала зато легкой, и, невинно гогоча от детского веселья, он приветствовал Лазика: — Здравствуй, лайдак! Ты что же, червонный шпег? — Я? Нет, я скорей всего горемыка Ройтшванец. — Не прикидывайся глупцом. Какие планы ты хотел выкрасть, например, варшавские или виленские? Или, может быть, ты хотел замордовать самого дедушку Пилсудского? — Он мне вовсе не дедушка, и я никого не хотел замордовать. Я даже не хотел замордовать этого Бориса Самойловича, хоть он обещал меня тоже озолотить, а потом убежал вприпрыжку. Планы мне тоже не нужны, я не рисовальщик, и у меня нет кисти Репина. Одну ночь я, правда, провел в высшем плане с моей бывшей супругой, но это кончилось простой жилплощадью. — Это же не человек! Это ясная холера! Здесь тебе не советская гноювка, чтобы молоть глупости. Отвечай, почему ты перешел в Польшу? Лазик задумался. Ему было и впрямь трудно ответить на этот резонный вопрос. — Скорее всего потому, что на меня подул задний ветер. Если у вас есть часок-другой времени, я, конечно, расскажу вам все по порядку. Началось это с глухонемой Пуке. Я был влюблен тогда в Феню Гершанович, а вы сами знаете, что любовь не простой овощ... — Быдле! Так ты разговариваешь с польским офицером? Здесь тебе не Азия. У нас Париж. У нас Лига Наций. У нас в Вильне — шиковный университет. Мы Коперника родили. У нас роскошные кокотки в цукернях. Я тебе морду развалю! Отвечай по порядку: кто ты такой? — Бывший мужеский портной. — Ага! Кравец. — Я вовсе не Кравец, а Ройтшванец, но у нас в Гомеле немало Кравцов. Один Кравец даже состоял комиссаром и давил тифозных блох, а другой Кравец готовил из венгерского скипидара «пейсаховку», потом его, конечно, загнали куда теленок Макара не гонял... — Помолчи, болван! Откуда ты родом? — Я уже сказал вам, что я из самого Гомеля. Ротмистр, утомившись, задремал. Разбудили его шаги вестового. Очнувшись, первым делом он крикнул: — Еще едно бутэлька!.. Откуда ты, сукин сын? Из Хомеля. Вот так! Значит, ты поляк. Хомелыцина это же наши крессы. Стань во фрунт перед офицером, старая шкапа! Ты паршивый жидентко, но ты поляк Моисеева закона, потому что эту Хомелыцину мы у вас скоро отобьем. Вы все хомельские на самом деле поляки. Ротмистр теперь дул водку из чайного стакана, Лазик глядел на него задумчиво и нежно. С вами же будет, как со мной в «Венеции», и здесь даже нет чашки. Вы говорите, что я поляк? Может быть. Я об этом еще не думал. Но я был ученым кандидатом Академии. Почему же мне не стать поляком? Вот с Пфейфером вам будет, наверное, труднее, потому что он упрям, как осел, и потом, он сейчас в польском Гомеле, а вы еще здесь. Он может сказать, например, что он не поляк, а гневный член ячейки. Я же стою здесь и не спорю. Поставим десять точек и скажем, что я полнокровный поляк.. Ротмистр больше не слушал его. Он гаркнул: — Встань, холера! — Хоть Лазик и до этого стоял» — Встань и пой наш богатырский гимн «Еще Польска не сгинела, пуки мы жиемы»!.. Здесь-то Лазик прервал пение отчаянным возгласом: — При чем тут Пуке?.. — Молчи, стерва! Ты ликовать должен, бить в бембены, дуть в тромбы, ходить на голове, а ты еще пищишь что-то. Я из твоей морды компот сделаю! Я тебя выкину в окошко! Ты у меня будешь на бруке лежать!.. Лазик вздохнул. — Снова брюки? Но эти суконные близнецы преследуют меня до самого гроба!.. — Я тебя в козе загною! Ты у меня узнаешь, что такое Речь Посполита! Это тебе не червоный навоз! — Я уже узнал. Мне, кажется, пора идти на посполитные занозы, а вам не мешает поискать, где здесь какая- нибудь удобная чашка, не то вы испачкаете мое дорогое признание, которое вы записали на этом роскошном листе. Я сам вижу, что я не у себя в Гомеле, а в замечательной Речи. Правда, там меня спрашивали о кубических метрах безответного отца, зато вы хотите сразу варить из меня какое-то сладкое блюдо. Рожайте же ваши шиковные цукерни и отбирайте у меня хоть сто Пфейферов, но теперь закончим этот певучий монолог. Тогда ротмистр, поднатужась, встал, отвесил еще одну затрещину и, видимо, покоренный красноречием Лазика, пошел разыскивать укромное место. Лазика отвели в камеру. Через несколько дней его перевезли в Гродно. Там он подвергся новому допросу. Офицер, допрашивавший его, был отменно вежлив, он даже сказал «пане старозаконный», и Лазик в умилении воскликнул: 83 — Нельзя ли, чтоб меня всегда допрашивали утром, когда господа ротмистры пьют кофе с молоком, а не эту чистую»? Ротмистр ничего не ответил. Он только деликатно прикрыл рукой рот. Что делать — он любил иногда схватить натощак склянку хорошей сливовицы. — Итак, вы сами сознались в том, что нелегально перешли границу для преступной пропаганды среди якобы белорусских крестьян. — Он, наверное, не нашел чашки, тот первый ротмистр, он испачкал лист, и вам показались ненаписанные буквы. Я сознался только в том, что меня зовут Ройтшванец и что я полнокровный поляк. О крестьянской пропаганде и о якобы мы даже не разговаривали. Мы говорили о самых различных вещах, например, о том, что можно взять и замордовать дедушку Пилсудского или украсть целое Вильно со всеми его планами, но о крестьянах пан первый ротмистр даже не заикался. — Значит, вы отказываетесь от своих собственных показаний? Теперь вы утверждаете, что вы поляк? — Положим, это утверждаю не я, а вы или даже ваш родимый товарищ по профсоюзу. Он ведь сам сказал мне, что Гомель это полнокровная Польша, а я только пархатый Моисей польского закона. — Конечно, Гомель — польский город. Мы были там, и он принадлежит нам по праву. Лазик оживился. — Вы были, пан ротмистр, в Гомеле? Это город высший сорт! Не правда ли? Один парк Паскевича красивей всех кисточек Рафаэля. А театр, что он, плох? А Сож, чем это не показательное море? Таких деревьев, как в Гомеле, я еще нигде не видел, и таких женщин я тоже не видел, потому что если сравнить теперь с исторической высоты Фенечку Гершанович и Нюсю, временно Ройтшванец, то сравнение не выдержит. Но зачем я говорю вам об этом, когда вы сами были в Гомеле? Интересно, где вы там останавливались? Если в первой коммунальной гостинице, то, конечно, там отборное положение, так что можно с балкона глядеть на всех проходящих знакомых, но зато там нахальные клопы. — Вы меня не совсем поняли. Я лично в Гомеле никогда не был, но мы, поляки, были в Гомеле, следовательно, морально он наш. — Вы такой симпатичный, пан ротмистр, что мне хочется сделать вам цветочное подношение. Вы не кричите мне, что я, скажем, старый шкап, и вы держите ваши руки всего-навсего в положенных карйанах. Так послушайте— я разводил в Туле мертвых кроликов. Это очень красивый город с сокращенным штатом. Что же, в Туле тоже был один поляк, я даю вам честное слово. Он заведовал в коммунальном отделе постыдными бочками, и он приходил к нашей курьерше Дуне, и он все время причмокивал: «Что это у вас, коханый товарищ, за божественные перфумы?..» Дорогой пан ротмистр, вот вам еще один город. Это не шутка! За пять минут вы неслыханно разбогатели. У вас Хомелыцина, у вас Тулыцина. Напишите открытку Рюрику Абрамовичу, и он, наверное, подарит вам всю Нарымщину. Тогда вы станете целым полушарием. Я же вас попрошу только об одном: отпустите меня на свободу! Вдруг я попробую сшить какому-нибудь польскому Моисею костюм из его материала. Я все-таки устал сидеть на занозах, у меня сзади уже не Ройтшванец, но полное решето. — Увы, я не могу отпустить вас. Вы советский шпион, и вас можно присоединить к любому делу, например, к заговору во Львове, к бомбам в Вильне, к гродненским прокламациям, к подделке печатей в Лодзи, к покушению на маршала в Кракове, к складу оружия в Люблине... — Умоляю вас, остановитесь! Я же знаю, что у вас много городов. Такой походкой вы дойдете сейчас до Тулы. Но я не хочу, чтоб меня присоединили. Я уж присоединился к вам, и я полнокровный поляк. Если вы встанете, я сейчас же спою вам богатырский гимн «Еще Пуке не сгинела...». Я хочу сам родить нового Коперника! Я хочу, наконец, поглядеть на этих цукерных кокоток!.. Лазик просидел в тюрьме четыре месяца. Из Гродно его перевезли в Вильно, из Вильно в Ломжу, из Ломжи во Львов. Не без гордости говорил он другим арестантам: — Вы — быдло! А я пан ученый секретарь. Я же открыл эту Польшу, как новый Нансен. У меня теперь внутри уже не потроха, но один посполитый план с полной карточкой сильных напитков. Но я не унываю. Я уже успел заметить, что у вас здесь еще теснее, чем у нас. Шутка ли сказать, когда у вас и крессы, и Лига Наций, а на каждую нару приходится десять штук полнокровных поляков. Я хоть Моисей незначительного роста, но я все- таки занимаю свои квадратные метры, а паны ротмистры все время устраивают буйные заговоры. Значит, настанет день, когда меня выпустят и я ударю с размаху в бембены. 21 Наконец Лазик попал в Варшаву. Двенадцатый ротмистр любезно сказал ему: — Скоро мы вас вышлем из Польши. Лазик вздохнул освобожденно. — Слава богу! Вы таки недаром родили Коперника! А что вы собираетесь выкинуть: обмордование пана Пилсудского или просто восстание сотни-другой виленских галичан? Впрочем, это я спрашиваю из голого любопытства. Мерси, пан ротмистр, мерси! Я вот все время сижу на занозах и думаю, что у вас здесь за удивительная свобода! Я ведь объехал уже десять тюрем, и я могу сказать, что это не страна, а детский праздник. Я понимаю, что вы пана Пилсудского зовете дедушкой. Глупое родство здесь ни при чем. У меня дядя Борис Самойлович, но куда ему до пана Пилсудского! Как у вас дышится самой полной грудью! Стоит только сказать последнему быдле не такое точное слово, как его поправляют на государственный счет. А что у вас за пышные окраины! У других на окраинах один невыметенный сор. Преступник Архип Стойкий говорил мне, что у нас на окраинах живет сумасшедшая мордва и она даже кричит по-мордовски. А у вас и в Гомеле 84 одни поляки. И все они, конечно, поют, чтобы не сгинуть. Я понимаю, что стоило, как сказал мне седьмой пан ротмистр, двести лет умирать, чтобы получить такую неслыханную свободу. Ротмистр умилился. — Это хорошо, что вы оценили нашу свободу. Польша, как и во времена великого Мицкевича, умеет завоевать даже самые черствые сердца. Теперь, через месяц- другой, мы вас вышлем. Вы очутитесь на свободе в какой-нибудь несвободной стране. Там-то вы вспомните о польской дефензиве. Вы вдохновенно скажете: «Речь Посполита не только очаг свободы, это и оплот правосудия». После столь патетической речи ротмистр в изнеможении закрыл глаза и предался приятной дремоте. Лазик не торопился возвращаться в камеру, он решил продлить беседу. Я хочу сейчас рассказать вам одну историю о мелком скоте. Хоть я и не слышу вашего благородного дыханья, пан ротмистр, я уже понимаю, что вы не пьете ни «зубровки», ни «старки», ни «чистой», ни даже «сливовицы». Вы, наверно, все думаете о какой-нибудь Лиге Наций. Так вам будет занятно послушать эту старую историю. Когда я был еще не поляком Мойсеева закона, а только обыкновенным евреем из неустановленного Гомеля, я учился в хедере, и там мне рассказали этот веселый факт. Вы, конечно, знаете об Александре Македонском. Он был самым главным маршалом. Кто-нибудь его, наверное, да родил, как вы Коперника. Так вот этот Александр Македонский ездил по всему свету, вроде меня, и он попал в гости к дикому царю. Можете себе представить разницу между Александром Македонским и каким-нибудь сплошным дикарем! На одном, наверное, был пышный мундир, вроде вашего, а на другом — хорошо если штаны из последней бумажной дряни. Александр Македонский попал прямо на суд, и дикий царь перед ним допрашивал своих дикарей. Видите ли, один дикарь купил землю у другого дикаря, он хорошенько порылся и нашел там сверточек, может быть, с английскими бумажками. Спрашивается, кому принадлежит этот сверточек: тому, кто продал землю, или тому, кто ее купил? Дикарский царь говорит: — У тебя есть, может быть, сын? — Есть. — А у тебя нет ли, кстати, дочки? — Есть. — Тогда ты женишь своего сына на его дочке, и сверток вы отдадите молодым. Александр Македонский услышал это, и он стал в изумлении пожимать плечами: что за дикарские выдумки? Они же не знают настоящего правосудия! Тогда дикарский царь спрашивает его: — А разве в твоей великой стране суд поступил бы иначе? Здесь Александр Македонский так расхохотался, что у дикарей лопнули все дикарские перепонки. Вот, кстати, я хотел бы послушать, как смеется пан Пилсудский. Это, должно быть, тоже сильная музыка. Но все-таки я думаю, Александр Македонский смеялся еще почище. А когда ему надоело смеяться, он сказал дикарскому царю: У нас? Но у нас нет таких дикарей, как, скажем, ты. У нас обоим отрубают на всякий пожарный случай головы. Может быть, они устраивали заговоры или вообще швыряли бомбы. А сверточек? Сверточек берут в государственный банк, потому что деньги всегда пригодятся, если нужно каждый день резать головы и еще содержать шикарную свиту. Ну, тогда настал черед пожимать плечами дикарскому царю. Он не умел так смеяться, как Александр Македонский: для этого нужно иметь настоящее государство, вот как у вас, с шиковпым университетом. Нет, дикарский царь только кротко спросил Александра Македонского: — Скажи, а в твоей великой стране солнце светит? — Еще бы! Когда на небе солнце, то оно светит. — А дождь в твоей великой стране идет? — Что за вопросы? Когда идет дождь, тогда он идет. — А есть в твоей великой стране мелкий скот? — Дай бог тебе столько мелкого скота, сколько в моей стране. Задумался дикарский царь, а потом говорит: — Знаешь что, Александр Македонский, если в твоей великой стране еще светит солнце и еще идет дождь, то это только ради мелкого скота. Хорошенькая история, пан ротмистр? Но почему вы так смотрите на меня? Вы же не Александр Македонский! Ой, пан ротмистр, что у вас за кулак! Это настоящая артиллерия! У вас кулак, как у пана ротмистра номер шесть. Я тоже рассказал ему один старозаконный факт, а он ответил мне кровавыми бенбенами. Еще два-три пана ротмистра, и от Ройтшванеца вообще ничего не останется — только один синяк верхом на занозах. С тринадцатым ротмистром Лазику довелось беседовать в Познани. Войдя в кабинет, он весело представился: — Я тот самый Ройтшванец. Сегодня чудесное утро! В этой тюрьме не слышно воробьев, но сегодня они, наверное, поют, как звезды в оперетке, потому что это международная весна. У нас в Гомеле сейчас тает могучий лед, Пфейфер, конечно, ругается, потому что у него дырявые галоши, а Феня Гершанович швыряет улыбки, как первая любовь, хоть рядом с ней Шацман или даже не Шацман. Что же на свете лучше такого дня!.. Я очень рад с вами познакомиться. Правда, вы не первая любовь, вы тринадцатая любовь, но это счастливое число, это чертова дюжина. — Преступный москаль, ты должен плакать, а не шутить. Только что я подписал приказ о твоей высылке, и завтра ты должен покинуть нашу прекрасную Польшу. Здесь с Лазиком случилось нечто невообразимое: от радости он совсем потерял голову. Он прыгал из угла в угол, жужжал, как шмель, бил себя по злосчастным местам ладошами; наконец, вспомнив уроки киевского паразита, он стал танцевать перед растерянным ротмистром настоящий фокстрот. 85 — Ты взбесился?.. Но Лазик не мог вымолвить ни одного слова. Он только продолжал издавать трубные звуки. Тогда, всполошившись, ротмистр вызвал врача: — С арестованным от душевного потрясения сделались страшные судороги. Это может быть пляска святого Витта или апоплексический удар? Как тяжело глядеть на страдания человека, будь то даже большевистский злодей! И добрый ротмистр, вынув большой фуляр, трагически высморкался. Доктор осмотрел Лазика. — Покажите язык. Говорите «тридцать три». Дышите. Не дышите. Я думаю, пан ротмистр, что это не так опасно. Я пропишу ему касторки и шестимесячный курс водолечения. Услыхав это, Лазик мигом присмирел. — Я выпью хоть бочку касторки, пан доктор, но разрешите мне лечиться где-нибудь за границей. Честное слово, я найду воду и в другой стране, это же не такая редкость. Ротмистр не выдержал: он заплакал. — Как это ужасно! Он мог бы еще шесть месяцев провести в польской тюрьме, и вот он должен завтра уехать. Сколько на свете горя! Я гляжу на него, и мое сердце рвется на части. Дайте ему, пан доктор, хотя бы касторки, чтобы он не умер в пути от разрыва сердца. Почему ты не плачешь, разбойник? Облегчи себя слезами. Подумай, завтра взойдет солнце, на улицах будут гулять прекрасные панны, в графинчиках будет играть всеми цветами радуги наша знатная «перлувка», даже за тюремной решеткой будет журчать певучая речь, а тебя в это время повезут куда- нибудь в угрюмые страны... Лазик забеспокоился. — Что вы называете «угрюмыми странами»? Северный полюс? Или Румынию? — Тебя вышлют на ближайшую границу. Пей касторку! Молись богу! Рыдай! Завтра утром... — Утром... Лазик опять издал неподобающий звук. — С тобой начинается снова припадок? — Да нет же, пан ротмистр. Как говорил ваш самый первый родоначальник, я только дуючв тромбу. Будь у меня монета, я бы выставил вам на радостях бутылку этой знатной «перлувки». — Безумец! О какой радости ты говоришь? Если бы у меня было черствое сердце, я бы радовался: вот еще один азиат покидает нашу святую землю! Вот мы вытряхиваем прочь еще одного большевика, татарина, москаля, насильника, палача, варвара! Не забывай, что вы сморкались двумя пальцами, когда у нас жил Сенкевич. Да, я бы мог радоваться. Но ты должен бить себя горестно в грудь. Или ты сумасшедший, и тогда мне придется подвергнуть тебя медицинской экспертизе. Нет, не подвергайте! Лучше я выпью касторки. Я ударю себя в грудь. Я бы вам объяснил, почему я дую, я только боюсь, не занимаетесь ли вы по утрам гимнастикой. Нет? Вы по утрам пишете доклады? Вот и чудесно. Тогда я расскажу вам, в чем дело. Когда я связываю пожитки, у меня моментально развязывается язык. Начнем с фараона. Это был один высокий чин, который сидел наверху, а внизу евреи строили пирамиды. Он щелкал бичом, а они должны были строить. Скажем, что они были Мойсеями фараонова закона, хотя Мойсея тогда не было, и когда Мойсей оказался, они решили: сколько же можно строить, ну, десять пирамид, хватит, и они ушли пешком из Египта. Здесь началась дискуссия. Одни говорили, что евреи радовались, удрав из Египта, хоть им и пришлось кушать какие-то мелочи с неба, а другие уверяли, что радовался фараон, потому что с евреями, как вы сами знаете, уйма хлопот, надо их громить, или вешать, или бесплатно кормить в тюрьме певучими разговорами. Вот тогда-то нашелся умник, который сразу осветил момент. Он так сказал: «Когда едет тучный человек на маленьком ослике, ему неудобно и ослу неудобно, а когда они приезжают, то оба рады. Но вот вопрос: кто больше радуется, всадник или осел...» Значит, мы можем оба радоваться. Вы спрячьте ваш плачевный платок и перестаньте сморкаться, как Сенкевич. Танцуйте лучше фокстрот. Ведь это радость — избавиться от подобного Ройтшванеца! Но что касается меня, я все-таки думаю, что еще больше радовался осел... На этом кончилась беседа между Лазиком и познанским офицером. Я не стану описывать последующего. Достаточно сказать, что тринадцатый ротмистр подвел Лазика: по утрам он не только писал доклады. 23 Сначала Лазик обрадовался: ему показалось, что все кругом говорят на еврейском языке, только слегка испорченном. Он даже шепнул в восторге начальнику станции: «Вус махт а ид?» — но тот так мрачно гаркнул, что Лазик поспешил скрыться. Внимательно всматриваясь в лица, он бродил по местечку: — Наверное, здесь живет какой-нибудь Мойсей немецкого закона. Действительно, вскоре он увидел недвусмысленный нос. Радостно подбежал он к его владельцу. — Я таки нашел вас! Здравствуйте, здравствуйте, как вы здесь живете, и да пошлет вам бог все двенадцать сыновей, чтобы было кому сказать хорошенький «кадиш» на вашей близкой могиле! Вы, конечно, должны помочь мне, потому что вы еврей и я еврей. И до свидания в будущем году в Иерусалиме. Мне нужно несколько плевых марок, чтобы доехать до Берлина и, понятное дело, закусить. В Польше я успел проголодаться. Подумайте, у вас, наверное, были родители, и их, наверное, уже нет. Я буду всю жизнь за них молиться. Но если вам мало моих набожных слез, я могу вам сшить, например, галифе защитного цвета. Я могу даже... Господин Розенблюм строго оборвал Лазика: Я вас понимаю только потому, что живу недалеко от границы. Однако я не иудей, я настоящий немец. Конечно, я исповедую мозаизм, но это мое частное дело. Для заупокойных молитв я уже нанял одного 86 человека, и я не так богат, чтобы за моих дорогих родителей молились двое. Я не ношу никаких галифе. Меня одевает портной Шпигель, который одевает также всех господ советников коммерции и даже господина фон Кринкенбайэра. Но если вы укоротите мое зимнее пальто, перелицуете костюм, выгладите весь гардероб и почините детские костюмчики, я дам вам пять марок, хоть вы восточный иудей, полный холеры, тифа и большевизма, я дам вам пять марок, потому что вы тоже исповедуете мозаизм. — Вот мы и спелись! Я так кладу заплаты, что люди видят за сто верст, и они кричат от восторга. А что касается родителей, то для такого коммерческого советника одного молельщика мало — надо двоих. Ведь я могу биться о заклад, что их было двое — ваших родителей, а не один. Я, например, выберу вашу безусловную маму. Одним словом, мы поймем друг друга. Главное, что вы частный мозаист, а остальное ерунда, это детский костюмчик... Важен почин: Лазик прожил в местечке десять дней, перелицовывая, латая, укорачивая. Он прямо заходил во двор. — Ах, вы тоже исповедуете?.. Что же вам такое укоротить? Наконец все брюки были укорочены и залатаны. Лазик кое-как добрался до Кенигсберга. Увидев памятник Канту, он загрустил. — Гомельское счастье! Что мне делать с ним? Не укорачивать же. А найди я его тогда в клубе «Харчсмака»! Как бы обрадовался товарищ Серебряков, если б я сразу изъял такую каменную осетрину. Впрочем, о чем теперь говорить? Я должен либо закусить какой-нибудь крошкой хлеба, либо немедленно умереть. Он остановился у витрины колбасной и, захлебываясь слюной, прошептал: — Какая красота! Какая кисть! Но хозяин прогнал его. — Не занимайте места! Здесь покупательницы привязывают такс. Он хотел перейти на другую сторону улицы, но полицейский строго прикрикнул на него: — Вас мог раздавить автомобиль. Сегодня здесь нет автомобиля, но вчера вечером проехало два. Вы не имеете права рисковать вашей жизнью. Он присел на скамейку парка, но тотчас же вырос из- под земли неутомимый сторож. — Это только для кормилиц и для слепых или полуслепых солдат. Тогда Лазик уныло вздохнул. — Я, кажется, схожу с ума. — По средам и пятницам с девяти сорок пять до десяти тридцать бесплатные консультации в городской лечебнице. Он разыскал в толпе носатого господина. — Остановитесь с вашим мозаизмом! Я тоже, и я еще ничего не ел! Носатый оттолкнул Лазика. — Синагога помещается на Викториаштрассе, семнадцать, а торговля кошерным мясом на Шиллерштрассе, одиннадцать; нищенствовать запрещено постановлением полицей-президиума от шестого июня тысяча восемьсот восемьдесят девятого года. Лазик крикнул: — Я хочу сейчас же лечь в готовую могилу!.. Тогда из толпы вынырнул какой-то субъект и, протянув ему карточку, быстро проговорил: — Продажа кладбищенских участков всех исповеданий с серьезной рассрочкой. Наконец Лазик свалился без чувств на мостовую. Над ним наклонился высокий мужчина с мутными опаловыми глазами и коротко остриженными усиками: — Эй, вы, упавший... В чем дело?.. Вы задерживаете движение. Вы акробат или у вас эпилепсия? Не получив ответа, он пихнул ногой Лазика. Тогда раздался слабый писк: — При чем тут акробаты? У меня только сильный аппетит после певучей речи. Будь у меня деньги на серьезную рассрочку, я сейчас же лег бы в загробный участок. Высокий мужчина внимательно оглядел Лазика. — Лежать на тротуаре запрещено. Вот вам десять пфеннигов. Зайдите в ту булочную и купите хлебец. Вы съедите его потом на темной улице. Я жду вас у остановки трамвая. Здесь стоять нельзя — это задерживает движение. Живее!.. Последнее было излишним — несмотря на слабость, Лазик рысью помчался в булочную. — Где же хлеб? В кармане? — Увы, нет! В кармане только дырка. А хлеб по соседству — уже внутри. Беспорядок. Десять пфеннигов — мои. Вы обязаны меня слушаться. У меня— серьезные планы. Я могу обеспечить ваше будущее. Что вы умеете делать? — Все, что хотите. Я кладу, например, такие заплаты, что их нельзя ни с чем спутать. Когда я в Гомеле залатал брюки Соловейчика, все узнавали его только по моей работе. Он еще шел по базарной площади, а уже возле вокзала кричали: «Идет заплатка Ройтшванеца!» — Лишено смысла. Должны быть незаметны. В Кенигсберге шесть фирм. Больше вы ничего не умеете делать? — То есть как это «ничего»? Я же сказал вам, что я все умею, я умею даже размножать мертвых кроликов. — Лишено вдвойне. Кроликов здесь не едят. Свинину и телятину. Из дичи, например, заяц или коза. Булочка была крохотной, Лазик завопил: 87 — Остановитесь, как будто вы задерживаете движение! Если вы размножаете зайцев, я тоже могу, только дайте мне вперед какой-нибудь хвостик или крылышко козы. — Ошибка. Не размножаю. У меня лучший аптекарский магазин города Кенигсберга и всей Восточной Пруссии. Поставщик бывшего его высочества. Подберите при имени живот! Я обслуживаю достойные семьи. Меня вы можете называть просто «господин доктор Дрекенкопф». С размножением здесь вам нечего делать. Размножаем только немцев. Будущих солдат бывшего его высочества. Демократы и прочие изменники по два на чету. Национально мыслящие по шесть или по восемь. Бывает двенадцать — медаль. Я, увы, воздерживаюсь. Как патриот — хочу, как владелец аптекарского магазина — связан духовными обязанностям. Я ведь должен живым примером рекламировать мой товар. Итак, вы ничего не умеете делать. Кто же вы такой? — Я — ученый секретарь. — Ученый? Химия? Газы? Анилин? Инженер? Дороги? Мосты? Архитектор? Железобетон? Клозеты? — Нет, я ученый с другой стороны. Я, видите ли, немного спец насчет могучего языка. — Филолог? Наверное, санскрит? Лишено втройне. Знаете малайский? Ацтекский? Залусский? Тогда поезжайте в Гамбург. Предстоит торговля. Еще пять лет — у нас будут колонии... Не думайте, господин доктор Дрекенкопф, что в этой булочной мне дали, скажем, свиной окорок. Это был хлебец не больше ваших наследственных часиков. Я даже не успел его хорошенько обнюхать. А после такой голодной предпосылки вы говорите «ацтек». Это же полное истязание! Ну, откуда я могу знать какой-то малайский язык, когда я сам из Гомеля? Языки? Я знаю кучу языков. Я знаю, например, как евреи говорят в Гомеле, как они говорят в Глухове и как они говорят в самой Москве. Это, правда, не санскрит, но это три могучих наречья в одном союзе. Потом я знаю польский язык. «Пане Дрекенкопф, вы таки бардзое быдло». Это ведь не язык, это сплошная певучесть! Я знаю, наконец, немецкий язык, и если я сейчас говорю не так, как вы, или как он, или как господин Гинденбург, то только потому, что я с детства был неслыханным оригиналом. Но разве это не замечательно звучит: «Господин доктор, ир зонд а замечательный хохем»? Кажется, сам господин Гинденбург не сказал бы лучше. Господин Дрекенкопф молчал. Его лицо выражало душевную борьбу: опаловые глаза отливали радугой, а усики судорожно подпрыгивали. После долгой паузы он заговорил: — Раздвоение личности. Интересно для чистого разума. Не кольдкрем, но психоанализ. Развивая коммерцию, я тоже служу отечеству. Его высочество поняло бы. Оно ведь покупало свечки в задний проход и ревень. Подберите, кстати, живот! Вы— еврей. Следовательно, вас надо прогнать. Сообщить в полицей-президиум. Настаивать на высылке. Вы предали бело-красно-черный ради желто-красно-черного. Это неслыханно! Это потоп! Это покушение на нашу расу! Вы, наверное, родственник Вирта, Вильсона, Гейне. Кузен. Отобрать у вас десять пфеннигов. Дать лучшее рвотное из моего магазина. Дело нескольких минут. Стоп! Куда вы бежите! Я еще ничего не даю вам. Я только размышляю вслух. Как Кант. Как его высочество. Подберите!.. Это одна половина. Другая: у меня имеется план. Вы — находка. Во всем Кенигсберге нет такого выродка. Вы весите, наверное, сорок килограммов. Не больше. Дегенеративный рост. Метр триддать. Не больше. Можете сойти за восьмилетнего ребенка. Преждевременная старость. Вы же уникум! Я колеблюсь. Моя душа рвется на две части. Лазик трусил рядом и дрожал: какой же он страшный, этот доктор! Если он даже даст заячий хвостик, этим еще не все сказано, когда он только что хотел взять назад несчастную булку. Откуда я знаю Вирта? И если у него рвется душа — пусть, только чтоб он меня не рвал!.. — Решено. Я прощаю вам ваше проклятое происхождение. Я беру вас. Двадцать марок в неделю. Деньги вкладываю еженедельно в банк на ваше имя. Контракт на один месяц. По истечении этого срока банк выдает вам всю сумму. Питаться вы будете у меня. Предупреждаю — строгая диета. В день один сухарь, два стакана молока. Необходимо предотвратить увеличение в весе. Вы должны сохранить в глазах томность. Изредка падать без чувств. Зато через месяц вы получите восемьдесят марок. Вы сможете съесть хоть сотню свиных котлет. С капустой или с картошкой. Или даже с яйцом. В сухарях... Вкусно? Согласны? Тогда Лазик проговорил, нет, он прорычал: — Но ведь это в сухарях через месяц!.. — Если мы подпишем контракт, я разрешу вам на сегодня отступление от диеты. Вы получите кусок колбасы и яблочное пюре. — Хорошо. Я уже подписываю. Зачем моей душе вперед рваться на части? Я ведь все равно хотел лечь в рассрочку. Конечно, с одним сухариком я обязательно лягу, но пока что я съем кусок колбасы и это нечто из яблок. Скажите мне только, господин доктор Дрекенкопф, от какой болезни вы хотите меня лечить и что это у вас за сострадательные привычки? Лечить? Не собираюсь. Я—доктор философии. Я развиваю коммерцию. Германия — первая страна в Европе. Но она отстала от Америки. Мы должны совершенствоваться. Развитие воли и разума. Основной двигатель торговли — реклама. К сожалению, не применяется в аптекарских магазинах. Кант написал о чистом разуме. Его высочество огласило письмо к инвалидам. Я скажу: пузырь для льда, клистирная кружка, даже скромный горчичник ничуть не хуже мельхиоровых подносов или самопишущих перьев. Это вещи в себе. Их можно возвысить до абсолюта. Необходима только реклама. Весной я рекламировал клизмы. Я выставил груду камней: пища. Точная таблица: мясо — столько-то, хлеб— столько- то. Мы глотаем камни. Люди ленятся, боги ленятся, ленятся кишки. Да здравствует промывание! Электрические лампочки освещали весь путь от глотки до прохода. По стеклянным трубочкам струилась вода. Все, что задерживает движение, должно быть устранено. Громкоговоритель ревел: «Я промываю, ты промываешь, его высочество промывает». Ну, живо подберите!.. Теперь я хочу рекламировать рыбий жир. Вы ребенок, которому давали подделки. Вилли употреблял только исландский жир моей марки. Кроме того, ввиду больших затрат я присоединяю рекламу 88 некоторых изделий. Деликатно, чтобы не смутить почтенных матерей. Герметическая упаковка. Первый в Восточной Пруссии. Опередил Америку. Мы, немцы, не останавливаемся на полпути. Разум так разум. Багдад так Багдад. Америка так Америка. Главное — осветить духом. Вода бежит по трубочкам. В герметической никогда не рвутся. Звезды на небе радуют. Жир из лучшей трески... Лазик не слушал господина доктора. Зачем его слушать, когда это, наверное, полный санскрит? Вот что он понимает под «кусочком колбасы»? Ломтик или четверть фунта?.. Немец провел Лазика в столовую. Там находились белобрысая рыхлая женщина лет сорока с печальным взглядом мертвой трески и чрезвычайно упитанный детина в коротких штанишках и в детской матроске. Господин Дрекенкопф обратился к супруге: — Это мой новый пациент. На строгой диете. Один сухарь, четверть литра молока. Иногда— падать без чувств. Сегодня — отступление. Ты дашь ему кусочек колбасы и яблочное пюре, два сухаря. Спать не больше шести часов. Понятно? Теперь гербовую бумагу. Мы подпишем контракт. Рука Лазика дрожала. Еле-еле он вывел «Ройтшванец» и рядом поставил маленький крест, объяснив недоумевающему доктору: — Коротенький символ, хоть я и исповедую мозаизм, ведь скоро я лягу в рассрочку. Прежде чем проглотить крохотный ломтик колбасы, Лазик старательно его обнюхал. Госпожа Дрекенкопф обиделась: — У нас все продукты свежие. Господин Дрекенкопф прибавил: — Самые свежие в Восточной Пруссии. Но Лазик виновато пояснил: — Я нюхаю его только на память, чтобы не забыть, как это может раздирающе пахнуть, когда я буду есть один самый свежий сухарь. Настоящее испытание началось, однако, когда служанка принесла ужин толстому детине. Хозяин пояснил Лазику: — Это — Вилли. Редкая находка. Двадцать семь лет. Лицо ребенка. Вес девяносто два килограмма. Рост один метр восемьдесят один. Видите — цвет лица? Треска из Исландии. Четыре марки девяносто пять литр. Вилли подали большущий хлеб, солонину с картошкой, манные клецки с жареным салом, свиные котлеты с фасолью и, наконец, рисовый пудинг. Он пил пиво кружку за кружкой и тяжело дышал. Потом он даже стал хрипеть. Он попробовал было оставить на тарелке одну клецку, прикрыл ее ложкой, но господин Дрекенкопф сурово сказал: — Вилли!.. — Я больше не могу. Я лопну. Вам же будет хуже: я разобью стекло. — Вилли!.. Тогда Лазик попробовал вмешаться: — Господин доктор, может быть, я съем эту клецку? Я ведь, наверное, не лопну. Но хозяин не удостоил его ответом. Он только взглянул, так взглянул, что Лазик тотчас же опустил глаза. На следующее утро возле аптекарского магазина господина Дрекенкопфа толпились прохожие. В витрине сидели два мальчика. Один, розовый и огромный, блаженно улыбался. На его груди значилось: «Меня поили настоящим рыбьим жиром из печени исландской трески. Продается только здесь. 4.95 литр». Другой мальчик уныло вздыхал. Зеваки дивились. — Можно подумать, что ему сорок лет. — Откуда они такого урода выкопали?.. — Может быть, это карлик?.. — Какой же карлик! Поглядите, он со слюнявкой. И написано: «Мне одиннадцать лет». Это просто отсталый ребенок. Кроме справки о возрасте надпись гласила: «Меня поили поддельным рыбьим жиром. У меня рахит, малокровие, белокровие, паралич, истерия и семнадцать других болезней. Предохраните ваших детей от моей ужасной судьбы! Если вы вовсе не хотите иметь детей, вроде меня приобретите «Нимальс», абсолютная гарантия. 1.90 пакет». Господин Дрекенкопф сквозь щелку наблюдал за поведением экспонатов. Время от времени он шептал: — Вилли, улыбайтесь! Пошлите воздушный поцелуй даме! Поднимите гирю! Пойте от счастья! — Еврей, стоните! Бейте себя в грудь! Рвите волосы! Постарайтесь упасть без чувств! Мальчики тихонько беседовали. Оказывается, краснощекий Вилли не так-то был счастлив. — Этот мясник мучает меня уже третью неделю. Я не могу столько жрать. Я лопну, видит бог — я лопну. Он запретил мне ходить. Хуже того, я живу как монах. Ему хорошо — он сумасшедший, это все знают. Он может жить с ночными туфлями. А у меня все внутри чешется. Еще — улыбаться даме! Я вот разобью стекло и как прыгну на нее... Но Лазику трудно было понять своего товарища: — Зачем вам прыгать, когда вам через час дадут снова десять клецок? А мне — полсухаря. Эти болваны, может быть, думают, что я в Гомеле пил какие-то дурацкие подделки? Я сейчас расскажу вам, что я ел на свадьбе у Дравкина. Я сшил Дравкину позапрошлый сюртук, и он так растрогался, что сразу сказал мне: «Ройтшванец, приходи на мою роскошную свадьбу!» И я пришел. И я ел. Я ел, например, рубленую печенку с яйцами. Это раз. Я ел гусиные шейки с гречневой кашей. Это два. Я ел шкварки, и я ел кнедлах, и я ел студень. Это уже, кажется, пять. Но зачем глупый счет? Я ел сто блюд. Какая курица! Но я же идиот, я забыл о фаршированной рыбе! Она была с 89 красным хреном, потом — «кугель» с изюмом, «цимес» с черносливом и редька с имбирем. Но зачем забегать вперед? Можно еще поговорить о тех же шейках. Они были так хорошо поджарены, что корочка хрустела на весь Гомель, а фарш сделали с луком и с грибами... Здесь раздался зловещий шепот господина Дрекен копфа: — Еврей, сейчас же перестаньте улыбаться! Какая наглость! Думайте о чем-нибудь высоком! Например, вы — в рассеянии. — Хорошо, господин доктор, я уже думаю: «Несчастный Ройтшванец, ты в рассеянии. О шейках не может быть речи, а через час тебе дадут половину незаметного сухаря». Вы видите — я вздыхаю. Я плачу. Я опускаюсь в вашу Исландию. Я, кажется, сноса падаю без всяких чувств... 24 В последующем виноват сам господин Дрекенкопф. Нельзя даже в Кенигсберге жить только звездами и чистым разумом. Будучи, как известно, патриотом, он произвел сына и дочь, но на этом остановился, заявив озадаченной супруге: — Здесь начинается аптекарский магазин. Госпожа Дрекенкопф осталась с вареным картофелем и с ненужной негой в тусклых очах. Господину доктору было не до нее. Он двигал вперед коммерцию. Он размышлял об абсолюте. По воскресеньям совместно с единомышленниками исполнял он на тромбоне патриотические марши. Он исправлял на школьной карте границы Германии. Он чистил мелом каску. Он пил пиво. Он душил во сне колониальных наложниц. Словом, у него было немало государственных дел. Кроме того, он знал и невинные развлечения. Раз в неделю он двоился. Почтенный господин доктор оставался на вывеске аптекарского магазина и в сознании всех уважаемых клиентов. Тело же уходило на Кайзерштрассе в дом номер шесть. Там жесткие усики экстатически топорщились. Вилли не соврал: господин доктор Дрекенкопф любил исключительно обувь. В доме номер шесть на Кайзерштрассе он кусал по вечерам старую туфлю, восклицая: — Я грызу тебя, вечная Гретхен!.. Ура! Все это, конечно, было в порядке вещей и никого не касалось, кроме разве госпожи Дрекенкопф. От картофеля она с каждым годом тучнела, но где-то под жирами билось ретивое сердце. Узнав о тайной страсти супруга, она попробовала надеть на голову вместо ночного чепца туфлю. Но не так-то легко было провести господина доктора!.. Госпожа Дрекенкопф отнюдь не отличалась легкомыслием. Как-то Вилли, доведенный до отчаяния хорошенькими покупательницами, толпившимися у витрины, попробовал было прикоснуться к многолетним жирам! Но госпожа Дрекенкопф строго осадила его: — Вилли, без глупостей! Кончайте ваши клецки. Я вижу, что вы там спрятали три штуки. Я расскажу господину доктору. Вилли раздражал госпожу Дрекенкопф. Он сопел, как боров, а госпожа Дрекенкопф мечтала о бледном юноше с пылкими очами. Однажды вечером она осталась с Лазиком. Господин Дрекенкопф жевал на Кайзерштрассе туфли, а Вилли спал, покорно переваривая груду клецок. Лазик взглянул на нее, и она обомлела. Какой огонь! Какая страсть! Очарованная, она пролепетала: — Вы похожи на Лоэнгрина... Когда так хотят, можно ли отказать? Обнадеженный Лазик упал на колени и зарыдал: — Один раз! Только один раз! Он не узнает. Мы назовем это выдуманным сном. Дайте же мне две или три клецки! Жиры госпожи Дрекенкопф мощно бились о дверцы буфета, как бьются волны океана о скалы. Она дала Лазику не три, а четыре клецки. Пусть гибнет добродетель и даже рыбий жир из лучшей в Восточной Пруссии трески!.. Она вытащила из вышитого бисером футляра ночной чепчик. — Потеряйся в моей любви!.. Лазик вспомнил: еще в хедере его учили, что хлеб надо добывать в поте лица, тем паче это относится к таким первосортным клецкам. Четверть часа спустя он решился заговорить: — Вы видите — я потерялся, и я уже нашелся. Я весь в поте моего лица, и я умоляю вас, дайте мне скорее, например, свиную котлету с бобами! Я слышал, как они не-слыханно пахли, когда их лопал этот толстый дурак. Лазик быстро проглотил большущую котлету. — Еще! — вздохнул он, думая о рисовом пудинге. — Еще! — вздохнула госпожа Дрекенкопф, думая совсем о другом. Однако они поняли друг друга. Вилли угрюмо храпел. Где-то на Кайзерштрассе господин доктор топтал в избытке чувств послушную туфлю, а счастливые любовники нежно ворковали. — Ты такой маленький, что я боюсь — ты можешь потеряться, как булавка... — Не бойся, я не потеряюсь. Меня сразу все замечают. Стоило мне переступить через порог великой Польши, как меня сразу все заметили. Но я хочу спросить тебя о другом. Господин доктор говорил мне о какой- то козлиной дичи. Может быть, завтра ты приготовишь мне эту нежную шейку с капустой? Дня три спустя господин Дрекенкопф заметил перемену. Щеки Лазика покрылись легким румянцем. Он перестал стонать. Он даже нагло насвистывал Левкину песенку «Хотите вы бананы» и, улыбаясь, сам себе отвечал: «Еще бы, хочу с капустой». Словом, он вел себя так, как будто он пил всю жизнь прославленный рыбий жир по 4.95 за литр. 90 — Еврей, вы сошли с ума! Почему вы улыбаетесь? Как вы смеете нахально розоветь? — Это, вероятно, от вашей промывательной диеты, господин доктор Дрекенкопф. Я ведь питаюсь замечательным воздухом, лучшим в Восточной Пруссии. Почему я розовею? Это перед смертью. Так ведь розовеет небо на закате в Гомеле или даже в вашей Исландии. Потом вы на меня надели детскую курточку и обрезали меня ровно на двадцать один год, а мой прогрессивный организм, наверное, пошел вперед, и мне теперь уже не одиннадцать лет, а всего-навсего одиннадцать месяцев. Я нежно-розовый, как дитя в колыбельке, и я пою, и я свищу, хотя у вас гербовая бумажка, потому что я или солнце накануне самой смерти, или новорожденный факт. Ко всему Вилли заболел несварением желудка. Он сидел в витрине, мрачно подсапывая, и прохожие говорили: — Кажется, тот маленький здоровей. Рост — это пустяки. А вы поглядите на его щечки... Вот вам и рыбий жир... Господин Дрекенкопф хватался за голову: — Гибнет гениальный план. Его высочество потеряло все. Восточная Пруссия теряет лучшую аптекарскую фирму. Унынье настолько охватило его, что, направившись вечером на Кайзерштрассе, он вдруг повернул домой: — Мне теперь не до страсти. В крайнем случае погрызу туфлю жены. Увидев возле ночного чепца супруги наивные штанишки одиннадцатилетнего мальчика, господин доктор отчаянно завопил: — Где вы? Лазик плохо соображал, в чем дело, — он успел съесть две гусиные печенки и большой картофельный пирог. Он запищал: — Я здесь! Вы не бойтесь — я не булавка, и я не потеряюсь. Пока разъяренный господин Дрекенкопф тряс его за шиворот, он спокойно бормотал: — Почему вы так волнуетесь? Я вовсе не собираюсь на ней жениться. Достаточно с меня московского опыта. Я у вас не отберу вашу жилплощадь. И размножать немцев я тоже не хочу. Ваш магазин ведь первый в Восточной Пруссии, и вы можете на этот счет совсем успокоиться. Перестаньте меня трясти — вы же не посполитый ротмистер! У вас чистый разум, так подумайте две минуты. Я же ничего не сделал плохого, когда я исповедую мозаизм, и там прямо сказано, что необходим пот своего лица. Неужели вы думали, что я могу жить одним моментальным сухариком? Господин Дрекенкопф в бешенстве рычал: — Посмотрим, разбойник!.. Я тебя в тюрьму посажу! Я сейчас же отведу тебя в полицей-президиум! Вор! Большевик! Тебе покажут там, что значит касаться супруги господина доктора Дрекенкопфа. Воспользовавшись тем, что господин Дрекенкопф забыл прикрыть дверь, Лазик выбежал на улицу. Он добежал до первого перекрестка и осторожно, не нарушая правил о переходе улиц пешеходами, приблизился к полицейскому. — Скажите мне, господин доктор полицейской философии, как вы думаете, если я сейчас пойду в тюрьму, меня посадят или нет? Ведь я таки ее коснулся, и она лучшая в Восточной Пруссии. Полицейский добросовестно задумался. — Этого я не знаю. Наверное, с вас потребуют три фотографические карточки и свидетельство о прививке оспы. Тогда Лазик тягостно вздохнул. Ну что же, в таком случае мне остается только одно. Вы видите, господин полицейский доктор, я уже лежу без чувств, и я затрудняю великое движение, так что скорее ведите меня туда, и без всяких фотографических прививок! 25 Счастье улыбнулось Лазику. Он не только добрался до Берлина, он нашел там нового покровителя. Выручил его опять-таки рост. Судьба как бы хотела загладить обиды, нанесенные низкорослому влюбленному и Фенечкой Гершанович и товарищем Нюсей. Лазик, пожалуй, мог бы попасть в сердечную оранжерею какой-нибудь новой госпожи Дрекенкопф, вроде карликового кактуса, тем паче что в тот год мода была на крохотные зонтики и на коротконогих собачек из породы скотчтерьеров, но новые горизонты открылись перед ним. Его подобрал свободный художник Альфред Кюммель, режиссер крупной кинофабрики. — Какая находка! Сразу чувствуется, что вы русский и что вы большевик. Вы вели за собой орды. Эта таинственность взгляда... Скрип телег среди степей... Монгольский профиль. Мановение руки атамана. Фотогеничность ресниц. Вы получите пять тысяч марок. Вы будете играть главную роль в моей новой картине «Песня пулеметов и губ». Лазикоробел. Господин художественный доктор, хотя пять тысяч марок — это столько, что это, наверное, даже не бывает, как, например, орхидеи, но я все-таки еще не тороплюсь прыгнуть вам на шею моими мановениями монгольского атамана. Во-первых, вы говорите, что я большевик, хотя я с вами совсем не знаком, чтобы доходить до таких семейных подробностей. Правда, в Гомеле Левка всегда кричал «Я закоренелый большевик», чтоб его пропустили на музыкальные гулянья, но ведь вы, кажется, не из Гомеля, а наоборот, и чтоб человека постоянно колотили — на это не пойдет даже пропавший Ройтшванец. Значит, оставим такие слова до какой-нибудь интимной конференции. Играть я, конечно, могу, я уже играл в одной официальной трагедии роль герцога с грызущими зубами и с классовым гнетом. Но вот название вашей картины мне совсем не нравится. Против губ я не возражаю. Это случается со всяким, и если даже Феня Гершанович вздумает 91 клеветать, то я могу взять настоящий аттестат зрелости у госпожи Дрекенкопф. Но вы ведь хотите припутать к вашей песенке пулеметы. Так подобных мотивов я вообще не люблю как законченный враг нахального империализма. Восемь раз меня пробовали призывать, и восемь раз я выходил из комиссии в своих собственных брюках. Я болел сердцем, и печенкой, и пупком, и чем только я не болел. Я не успевал кроить для этих докторских художников бесплатные френчи. Один раз мне даже вырезали за галифе из моего материала кусочек совсем здоровой кишки, только чтоб я не побежал умирать ради случайного гетмана. Скажите сами — стоило ли мне лечь под животрепещущий нож, чтобы потом приехать в Берлин и умереть от вашего пулеметного сочинения?.. Очарованный режиссер бормотал: — Какой восточный огонь! Крохотный человечек, живой дух в немощном теле зажигает океан, он ведет за собой толпы матросов и кочевников... Нет, дорогой мой, я вас не отпущу! Эй, шофер! Прямо на фабрику. Альфред Кюммель показал Лазику огромные мастерские. — Видите, все готово для съемок. Я искал только вас. Вы будете играть роль «духа степей Саши Цемальонкова». Мы затратили колоссальные суммы. Здесь — пулеметы. Куда вы? Нет, нет, я вас не пущу! Вот ваша партнерша— «душа Лорелеи». Знаменитая актриса. Познакомьтесь. Завтра сюда придут казаки. Вы опять убегаете? Швейцар, верните его! Съемка тридцать восьмой сцены: вы целуете «душу Лорелеи» среди бешеной джигитовки четырех эскадронов. Вы понимаете — это не просто картина, это мировой боевик. Поглядите: вот в том углу Красная площадь. Умилитесь — вы снова в родной Москве. Лазик не часто бывал на Красной площади, побаиваясь, как бы стоявший возле Мавзолея часовой не выстрелил; он всегда избегал проходить мимо постов — «Что ему стоит случайно зацепить какой- нибудь крючочек, и тогда пуля очутится у меня в животе», но все же он видел Красную площадь. Он деликатно заметил: — По-моему, это скорее похоже на полное наоборот, и если положить возле того купола ночной чепчик, получится аптекарский магазин, как две капли воды. Режиссер дружески улыбнулся. — Я вас понимаю. Вы хотите сказать, что не хватает воздуха, атмосферы? Но вы увидите, как изменится эта декорация, когда вы будете здесь носиться на бешеном арабском скакуне. — До свиданья, господин свободный доктор! Спокойной ночи! Я уже несусь куда-нибудь подальше. Достаньте себе араба, чтоб он скакал на этом бешенстве, но я еще дорожу своей предпоследней жизнью. — Постойте! Я же сказал вам, что я вас не отпущу. Вы хотите, чтобы мы вас застраховали? Хорошо, мы пойдем и на это. Во сколько вы себя оцениваете? — При чем тут страховка? Что я — несгораемый дом, чтобы сам себя поджечь? Может быть, я стою всего десять пфеннигов, и то это вопрос, потому что мне не на что больше класть заплаты. Но если я умру и мне выдадут сто тысяч, то это же загробное надувательство! Как будто я смогу приятно плакать над своим шикарным памятником? — Вы не умрете. Вы не подвергнетесь никакой опасности. Страховку я предложил только ввиду вашей нервности. Конечно, при съемках необходимо несколько несчастных случаев. Мы перегнали Америку, мы не останавливаемся ни перед чем. Это самая смелая реклама. Но мы удовлетворимся двумя-тремя фигурантами. Вас мы будем оберегать, как избалованную «звезду». Итак, завтра с утра мы приступаем к работе. Сейчас я ознакомлю вас с содержанием картины. Степь. Кричат вороны. Проходят облака. Народ угнетен. Монах Распутин беспечно танцует фокстрот с придворной фрейлиной. У кочевников отбирают землю. Они вздыхают вокруг костров и кочуют. Грандиозный кадр! Матросы тоже вздыхают. Да, я забыл вам сказать, что показывается эскадра. Матросы бунтуют. Они хотят чистую воду, хрустальную воду, а им дают поддельный квас. Один матрос умирает на борту из-за боли за свой народ. Тогда выбегают кочевники и скрипят. Фрейлина бьет рабов шпорами. Облака собираются в тучи. Быстрый монтаж. Туча, шпора, слеза кочевника. Гроза. Из кургана выползаете вы, то есть «дух степей». Крохотный и могучий. Вы берете икону и подымаете матросов. Все обвязывают себя пулеметными лентами. Дворец горит. Это самая дорогая сцена. Девятьсот фигурантов. Конец первой части. Вторая. Течет Рейн. Виноградники. Замки. Дочь лесничего — «душа Лорелеи». Она кормит замерзающих зябликов и разучивает песни с бедными детьми. Ее никто не понимает. Рейн течет. Она чувствует призвание. Она на горе. Ее белое платье отделяется от тумана. Двойная съемка. Она бредет на восток. Вы носитесь по площади. Вы носитесь по России. Вы носитесь по Европе. Вы носитесь по всему свету. Не перебивайте меня! Тучи закрывают все небо. Матросы стали кочевниками. В кабаре «Аль- казар» дамы беспечно танцуют фокстрот. Ноги дам. Кочевники плывут. Матросы джигитуют. Европа накануне гибели. Тогда ваша встреча с «душой Лорелеи». Она поет вам песню зяблика. Вы целуетесь. Первый план. Все целуются. Кочевники украшают телеги венками. Восход солнца. Матросы купаются в Рейне. Лесничий, благословив вас, умирает. Он оставляет вам все. Вы открываете сигарный магазин. Вы — с трубкой. «Душа Лорелеи» над колыбелью. Кочевники уходят назад в степи. Матросы подают букет из анютиных глазок Гинденбургу. Анютины глазки первым планом. Колыбель. Младенец мужественно улыбается. Надпись: «Будущий солдат Германии». Ну, разве это не здорово придумано? Любовь. Мистика. Революция. Отечество. Для экспорта только отрезать последние сто метров. Успех в Америке, в России, в Австралии, в Китае. Ваше имя — «Ройтшванец» — обойдет весь мир. Что же вы теперь молчите? Признайтесь, вы потрясены сценарием. — Вполне потрясен. Это вроде романа Альфонса Кюроза. Вы даже можете взять кое-что оттуда. Например, зачем себя обвязывать непременно пулеметными лентами? Это же не так красиво, и это может выстрелить. По- моему, лучше, чтобы каждый взял в мощную руку теннисную ракету. Тогда получится настоящее очертание. Но вам, конечно, виднее. Я вот только хочу попросить вас об одном. Если я уже должен 92 носиться круглые сутки по всему свету, нельзя ли обойтись здесь без арабской лошади? Пусть эти матросы скачут на чем им нравится, раз они подчиняются военной службе, а я себе буду носиться пешком. Но Альфред Кюммель был неумолим, и на следующее утро он подвел трепещущего Лазика к лошади: — Садитесь! Для поддержания доблестных чувств гремел военный оркестр. Кругом гарцевали лихие казаки. На Лазика надели боярский кафтан, а поверх него пулеметную ленту. Он жмурился от нестерпимо яркого света и жалобно скулил. Альфред Кюммель поднес к его уху огромный рупор и в ярости крикнул: — Не теряйте времени! Садитесь живее! Каждая минута промедления стоит нам сто марок. — Дорогой господин художник!.. Я уже отказываюсь от моих пяти тысяч. — Садитесь! — Как же я могу сесть, когда самое большое, на что я садился, — это черная скамья подсудимых? Потом, если в Гомеле и стреляли пулеметы, так я же мог спрятаться в задний переход. Но я не могу спрятаться сам от себя, когда вы нацепили на меня эту плевую ленточку. Вдруг она возьмет и выстрелит? — Довольно болтовни! Вы — «дух степей». Вы носитесь. Выражение удали и беспечности. Поняли? Ну, садитесь. Не бойтесь. Это дрессированная лошадь. Это старая кобыла. Это почти осел. Сели? Теперь — удаль. Эй, полный свет! Карл, припугните клячу! Операторы! «Дух степей», удаль! Лазик только успел крикнуть: — Прощайте, Пфейфер!.. Тпру!.. Тпру!.. Лошадь, опомнитесь!.. Напрасно грохотал рупор: «Сидите прямо! Улыбайтесь!» Лазик ничего не слышал. Сначала он еще держался за гриву, но первый же толчок отбросил его назад. Тогда он вцепился в круп лошади. Он визжал от страха. Когда показалась «душа Лорелеи», которой он должен был послать воздушный поцелуй, он уже висел как лоскуток на конском хвосте. Лошадь досадливо повела задом. Лазик очутился на земле. Он разбил нос. Вытерев боярским кафтаном кровь, горделиво подошел он к режиссеру. — Что?.. Я таки носился, как настоящий дух. Господин Кюммель не прибег к помощи рупора. Он так гаркнул «пошел вон», что Лазик на этот раз действительно понесся, путаясь в полах длинного кафтана. Но у самой двери он остановился. — Вы уже успокоились после этой погони? Так теперь послушайте меня. Я же не хотел носиться. Я вам все время говорил, что я не «дух степей», а только несчастный портной из Гомеля. Вы сами меня посадили на этот кровавый эшафот. Вот вам ваш ненормальный сюртук и эти нарочные пули, а мне вы дайте немного разменной монеты, потому что хоть я и не подписал гербового несчастья, но вы же говорили вчера о страховке разных домов. Так во сколько вы застраховали мой кровавый нос? Я хочу за него хотя бы десять марок, потому что я проголодался, как настоящая амазонка. — Эй, Карл! Покажите ему выход... Что же, бедняга Ройтшванец снова понесся по двору, по улицам, по Берлину, по белому свету. 26 В течение нескольких дней Лазик раздавал на улицах проспекты 190 венерологического кабинета, пока одна почтенная дама, которой он для верности всунул в рукав целую пачку, не избила его зонтиком. Потом в клинике знаменитого ветеринара доктора Келлера он занимал должность кошачьей сиделки. Он должен был придерживать кошек, пока их освещали фиолетовыми лучами. Кошки явно не верили в медицину, они бились и пребольно царапались. Лазику пришлось покинуть и это место, после того как один сиамский кот раскровенил все его лицо, — доктор Келлер боялся, что вид забинтованного Лазика может отпугнуть впечатлительных клиенток. Тогда Лазик попал в бродячий цирк: его взяли дублировать заболевшую бронхитом обезьяну Джиго. Он должен был в шкуре и в маске лазить по трапециям. Он лазил. Он должен был грызть орехи. Он грыз. Но когда ему приказали во время спектакля скакать через барьер, он не выдержал. — Во-первых, об этом самоубийстве вы мне не говорили, а во- вторых, если я уже должен обязательно обливаться кровью, то отстегните мне, пожалуйста, хвост, потому что с хвостом люди, кажется, не прыгают. Так и не удалось Лазику найти тихое пристанище. Тщетно старался он соблазнить прохожих своими знаменитыми заплатами. Он предлагал шить все: френчи, боярские сюртуки, даже стальные каски. Всячески пробовал он растрогать сердца берлинцев, он напоминал им, что исповедует «мозаизм», что в него была влюблена «душа Лорелеи», что наконец он не отвечает за какой-то пристегнутый хвост. На него раздраженно прикрикивали, пока сердобольный полицейский не отвел его в арестный дом. Он был привлечен по статьям, карающим нищенство, шантаж и оскорбление нравов. В тюрьме Лазик быстро освоился: повесив над изголовьем портрет португальского бича, он начал хвастаться: — Это уже одиннадцатая, и я могу написать роскошный путеводитель. Конечно, воздуху здесь больше, чем, например, в Ломже, но в Киеве был удивительный борщ. Рядом с Лазиком спал некто Коц, которого посадили за кражу колбасы. По ночам он тихо жаловался: — Я искал шесть дней работу. Потом я не выдержал. Это было на базаре. Она лежала в сторонке, и я ее сразу проглотил. Лазик нежно хлопал огромного Коца по плечу. — Ну, не горюйте! Вас, наверное, отпустят. Я вас хорошо понимаю. Они должны были запретить выставлять колбасу, это слишком удивительно пахнет. По-моему, такого запаха никто не может выдержать, даже сам господин Гинденбург, хоть они ему собирались нести букет из каких-то анютиных глазок. Знаете что, товарищ Коц, на земле нет справедливости! Если бы вы взяли анютины глазки, вас бы еще могли судить. Зачем отбирать у других такое подношение? Но ведь кусочек колбасы нужен всякому человеку. Тогда при чем тут 93 болванский суд? О работе вы мне тоже не говорите. Вы ничего не нашли? Так это еще счастье. Вы — в тюрьме, и я — в тюрьме, но у вас, по крайней мере, неприкосновенный нос. Я носился на бешеной арабке, и я прыгал через свой хвост, я должен был приставать на улицах к разным докторшам, и я должен был держать настоящих сиамских тигров. Это называется «пот своего лица», и потом люди приходят в синагогу или даже в церковь, и там они кланяются богу за подобные дела. Я вообще передовой отряд, и я знаю, что наверху никому не нужные газы. Но если допустить, что наверху сидит выдуманный бог, то он же полный обманщик, и мы должны с ним поменяться местами. Он должен лечь здесь под сто уголовных статей, а мы с вами должны отдыхать на небе. Вы думаете, что я не знаю все эти проделки? Я их знаю как пять пальцев. И если начать сначала, то прежде всего — непонятный шум. Хорошо, нельзя было кушать яблоко. У бога тоже бывают фантазии. Но скажите мне, почему такой исторический крик вокруг одного маленького фрукта? Это же вроде колбасы. Но я несусь дальше. Он судит, и он присуждает. «В поте лица твоего ты будешь зарабатывать хлеб». Допустим. Это глупо — почему я обязан потеть, если мне хочется порхать, как он, среди синего цвета? Но это ясно. И что же получается? Я потею так, что меня больше нет, разве я человек, я — выжитое место, а вместо хлеба меня только беспрестанно колотят. Может быть, после этого вы скажете, что наверху не пустые газы? Коц испуганно перекрестился. — Мы хоть с вами и товарищи по несчастью, но я честный человек. Я попал сюда случайно. У меня не было работы. Она лежала в сторонке... Вы еврей, вы можете не верить в вашего бога, но я из Вюрцбурга. Я добрый католик. Я верю в милосердие господа нашего Иисуса Христа. — Слушайте, товарищ Коц, я сейчас расскажу вам одну замечательную историю. Ведь я уже вижу, что, хотя вы размером царь-пушка, у вас нет никакой надстройки. Вы, вероятно, не так уже часто беседуете с умными людьми, и вам полезно послушать этот глубокий предрассудок. У нас в Гомеле жил один сумасшедший старик. Он чинил старые матрацы, но редко кто приходил к нему, все говорили: «Это плохой еврей, он, наверное, путается с чертом, виданное ли это дело, чтобы в субботу ходить с зонтиком, а вместо молитв рассказывать мальчикам постыдные факты?» Словом, этот старик был большим оригиналом. От него я узнал уйму историй: о проскуровском хасиде, который заблудился, о табакерке царя Соломона и еще много других. Вот он-то и рассказал мне это удивительное приключение с вашим милосердным богом. И хоть вы из Вюрцбурга, а я всего-навсего из Гомеля, но, может быть, на этой позиции мы с вами сойдемся. Мы сейчас далеко от Гомеля, но мы еще не в Риме, а Рим тоже город, и туда тоже можно попасть, и самое смешное, что там живут евреи, совсем как в Гомеле. Приключение это было в Риме, и не теперь, а давно, до войны, и даже, наверное, до позапрошлой войны. Впрочем, когда говорят о предрассудках, нечего залезать в календарь. В Риме жил римский папа. Это, кажется, ваш главный комиссар, и вы можете сейчас еще один раз перекреститься. Этот папа жил совсем как Валентин в романе Альфонса Кюроза. Смешно даже говорить о колбасе: с самого утра ему подавали разные бананы. Он ел в один день столько вкусных финтифлюшек, сколько мы с вами не съедим за всю нашу жизнь. А пил он больше, чем все паны ротмистры. Можете себе представить, какой у него был дворец: я даже думать об этом боюсь, потому что, наверное, там стояли возле каждой табуретки часовые с пулеметами. Он сидел во дворце и слушал красивые мотивы. Вы, пожалуйста, на меня не обижайтесь, но он любил функции с разными поездками в лазурный Крым, ничуть не хуже товарища Серебрякова. Я знаю, что папе полагается по уставу смотреть на хорошенькую девушку, как на богослужебное бревно. Что же, может быть, другие папы и обходятся без предпосылок, хоть Вилли в аптекарском магазине, тот хотел даже разбить драгоценное стекло. Если вы скажете мне, что сын того папы или, например, его недозволенный отец были вовсе не людьми, но только глубоким вздохом, я вам охотно поверю. А вот тот папа не зевал по сторонам. Он выбирал себе, понятно, отъявленных красавиц, потому что каждой женщине лестно проснуться утром, а рядом — сам римский папа — это же не Ройтшванец и не Коц. У папы было много свободного времени, когда он не ел бананы и не совал разным дуракам свою старую туфлю, чтоб они ее целовали, а красавиц в Риме было тоже много, так что во дворце звучал один постоянный поцелуй. В Риме была масленица. Какой это, между прочим, вкусный праздник! У нас в Гомеле телеграфист Захаров угостил меня на масленицу такими блинами, что я чуть было не уверовал во весь его опиум со сметаной. Но, конечно, в каждой стране люди празднуют праздники по- своему. В Риме они прямо-таки сходили с ума. Они бесплатно надевали на себя обезьяньи шкуры и пристегивали хвосты. Они гуляли с утра до ночи в бандитских масках. Посмотреть кругом — это даже не город, а всеобщая оперетка. Один говорил, что он слон, и нахально ворочал хоботом, другой уверял, что он настоящий герцог, который грызет свою герцогиню, и все прыгали, и все играли на трубах, и все танцевали танцы римских меньшинств. О женщинах я даже не стану вам говорить. Кто вас знает, что у вас внутри за механика: может быть, вы, как толстяк Вилли, подбираетесь про себя к стеклу? Я только скажу вам, что у женщин были полные витрины. Каких только бананов они не выставляли наружу! Поставим здесь тысячу точек... Они прыгали, они пели, они целовались, но главный номер был еще впереди. Я уже сказал вам, что в Риме жили евреи. Это, конечно, бесстыдство: евреи смеют жить в одном городе с самим папой. Но что поделаешь? Например, муравьи — куда только они не залезают? На что уж строги паны ротмистры, и те напрасно волнуются. Раздавишь одного, сейчас же выскочит другой с автономным носом. Папа покричал, погрозил своей туфлей, а потом ему надоело: пусть живут. Нельзя же посадить в тюрьму какой-нибудь перелетный насморк! Но так как папа любил масленицу, он придумал замечательный фокус: пусть евреи поставляют одного скакуна для всеобщего хохота. Пусть этот несчастный скакун обежит на масленицу три раза вокруг всего города, и пусть он бегает раздетый догола, а папа со своими слонами и дамами будут сидеть на золотых табуретках и заливаться неслыханным смехом. Как люди говорят: одному масленица, а другому голое скакание. Евреи собрались на постную конференцию: кто же будет этой истерзанной лошадью? Евреи бывают разные: у одних даже на животе 94 караты, а у других бесплатные слезы. Я вот лежу на одиннадцатой колючке, а какой- нибудь Ротшильд, наверное, сейчас лопает целую козу. В Риме тоже были и купцы первой гильдии, и кладбищенские нищие, которые за кусок хлеба плачут ведерными слезами над всякой предписанной могилой. Кто же побежит вокруг города? Конечно, не раввин — он же ученый, без него все станут глупыми; конечно, не римский Ротшильд — без него некому будет кормить нищих раз в год кухонными помоями. Каждый еврей выкладывал один золотой, чтобы только не бегать, и бедняки тоже давали, потому что стоит продать субботние подсвечники, или сюртук, или даже подушку, лишь бы не умереть в голом виде перед сумасшедшими слонами. Но нашелся один несчастный портной, у которого не было ни сюртука, ни подсвечника, ни пуховой подушки, ни шелкового талеса. У него были только жена, шесть детей и подходящее горе, а все это нельзя выменять на один золотой. Его звали, скажем, Лейзером. Я думаю, что он был дедушкой моего дедушки, потому что вот от такой прискорбной тени и пошел наш род замечательных Ройтшванецов. Настал час объявленных скачек. Папа перекрестился, опрокинул еще одну четверть вина и влез на свою табуретку, а вокруг него расселись священники, и красавицы с витринами, и просто раскрашенные нахалы. Это были богомольные люди, и сам папа с ними — значит, они повсюду расставили портреты вашего милосердного бога. Он был сделан из золота, из серебра, из бриллиантов на круглый миллион рублей, чтобы все знали, какие они Щедрые и какой у них роскошный бог. Сидит папа, весь в бархате, а над ним огромный крест, прямо из ювелирного магазина, и на кресте Христос, не то чтобы позолоченный или дутый, нет, из массивного золота совсем невиданной пробы. Очень хорошо! Но где же, между прочим, человеческий скакун? Папе уже не терпится, и он звонит в звоночек: «Приведите сюда эту лошадь, кажется, пора начинать». Тогда привели Лейзера, а за ним пришли жена и все шестеро детей, и все они отчаянно кричали. Ведь даже маленькому ребенку ясно, что нельзя обежать вокруг Рима три раза без передышки, а стоит остановиться, как конюхи папы начнут тебя хлестать кнутами. Значит, это все равно что идти прямо на смерть. Лейзер стал снимать сто раз заплатанные брюки. У папы от смеха даже живот заболел, а другие бандиты теряли кто хобот, кто хвост, нельзя так сильно смеяться. Спектакль был довольно веселый, потому что такой несчастный в штанах уже анекдот, а если он без штанов, то это верное до упаду. Папа смеялся, но не Лейзер. Лейзер обнимал свою жену и детей. — Хорошо, я побегу и я умру, но кто вас завтра накормит? Может быть, раввин? Да, он будет кушать большого гуся, но вам он не даст даже косточек. Он вас угостит только ученым словом. Может быть, римский Ротшильд? Да, он скажет: «Я еврей, и вы евреи, и благословит вас бог, но я не могу сейчас с вами разговаривать, потому что я скушал столько гусей, кур и уток, что доктор будет мне ставить банки. Я — настоящий страдалец, а вы счастливчики, и вот вам на прощанье мой кукиш». Так скажет вам Ротшильд. И никто вас не накормит, потому что у бедных нет ничего, кроме голого сердца, а у богатых есть все, но у них нет сердца, и значит, вы тоже умрете. Я умру сегодня от этой беготни, а вы умрете через неделю или через месяц, и тоже от беготни, вы будете бегать по городу и просить крошку хлеба, и вы умрете. Жена его, конечно, кричала. Она кричала, как зарезанная, на весь Рим: — Ой, как же ты будешь бегать, Лейзер? Ты же не можешь бегать. Скажи им, что ты несчастный портной, а не лошадь. Ты же умрешь, честное слово, ты умрешь! И на кого ты меня оставляешь? И на кого ты оставляешь этих готовых сирот? Папа ткнул себе в ухо вату, он даже глазом не повел. А первый конюх уже щелкал кнутом: «Начинай свое беганье». — Прощай, моя жена! Прощайте, мои дети! Прощай, моя жизнь. Лейзер сел на камень, обнял свои голые колени и еще раз вздохнул, так вздохнул, что ветер прошел по всему Риму, это он прощался с жизнью. А потом он, понятно, встал и побежал рысью, как старая кляча. День был жаркий, как будто это не масленица, а полное лето, потому что в Риме ненормальный календарь, и там можно всегда гулять в парусиновой толстовке, бежать, конечно, куда жарче, чем сидеть. С Лейзера сразу покатился лошадиный пот. Он спотыкался, стонал и тряс бородой, а конюхи подстегивали его кнутами. Рим не Гомель. Рим — это скорей вроде Берлина; чтоб его обежать крутом, надо, может быть, два часа. Повсюду стояли конюхи. Они глядели, чтобы человеческая лошадь не отдыхала. А кроме конюхов стояли просто люди: кому же не интересно поглядеть на такие двуногие скачки? Стояли обезьяны, и тигры, и герцоги, и дамы, и все они бесплатно хохотали: — Беги, старая кляча!.. И всем Лейзер кротко отвечал: — Я уже бегу. Так обежал он один раз вокруг Рима. Он уже еле подымал ноги, и все чаще хлестали его конюхи готовыми кнутами, так что по всему его телу текла кровь. Но ведь надо было обежать еще два раза, и он знал, что он не обежит. Когда он снова увидел несчастную жену, и шестерых детей, и золотую табуретку с римским папой, он потерял надежду, он остановился. А папа римский кричал: — Беги же, старая кляча, не то тебя всего исхлещут мои готовые конюхи! Разозлился тогда Лейзер. — За что я, спрашивается, страдаю? За то, чтобы Ротшильд кушал утку? За то, чтобы этот римский папа обнимал своих нахальных красавиц? За то, чтобы его бриллиантовый бог сверкал своей золотой пробой?.. Но сто конюхов подбежали к нему с кнутами, и, взглянув на своих будущих сирот, Лейзер побежал дальше. Только отбежал он сто или двести шагов, как понял, что дальше бежать не может. Он упал на землю и стал ждать смерть. Тогда-то случился с ним голый предрассудок. Вдруг он видит, что бежит по дороге голый еврей и что это не он, Лейзер, а другой еврей. Откуда такие фокусы? Ведь все евреи откупились от беготни. Он разглядывает этого второго еврея и еще сильнее 95 удивляется: «Он же похож на меня, тоже кожа и кости, и пот градом, и весь в крови, и так трясется бородка, что сразу видно: крышка. Но глаза у него, кажется, не мои, и нос не того покроя. Значит, это не я, а другой еврей. Но кто же это может быть...» Лейзер знал всех евреев Рима. Это не старьевщик Элиа и не сапожник Натан. Это, наверное, чужой еврей. И Лейзер его спрашивает: — Откуда вы взялись? У вас знакомое лицо, как будто я вас уже видел, но я вас не мог видеть, я никогда не выезжал из Рима. Может быть, я уже умер, и мне снится? Как вас зовут? И потом, почему вы бегаете, если я должен бегать? Тогда второй еврей говорит Лейзеру: Зовут меня Иегошуа, и вы меня не можете знать, потому что я уже давно умер, а вы еще живы. Но вам кажется, что вы меня знаете, — вы, наверное, видели мои портреты. Они меня называют самыми смешными словами, но я сейчас скажу вам, кто я: я — бедный еврей. Вы, правда, портной, а я был плотником, но мы поймем друг друга. Я хотел, чтобы на земле была полная правда. Какой бедняк не хочет этого? Я же видел, что раввин говорит умные слова, что Ротшильд кушает утку и что нет на земле ни справедливости, ни любви, ни самого простого счастья. И я был с бедными против богатых. Я видел, что у одних людей пулеметы, а у других только голая грудь, и что железной пуле ничего не стоит проткнуть сердце, и я был со слабым и против сильных. Я любил, Лейзер, когда солнце греет, и смеются дети, и всем хорошо, все пьют вино, все друг другу улыбаются, горят субботние свечи, а на столе румяный хлеб. Но какой нищий не любит этого? Сначала меня, конечно, убили, а теперь они не дают мне спокойно лежать в земле. Они грабят бедняков и называют мое несчастное имя, чтоб я ворочался в гробу. Они сажают какого-нибудь беззащитного человека в глубокую тюрьму, и они поют ему песни о моем столетнем горе, а потом они отрезают ему голову, чтоб я снова подпрыгнул в могиле. Они выгоняют глупых людей, чтобы одни люди убивали других, и они несут на флагах мои скорбные портреты, и я в ужасе приподнимаюсь. Как только не смеются они над моим мертвым прахом! Они делают мои портреты из золота и из бриллиантов, и они выставляют их повсюду. Они ставят их перед голодными детьми и перед самой виселицей. А я ведь так любил румяный хлеб на столе бедняка! Пожалейте меня, портной Лейзер! Вы умрете, и вас закопают, и вас оставят в покое, а я должен бегать по всему миру, как в лихорадке. Я лежу в земле, и вдруг я вижу этого римского папу. Он хохочет с раскрашенными бандитами, он придумывает вашу веселую смерть, и что же — над ним висит мой золотой портрет, и я вижу это сквозь могильную землю. Тогда я прибегаю сюда, и вот вы должны умереть, потому что я мечтал о полном счастье. Горе мне! Горе! Они говорят, что я «всемогущий». Вы видели бедного еврея, который бы мог все? Да если бы я мог даже половину всего, разве я не крикнул бы им: «Довольно!» Разве Ротшильд кушал бы тогда всех уток, разве папа сидел бы на золотой табуретке, и разве вы скакали бы вокруг Рима? Я могу только не находить себе покоя. Я могу только день и ночь бегать кровавой тенью, как бегали сегодня вы. Тогда Лейзер приподнялся и обнял второго еврея. — Мне жаль вас, плотник Иегошуа, я ведь теперь знаю, что такое бегать. Но я вам скажу одно: сегодня вы можете отдохнуть, сегодня вы можете спокойно лежать в своей могиле. Зачем же бегать вдвоем? Сегодня я бегаю за себя и за вас. Но мертвый еврей ответил Лейзеру: — Нет, вы еще можете жить, у вас шестеро детей — это не шутка. Мы их, кажется, перехитрим. На нос они не будут глядеть, а издали мы похожи друг на друга. Так вы лежите себе в этой глубокой яме, а я пока что два раза обегу вокруг Рима. Вы со мной не спорьте; ведь мне все равно придется бегать, если не здесь, так в другом городе, потому что они, наверное, сейчас кого-нибудь убивают и говорят мое имя, чтоб я не мог спокойно лежать. Сказав это, он побежал вокруг города, и его хлестали конюхи, и смеялись над ним все бесстыдные слоны. А когда он добежал до папы, то папа уже лежал на пуховых подушках от неприличного хохота, и папа кричал: — Эй, старая кляча, шевели твоими копытами! Я тебе покажу, что значит римский папа! Это же полный представитель милосердного Христа, и получай скорее сто ударов кнутом, чтоб ты знал вперед, как это — распинать нашего бога! Вот вам и все приключение, дорогой товарищ Коц. Вы можете, конечно, снова перекреститься, раз у вас здоровая рука, а в голове отсутствие. Подумайте только — вы лежите рядом с Ройтшванецом! Может быть, это Ройтшванец распял вашего всемогущего бога?.. Коц разозлился: — Ваша история — вздор. И я вам не советую повторять такие глупости. Вас, чего доброго, могут привлечь за богохульство. — Нашли чем пугать! Не все ли мне равно, привлекают меня по трем статьям или по четырем? Это пустая статистика. А вот приключения с Лейзером вы вообще не поняли. Руками это нельзя понять. Я уже сказал вам, что у вас, наверное, в голове дырка. Как будто я не видел, что, пока я рассказывал, вы все время крестились! Я теперь спрошу вас, хоть вы и дыра из десяти пудов, кому же вы кланяетесь в вашем Вюрцбурге? Если бедному еврею, так он вовсе этого не хочет, а если всемогущему богу, так почему же вы здесь из-за кусочка колбасы?.. Знаете, Коц, мы ссоримся, и мы помиримся. Мы сейчас с вами хорошие люди, потому что мы два бедняка в позорной тюрьме. Но ведь завтра вы можете стать римским папой, а я могу стать еще одним Ротшильдом. Тогда мы моментально забудем все горячие слезы и станем просто-напросто текущими свиньями. Пока бедный плотник мечтал о правде, он был таким высоким, как нарочный бог, но вот его объявили богом в золотой раме. И что же, он стал обыкновенной мебелью. Ротшильд мог в два счета распять какого-то нищего, который говорил, что он любит не богатых, а бедных. Это вполне понятно, и Ройтшванец здесь ни при чем. Кажется, каждый день распинают сто ройтшванецов, и никто против этого не возражает. А детский смех? А румяный хлеб на столе бедняка? Но это же смешные фантазии. Молчи, глупый Ройтшванец! Нечего философствовать! Самое большое, что от тебя требуется, — это скакать без штанов. 96 Отсидев положенное время в тюрьме, Лазик вновь начал странствовать. В Магдебурге он продавал газеты, в Штутгарте мыл оконные стекла, а добравшись до Майнца, попал в колбасный магазин Отто Вормса. Там мирно отпускал он товар, пока не был уличен в наглой краже. Как-то, увидев на прилавке еще теплый окорок, он схватил нож, отрезал большой кусище и проглотил его столь быстро, что хозяин не успел даже опомниться. Лазику пришлось спешно оставить Майнц, так как колбасник поклялся, что он проучит негодяя. Во Франкфурт Лазик приехал с тремя марками. Первым делом он решил побриться, дабы застраховать себя от философических мыслей. Каково же бьшо его изумление, когда молодой парикмахер спросил: — Простите, господин доктор, как вас побрить — обыкновенно или согласно Моисееву закону? Лазик только развел руками. — Согласно Моисееву закону, кажется, вообще нельзя бриться, так что эта религия не для вашей кисточки. Но если я прихожу к вам, значит, я плюю на эти смехотворные параграфы. Может быть, вы боитесь, что я вам не заплачу? Глядите, вот самые настоящие марки. — Вы напрасно обижаетесь, господин доктор. У нас во Франкфурте можно бриться, не нарушая закона Моисея. Ведь евреям запрещено только соскребать с себя волосы лезвием, а мы бреем почтенных клиентов без преступной бритвы. Вот, поглядите,— это патентованное средство. В пять минут я могу уничтожить все волосы, не раздражая ни кожи, ни религиозных чувств. Это изобретение доктора Клемке, и он заработал на нем... Но Лазик больше не слушал. Пользуясь тем, что парикмахер еще не успел его побрить, он сосредоточенно думал. Наконец он сказал: — Меня вы все-таки побрейте без фокусов; только наточите-ка бритву, потому что у меня кожа гораздо чувствительней религиозных чувств. Но вот вам марка на чай, и скажите мне адрес какого-нибудь почтенного доктора, которого вы бреете этой вонючей находкой. — Кого же вам рекомендовать? Может быть, господина Шенкензона? Это самый уважаемый коммерсант. Только он уже давно не брился. Он, кажется, болен... — Болен? Это мне как раз нравится. Ну, вы кончили уже меня скрести вашей тупицей? Так дайте мне скорее адрес господина Шенкензона... Надо признаться, что сердце Лазика взволнованно забилось, когда он оглядел роскошный особняк, в котором жил господин Шенкензон. Он позвонил. Дверь открыла горничная. — Ну что, господин Шенкензон все еще лежит? Он еще не умер? Хорошо. Так я пойду прямо к нему. Нельзя? Как это нельзя? Я же не нахал с улицы. Впрочем, о чем мне с вами разговаривать? Позовите сюда его жену, или мать, или дочь, или хотя бы какую-нибудь тетю. В переднюю вышла заплаканная женщина. — Вы, наверное, госпожа Шенкензон? Ну как, слава богу, муж? Я хочу скорее пройти к нему. Кто я такой? Я гомельский цадик, и я приехал во Франкфурт, и я узнал, что еврей болен, и я пришел, конечно, навестить еврея. Я же знаю, что ваш муж хороший еврей, который соблюдает все законы. Госпожа Шенкензон колебалась. Но Лазик настаивал: — Когда я был у знаменитого реб Иоше... Вы же знаете двинского цадика? Так вот, мы с ним пошли к одному больному. Он лежал, как ваш муж, и наверняка умирал. Но реб Иоше увидел, что у него внутри приросла одна кость к другой, и он приказал костям повиноваться божьему порядку, и все кости расселись по своим местам, так что больной сразу попросил себе целую курицу. Это же очень просто. У человека 248 суставов и 365 костей, а всего в нем 613 штучек, ровно столько, сколько добрых дел. Вы смотрите на меня — как я, такой молодой, уже все знаю? Но я не такой молодой, мне уже за пятьдесят, господь мне дает два года за один. Он же не только умеет наказывать, он умеет и награждать. Я вас уверяю, что ваш муж завтра или послезавтра вскочит, как попрыгунчик. Госпожа Шенкензон залилась слезами. — Все господа доктора говорят, что больше не на что надеяться... Я заказала в синагогах, чтобы они читали псалмы на букву «Вульф»... Его ведь зовут Вульфом. Но он все слабеет и слабеет. Лазик важно сказал: — Вы женщина, и вам бог простит эти глупые разговоры. Доктора видят только кожу. Внутри они не видят. Вот я сейчас погляжу на него, и я скажу вам все. Женщина провела Лазика в комнату больного. Среди пышной мебели, золоченых люстр, картин, ковров, на огромной резной кровати лежал крохотный старичок. Он уже был без сознания. Лазик спросил: — А сколько ему точных лет? — Восемьдесят четыре. Я так и понял сразу. Ну что же, я вижу все, и я говорю вам: у больного недостает внутри одного сустава. Он, наверное, забыл сделать одно доброе дело. Он, конечно, молился, и соблюдал иом-кипур, и жертвовал на синагогу. Но я думаю, что он еще не накормил никогда ни одного бедного цадика хорошим обедом. А так как он сейчас не может сбегать на кухню, так вы займитесь этим, и поскорей, вместо напрасных слез. Тогда завтра или послезавтра он будет попрыгунчик. В соседней комнате, куда провели Лазика, находились все родственники больного. Одни из них громко плакали, другие тихонько обсуждали котировку гамбургских пароходных акций, которые скупал господин Шенкензон. Сестра больного, узнав, что Лазик— духовный раввин не то из Галиции, не то из Литвы, обрадовалась. — Во Франкфурте ведь так трудно найти настоящего раввина, который знает все правила! А когда человек болен, пора подумать о боге. 97 — Правила я знаю, как свои пальцы. Мне было тринадцать лет, когда десять самых замечательных раввинов мне уже выдали «смихе», и я стал полноправным раввином. А потом десять лет я был у знаменитого цадика в Виннице. Как меня зовут? Рэби Лезер. — Скажите нам, рэби Лезер, как вы думаете, Может быть, переменить больному имя? Здешний раввин сказал, что это может помочь. Если уже в Книге судеб написано, что Вульф должен умереть, то ведь это относится только к Вульфу? — Здешний раввин знает кое-что. Он слышал, может быть, одним ухом. Но я сейчас все устрою на месте. Мы таки перехитрим этого летающего ангела. Он — Вульф? Конечно. Он уже — Мендель. И если там написано, что завтра должен умереть Вульф, то ваш дорогой Мендель будет завтра кушать курицу, потому что этот летун будет искать Вульфа. Вы видите, как это просто? Здешний раввин прозевал бы два часа, и он бы еще взял с вас уйму марок. Я здесь останусь, и, если ему ночью не станет лучше, я его сделаю из Менделя Хаимом, и все это по маленькому тарифу. Выспавшись, Лазик весело спросил: — Ну, как поживает наш дорогой Мендель? — Он умер. — Умер? Я так и думал, что он умрет. Я только не хотел огорчать вас за полчаса до факта. Плакать человек всегда успеет. Но я сразу увидел, что в Майнце одна еврейка не могла родить, потому что у бога нет свободной души под рукой. Я тогда понял: бог уже тянется за душой вашего, скажем, Менделя. Ну, что ж поделаешь! Будем его хоронить. Здесь-то Лазику было где разгуляться. Ведь еврея надо похоронить по всем правилам, чтоб он мог легко встать, когда прогремит труба Мессии. Этот рэби Лезер знал порядки! — Как быть с землей? — плакала вдова. — Ведь ему, кажется, нужно положить под голову палестинскую землю, тогда его не тронут черви. Лазик успокоил ее: — Через полчаса я принесу вам палестинскую землю. Это земля высший сорт. Она прямо с гроба Рахили, и ее мне подарил ровенский цадик. Я ее берег для себя. Но теперь я еду в Палестину, чтоб умереть там. Когда прогремит труба, я буду уже на месте, без новой беготни. Так что я вам уступлю эту землю. А о цене мы поговорим после восьми печальных дней. Я, кажется, цадик, а не разбойник. Лазик вышел на улицу. Дойдя до парка, он быстро набрал в платок горсть земли и расчувствовался. — Где умрет Ройтшванец? На какую помойку выкинут его постыдный труп?.. Родственники хотели положить вокруг усопшего венки, но набожная сестра запротестовала: — Это запрещено. Не правда ли, рэби Лезер? Это может ему повредить. — Конечно, венки запрещены. Но ведь нужно класть солому. Что такое солома? Увядшие цветы. А когда цветок сорван, он уже завял, так что я, строжайший цадик, разрешаю вам класть столько венков, сколько вам только захочется. Один из сыновей покойного, человек крайне расчетливый, волновался: — А как быть с костюмом? Они говорят, что его нужно разодрать на куски от печали. — Совсем понятно: вы наденете мой костюм, хоть он вам будет чуточку мал, но при такой печали не до франтовства, и вы его раздерете — он ведь уже разорван, скажем, на других похоронах. А свой вы дадите мне, и это будет в счет необходимых «кадишей». Все дети и внуки покойного возмутились, когда им предложили есть крутые яйца. Лазик и здесь нашелся. Достаточно с вас и так несчастий! Крутые яйца съем я, а вы будете кушать куриный бульон, потому что глуховский цадик уже разъяснил, что из яйца выходит курица, а из курицы выходит бульон. Мудрость и находчивость рэби Лезера потрясали всех франкфуртских евреев, которые приходили к Шенкензонам, чтобы высказать свое соболезнование. Председатель еврейской общины, господин Мойзер, известный биржевик и филантроп, узнав о замене крутых яиц гигиеническим бульоном, восторженно воскликнул: — Вот что значит человек, который день и ночь изучает Тору! В его руках суровый закон становится легким, как верблюжий пух. Скажите, рэби Лезер, если ваше присутствие всегда приносило евреям такую радость, почему же они не удержали вас на вашей родине? — Я, кажется, сказал, что еду умирать в Палестину. Если вы будет задавать мне такие вопросы, я уеду завтра. Между прочим, я умею приносить полное наоборот. В Гомеле тоже был один еврей, который приставал ко мне с нахальными вопросами. Он вдруг начинал устраивать анкеты: «Интересно знать, откуда вы приехали, и что у вас в кармане, и где ваш диплом?» Так что же с ним стало? Я в синагоге вышел благословлять народ. Я ведь благородный потомок. Мы, Ройтшванецы, — «Каганиты», и я поднял руку как самый главный «Каган ит». Тогда, конечно, все закрыли глаза, потому что нельзя глядеть на «Каганит», который благословляет народ. Но тот нахал решил продолжать анкету. Он поглядел на меня. Может быть, он хотел проверить, хорошо ли я держу пальцы? Смешно! Я ведь знаю мои пальцы наизусть, как Талмуд. И что же стало с этим, скажем, любопытным евреем? Он через десять секунд ослеп. Рассказ Лазика произвел на всех сильное впечатление. Правда, господин Мойзер морали его не уловил, так как, услыхав, что гомельский цадик — «Каганит», он стал думать об одном: как бы удержать его во Франкфурте? Он начал издалека: — Вы еще молоды, и господь вам подарит все девяносто лет, если не все сто двадцать, так что я не понимаю, зачем вам спешить в Палестину? Отдохните перед далекой дорогой. Вы найдете здесь почет и спокойствие. Вы будете молиться в нашей синагоге. У нас, право же, замечательная синагога. Я пожертвовал 98 на нее хорошенькие деньги, и вы увидите, какие там двери, и какие семисвечники, и какой свиток. Увы, только одного недостает ей — у нас нет «Каганита». Но ведь если вы будете с нами молиться, вы не откажетесь благословить нас. Верьте мне, почтенный рэби Лезер, здесь не будет таких безбожников, как на вашей родине. У нас никто не захочет бесплатно ослепнуть. А с другой стороны, чтобы доехать до святой земли, мало одной веры. Там египетские фунты, и я знаю котировку... Я вас прошу: примите наше предложение. Лазик, для приличия с минуту помолчав, ответил: — Я вас ужасно жалею, и как хороший еврей я уже не еду в Палестину. Теперь начинайте меня обеспечивать. На следующий день в комнату Лазика, приниженно кланяясь, вошел некто Шварцберг. — Я хочу просить вас, достоуважаемый рэби, чтобы вы взяли покровительство над моим кошерным рестораном. Тогда я смогу написать на меню «под наблюдением господина раввина», а без этого ко мне не идет ни один порядочный еврей. Я уже слыхал от господина Мойзера, что вы умеете примирить суровый закон с требованиями нашего времени. Я не предлагаю вам никакого денежного вознаграждения, нет, вы будете, между нами говоря, совладельцем, и я предоставляю вам двадцать процентов чистой прибыли. Лазик охотно согласился. Он только добавил: — И каждый день три полных обеда. Осмелев после столь легкой удачи, Шварцберг сразу приступил к делу. — Вы же знаете, рэби, что мы соблюдаем себя в чистоте, но мы немножко портим мясо. По закону его нужно держать один час в соли. Легко себе представить, какой это получается обезвкушенный ростбиф или даже антрекот. А кого клиенты ругают? Не Моисея, но ресторатора. Тот же господин Мойзер, он хочет, чтобы все было по правилам, и он хочет кушать сочный ростбиф. Вот я и осмеливаюсь спросить вас, нельзя ли солить это мясо не один час, а только полчаса? Тогда у меня будут бифштексы гораздо вкуснее, чем у Розена, и я сразу забью всех конкурентов. — Что такое часы? Когда человек голоден, а перед ним антрекот, каждая минута является часом. Так сказал мудрый цадик из Балты. Но перед обедом ведь все голодны, и я разрешаю вам в точном согласии с законом солить мясо ровно одну минуту. Только не солите его десять минут, а то вы мне дадите на обед вместо бифштекса какой-нибудь вавилонский плач. Шварцберг ласково подмигнул Лазику. На следующее утро он снова пришел за разъяснениями. — Я вам скажу прямо, многопочтенный рэби, что клиенты не любят ни кокосового масла, ни сала. Я убежден, что этот безбожник Розен жарит шницель на сливочном масле. Я вас спрашиваю, что же мне делать, богобоязненному Шварцбергу? — В законе сказано: «Не ешь теленка в молоке своей матери». Масло делается из молока. А откуда вы знаете, какая корова — мать этого теленка или даже совершеннолетнего вола? Значит, нельзя жарить мясо на масле. Шварцберг сокрушенно вздохнул. — Но, обождите, вздыхать еще рано! Вы же можете подавать свинину. Я, например, очень люблю свиные котлеты, а свинья не может быть дочкой коровы, и жарьте на здоровье свиные котлеты в коровьем масле с хрустящей картошкой. Это по закону, и вы увидите, что когда господин Мойзер скушает свиную котлету, он взревет от полного восторга: «Какая у вас сочная телятина!» — Но ведь по закону свинину вообще... Лазик прервал его: — Если, по закону, у свиньи слишком мало пальцев на ноге, чтоб ее кушать, то вы их не считали. Зачем вам заниматься свиными пальцами? И потом, когда вы говорите с ученым раввином, вы можете не философствовать. Точка. Тогда Шварцберг, не выдержав, всплакнул от умиления. — Бог таки наградил меня за то, что я дал тому нищему сорок пфеннигов!.. Вы же не наблюдательный раввин, но одно сплошное благословение. Неделю спустя Лазик вновь удостоился лестных похвал. Был канун поста «Иом-Кипура», и господин Мойзер грустно вздыхал: как же он будет целые сутки голодать? Он пошел за советом к рэби Лезеру. — У меня ведь подагра. И потом, я не привык... Я могу умереть. Но по закону я не могу просить вас, чтобы вы меня освободили от поста. Тогда в Книгу судеб мне впишут какое-нибудь несчастие, и все мои акции сразу упадут. Так уже случилось с Вайсманом. Лазик важно сказал: Сейчас мы это устроим. Нужны, конечно, три раввина, но такой цадик, как я, легко сойду за троих. Наденьте ваш благородный цилиндр и вздыхайте. Я приказываю вам завтра кушать все. Отвечайте мне: «Я не хочу нарушить «Иом-Кипур»». Вот так... И вздыхайте. И я вам еще раз приказываю именем бога и по всему строжайшему закону завтра кушать. Потому что пост грозит вашему слабому сердцу безусловным концом. Вот и все. Теперь вы можете улыбаться. Завтра вы будете кушать курицу, и в Книге судеб запишут, чтобы ваши акции поднялись по последний этаж. Господин Мойзер, очарованный, спросил: — А нельзя ли устроить то же самое моему брату? У него нет подагры. Но что-нибудь у него есть. У него, например, полип в носу. Он тоже может умереть от истощения. — В два счета... Лазик освободил от поста не только брата господина Мойзера, но еще свыше тридцати франкфуртских евреев. Он ходил из дома в дом и за скромное вознаграждение примирял еврейские желудки с еврейской совестью. После этого авторитет рэби Лезера окончательно укрепился. Лазик благословлял в синагоге молящихся. Он не помнил толком, как это делается, но евреи честно закрывали глаза, и он мог хоть танцевать 99 фокстрот. Он давал советы о семейной жизни. Он ел в ресторане Шварцберга сочные котлеты. Словом, он жил припеваючи. Как-то, сытно пообедав, шел он вместе с господином Мойзером по одной из узеньких улиц старого Франкфурта. Господин Мойзер расспрашивал Лазика, нет ли в законе какого-нибудь разногласия касательно зонтиков. — Я не понимаю, как это нельзя носить в субботу зонтика? Ведь дождь бывает и в субботу. Я иду в синагогу, и я мокну. Говорили ли вы об этом, например, с двинским цадиком? — Еще бы, и мы с ним нашли замечательный выход. Когда идет дождь, начинается опасность. Дождь ничуть не лучше пулеметной пули, потому что от дождя можно простудиться и умереть. По закону можно, если на вас нападают, защищаться, тогда можно взять в субботу даже палку, а дождь на вас нападает, и вы защищаетесь... В поучениях рэби.„ Лазик не договорил: его схватил за руку какой-то огромный человек. — Наконец-то я на тебя напал, мерзавец! Нахапал здесь и разоделся! Я тебе покажу, как окорок красть!.. Господин Мойзер попробовал вступиться за Лазика: — Вы ошиблись. Это уважаемое всеми лицо. Это наш раввин. Увы, Лазик не сомневался: перед ним стоял Отто Вормс. Ну да, от Майнца до Франкфурта рукой подать!.. Но он настолько вошел в свою новую роль, что начал кричать на разъяренного колбасника: — Вы слышите, что я — раввин? Я не только раввин, я — «Каганит». Вы знаете, что такое «Каганит»? Это самый благородный потомок. Я не имею даже права ходить на кладбище, чтобы не огорчаться, а вы ко мне лезете с вашим нечистым окороком... Отто Вормс саркастически расхохотался: — Ах, теперь он стал нечистым? А когда ты его жрал у меня на глазах, он, что же, был чистеньким?.. Скотина! Простите, господин, я вас не знаю, но вы порядочный человек. Как же вы с этим негодяем знаетесь? Я его из жалости подобрал, а он меня разорить хотел. Я уж давно заметил, что он налегает тихонько на ливерную колбасу. Но у меня кроткое сердце, я молчал. Вот когда он прямо передо мной отхватил кусок вегчины, здесь я не выдержал. Тогда он улизнул, но теперь я уж отлуплю его этой дубинкой. Лазик больше не отнекивался. Он только, виновато улыбаясь, сказал: — Вы меня плохо кормили, господин Вормс, а ветчина была теплая, и каждый поймет, что я не мог удержаться. Так как дело происходило не в субботу, у господина Мойзера был зонтик, и он опередил колбасника. Впрочем, Отто Вормс тоже не мешкал. Они били Лазика — один зонтиком, другой палкой, один слева, другой справа, пока тот не упал на мостовую. 28 Левка-парикмахер когда-то любил петь, залезая в ухо мыльной кисточкой: «Уй Париж, уй Париж! Это вам не голый шиш», и, очутившись на площади Опера, Лазик вспомнил его песенку. «Хорошо, я стою на этом углу. Но как мне перейти через улицу? Это же внезапное самоубийство. А рано или поздно мне придется перейти, нельзя ведь жить на постоянном углу. Один автомобиль, десять автомобилей, сто автомобилей, а где же проход для маленького Ройтшванеца?..» Лазик попробовал было спустить ногу с тротуара на мостовую, но тотчас же отдернул ее, как будто попал в кипяток. «Это гораздо хуже, чем бешеная арабка!» Вдруг он увидел полицейского, на рукаве которого было написано «говорит по-немецки». Лазик робко подошел к нему. — Господин ученый секретарь! Вам не кажется, что эти коляски немного задерживают движение? Мне, например, нужно почему-нибудь перейти на ту сторону, но я еще дорожу моей предпоследней жизнью. — Обождите. Когда я махну палочкой, вспыхнут красные диски, раздастся сигнал. Тогда вы сможете перейти. Лазик стал ждать. Действительно, через несколько минут все обещанное совершилось. Автомобили замерли как вкопанные. Площадь в мгновение опустела, и пешеходы перепуганным стадом понеслись с одного тротуара на другой. Лазику все это очень понравилось. Он несколько раз повторил увлекательную переправу, а потом, окончательно растроганный, подошел к полицейскому. — Можно пощупать вашу волшебную палочку? Нельзя? А вы, кстати, не Мойсей ли парижского закона? Потому что такие штуки выкидывал Мойсей, когда евреи переходили через море. Что? Я должен идти дальше? Хорошо, я пойду, но кивните еще раз этой палочкой, чтобы волны расступились передо мной. Лазик задумался. Что же дальше? Конечно, здесь ученые секретари, и арабки, и бананы, и такая научная башня, что можно рассеять сразу весь опиум, она ведь до самого неба, и наверху, уже доказано, не какойнибудь бог, а только телефонная трубка без проволоки. Но что здесь делать одинокому Ройтшванецу? Начнем с того, что здесь совсем другой разговор. Из всего гомельского обращения они понимают только одно «мерси», но ведь надо еще иметь за что благодарить. Размышляя так, Лазик вдруг услышал русскую речь. Он не стал терять времени. — Приятно среди арабок услышать этот могучий язык. Вы, может быть, тоже из Гомеля? Рослый мужчина подозрительно осмотрел Лазика. — Отстаньте! Не на такого напали! — Ага, я уже понял. Вы не из Гомеля, а наоборот. Но почему же сердиться? Я ведь московская душа-рубаха, и я еще не знаю здешних церемоний. Хотите, я вам сошью замечательные толстовки, так что вы будете в них, как два загробных графа? Хорошо, это не подходит. Точка. О кроликах я даже не заикаюсь. Я 100 могу, между прочим, исполнить преступный фокстрот, раз здесь такая арабская жизнь. Почему вы кричите? Я не глухонемой. И напрасно вы думаете, что стоит вам побежать вприпрыжку, как я останусь здесь умирать; я вас все равно догоню. Что- что, а прыгать я умею. Вы спрашиваете меня, что я хочу? Очень просто — жить. Это, как говорили у нас на курсах политграмоты, «программа- максимум», а пока что иностранные кредиты, то есть парижские пятьдесят копеек на порцию пошлых битков. При чем тут политграмота? При всем. Вы здесь уже база, а я хочу быть вашей надстройкой... — Идите вы к вашим большевикам!.. — Этого я как раз не могу, потому что я уже оттуда. Я служил у Бориса Соломоновича, и когда за ним пришли, мне пришлось вылететь залпом. Вы думаете, я не был кандидатом? Смешно! Я мог бы сделаться роскошным комиссаром, но в дело вмешалась нога товарища Серебрякова, и меня мигом вычистили. Русские теперь не убегали от Лазика. Нет, они даже замедлили шаги. Они начали расспрашивать его: давно ли он из России, долго ли пробыл в партии, какие должности занимал, кого там видел? Лазик врал наугад. — Черт их знает, куда они загибают? Они или родственники Пуке, или что-нибудь посполитое. Когда Лазик сказал, что он с товарищем Серебряковым на «ты», что он перевозил через границу пулеметные ленты, что в Москве его выбрали в ученые секретари Коммунистической академии, но что все сорвалось от неожиданных чувств, так как он, Лазик, посидел, подумал, а потом ни с того ни с сего, ворвавшись ночью в Кремль, оскорбил там тысячу флагов, рослый мужчина шепнул своему спутнику. — Этот болтливый жидок может пригодиться... Почувствовав перемену, Лазик осмелел. — Ну да, я и с Троцким говорил по душам об этой китайской головоломке... Но теперь я хочу вас спросить о Другом: когда здесь, главным образом, обедают? Я обедал в последний раз ровно четыре дня тому назад. После этого были только прыжки через границу и новый горизонт. Кстати, из этого кафе идет откровенный запах. Знаете, чем это пахнет? Вы думаете, кофе или позорным лимонадом? Нет, я держу дерзкое пари, что это пахнет телячьей печенкой в сметане и притом с луком. — Слушайте, если вы действительно кающийся большевик, мы вам поможем восстановить ваше доброе имя. — Я так умею каяться, как никто. Я уже начал каяться два года тому назад из-за пфейферовских брюк, и с тех пор я только и делаю, что каюсь. Насчет доброго имени вы тоже не беспокойтесь: в крайнем случае, можно обрезать «Ройт», если здесь другая красочная мода. Я буду просто «Шванец», как таковой, без всякой партийной окраски. — Вы сделаете публичный доклад. Это очень просто. Мы вам наметим, о чем говорить. А сбор поступит в вашу пользу. Но раньше всего мы вас ознакомим с нашим национальным движением. Здесь Лазик стал суровым и непримиримым. — Нет, прежде всего вы ознакомите меня с этим запахом. Мы зайдем в кафе и там устроим ваше национальное передвижение. — Что же, можно зайти выпить аперитив. Гарсон, три «пикона»! Лазик взволновался. — Пожалуйста, без арабских штучек! Вы хотите, чтобы я читал громовой реферат, а даете мне какие-то мокрые анекдоты. Игнат Александрович Благоверов, рослый мужчина и редактор национального органа «Русский Набат», снисходительно улыбнулся. — Это здесь все пьют. Это — для аппетита. Тогда Лазик вскочил, он начал неистово топать ногами. — Для аппетита? Это для уголовного преступления! Если я и так готов зарезать живого человека, после этого я его наверное зарежу. Дайте мне моментально печенку в сметане или хотя бы большую булку, не то я выпью эту провокацию, и тогда я зарежу весь Париж! Съев бутерброд, Лазик деликатно заметил: Вам придется разориться, потому что аппетит продолжается. Если бы у меня не было аппетита, разве я стал бы с вами разговаривать? Я бы лучше переходил с утра до ночи ту замечательную площадь. Сосисхи? Очень хорошо. Теперь вы уже можете передвигаться. Игнат Александрович многозначительно откашлялся. — Прежде всего, пусть вас не смущает... Как бы это сказать?.. Ну, происхождение. В нашей организации уже состоит один еврей. Когда он увидел, что из этих «свобод» вышло, он первый пришел к нам с повинной. Он рыдал: «Я дрожу, как Иуда. Евреи продали нашу матушку-Россию. Где мощи святителя Питирима? Где звон сорока сороков?..» Мы его простили. Он в нашей газете теперь работает по сбору объявлений. Так что вы не горюйте. Мы к вам отнесемся как к счастливому исключению. Наше мощное движение возглавляет его императорское... Здесь Лазик прервал Игната Александровича: — Надо обязательно подобрать живот или достаточно мысленно? Потому что после всех сосисок это мне не так-то легко... Но Игнат Александрович не слушал его. С пафосом повторял он последнюю статью «Русского Набата». — «Трепещите же, милюковские палачи в застенках! С нами весь цивилизованный мир и сорок веков русской истории. Романовы создали Россию, и вся наша православная страна, притаив дыхание, ждет державной поступи августейшего хозяина». Так или не так? 101 — Конечно, так. Пфейфер, тот не может дождаться. Целый день глядит в окно. И насчет дыханья вы тоже удивительно подметили. Кто же станет там нахально дышать, когда здесь уже раздается эта августейшая поступь? Выпив еще два «пикона», Игнат Александрович потрепал Лазика по плечу: Приятный жидок! Хорошо, что ты сразу попал к нам, а не в «Свободный Голос». Там ведь одни чекисты сидят. Жид жида погоняет. И платят пятачок за строку. А у нас тебе лафа будет. Завтра же пущу интервью. Василий Андреевич, набросайте. Крупным шрифтом: «Покаяние чекиста». Начните так: «Вчера в помещение редакции, обливаясь слезами, ворвался палач...» Как вас?., «палач Шванец. Он кричал: «Я прошу прощения у невинных вдов и сирот. Вся подневольная Русь слышит удар вашего «Набата». В Каргополе выведенная из терпения толпа буквально растерзала еврейского комиссара». Ну, а даль ше вы сами... Не забудьте только про «Свободный Голос»: «В Пензе все возмущены провокацией Милюкова». Валяйте вовсю! Слушай, жидок, я тебе завтра и за интервью заплачу. Двадцать франков дам, честное слово! Здесь молчаливый компаньон Игната Александровича вдруг заговорил: — Мне, Игнат Александрович, второй месяц жалованья не платят. Зима на носу, а я еще в летнем пальто щеголяю... — Об этом, браг, после поговорим. Сейчас у нас государственные дела. Так вот что, Шванец, ты за доклад сотню-другую получишь, но это ведь нечто единовременное. Сам понимаешь, нельзя каждый день доклады устраивать. А ты можешь хорошую деньгу заработать. У тебя связи там, а нам повсюду нужны верные люди. Займись- ка организацией. — Что же, это я могу. Я уже размножал в Туле мертвых кроликов, и я из вас сделаю самый замечательный урожай. Скажем, вас сейчас двое, не считая этой поступи. Остается взять карандашик. К осени будущего года вас может быть 6 1 2 тысяч 438 голов. Это же дважды два и месячное жалованье. После четвертого «пикона» Игнат Александрович отяжелел. Растроганный, он бормотал: — Молодчина ты, Шванец! Хоть жид, а любишь матушку-Россию. Я тебя выведу в люди. В «Набате» — построчные. За организацию— фикс, подъемные, суточные, разъездные. Потом я тебя с румынами познакомлю. Славные ребята! Принимают вежливо, не как англичане в передних выдерживают, нет, эти за ручку здороваются, папиросами угощают. И платят аккуратно, долларами. Ты им о Каргополе расскажи. Ну, и насчет пулеметов. А если о Бессарабии начнут спрашивать, улыбайся. Я их чем взял? Улыбкой! «На что, — говорю, — нам ваша Бессарабия? У меня было именьице в Калужской, так я день и ночь плачу — почему вы до Калуги не дошли». Понимаешь? Мы здесь дипломатами стали. Я да вот Василий Андреевич, это корпус наш, ха-ха! Деньги на бочку!.. — Парижское вам мерси. Конечно, в Румынию я не ездок. Довольно с меня польской музыки. Но здесь я с ними столкуюсь в одну минуту. Я же тоже из вашего корпуса, хотя мне ничего не кладут на бочку. Я уже подарил полякам Тулу. Почему же мне жалеть этим румынам Калугу? Четыре «пикона» пробудили наконец в Игнате Александровиче аппетит, и он ушел обедать. Молчаливый Василий Андреевич повел Лазика в ресторан «Гарем де Бояр». Вспомнив о летнем пальто, Лазик предусмотрительно спросил: — Вы, может быть, как Архип Стойкий, то есть забываете бумажник дома? Так у меня в кармане дыра. — Не бойтесь! Василий Андреевич нежно похлопал себя по груди. — Я с вами остался, чтобы предупредить вас. Этот Благоверов хитрая бестия. Он выжмет из вас все и потом — за шиворот. Он всегда так поступает. Его самого скоро выставят. Тогда я буду главным. Помилуйте, он только одним занят: нашел подставного жидка и через него продает большевикам какие-то удобрения. Хорош патриот! А насчет румын он тоже врет. Вы мне с первого взгляду понравились. Румыны эти — жулье. От них десяти франков не добьешься. Я вам другое предложение сделаю. Только давайте-ка сначала закусим. — Я уже выбираю вас, а не этого калужского румына. Вы мне тоже понравились, если не с первого взгляда, так с первого слова. Сразу видно, что вы главный патриот, вы ведь начинаете не с чего-нибудь, а с закуски. Но что они несут сюда? Это же не снилось даже госпоже Дрекенкопф!.. — Да, кормят здесь неплохо. Вот попробуйте икорки — наша, родная, астраханская. Я сюда поставляю. Достаю через одного прохвоста у большевиков, а потом перепродаю. Надо чем-нибудь жить. Теперь поговорим о деле. Одним «Набатом» не прокормишься. Я сведу вас с хорошими людьми. Не люди — золото. Чеки из Ревеля. Знаете Ревель? Лазик задумался. — Ревель? Это, кажется, кильки? — Это, друг мой, не только кильки. Это английские фунты. Это целое государство. Вы им там три слова насчет Троцкого, а чек— в кармане. Идет? Водочки? За ваше здоровье! За наше национальное движение! За его... — Пожалейте мой живот! Я его не в силах каждую минуту подбирать. Лучше уж выпьем за кильку. — Ура! Вначале Лазик крепился. Он пил водку, ел бефстроганов и вел с Василием Андреевичем дружескую беседу. — Здесь же совсем как в «Венеции». Скажите мне, кстати, в какую дверь нужно будет бежать? — Да, здесь уголок старой России. Великое дело — традиции народа. Знаете, кто подает нам? Полковник. Ей-ей! А дамы!.. Татьяна Ларина! «Я вас люблю, чего же боле...» Просто, как скипидар. Мы этого Благоверова по шапке!.. Вот, знакомьтесь. Наш агент по сбору объявлений, господин Гриншток. 102 Лазик оживился. — В Гомеле тоже есть Гриншток, он даже заведует показательными яслями. Вы не родственник ли? Господин Гриншток негодующе отмахнулся от Лазика: — У меня нет родственников среди кровавых палачей. Нагнувшись к Лазику, он зашептал: — А если это даже мой брат, то что за глупые разговоры? Я же собираю для них объявления. Сегодня я набрал целых три: два ночных бара и один венерический доктор. Я могу теперь даже поужинать. Все труднее и труднее было Лазику думать, а Василий Андреевич приставал с вопросами: — Продиктуйте мне хоть десять фамилий известных вам большевиков. Мы готовим списки, чтобы знать, кого истребить, когда настанет минута. — Десять фамилий? А сколько было рюмок? Пять? Ну вот вам, пишите: Троцкий, Ройтшванец, Борис Самойлович... Еще? Хорошо. Кролик. Это партийная кличка. Гинденбург. Дрекенкопф. Килька. Я вовсе не пьян, это тоже кличка, и довольно меня истязать! Что я вам — адрес- календарь? Я же понимаю, вы хотите все это отнести эстонцам и получить чек в кармане. А что останется мне? Охмелев, он кричал: — Я румынский бдист: я с Троцким на «ты»! Я — весь в пулеметах! Его били. Его качали. Он уже ничего не помнил. Как заверял потом Василий Андреевич, он схватил банку с кильками и пытался всунуть по рыбке каждому посетителю. — Уже готовый чек!.. Подарим им Париж со всеми арабками!.. Да здравствует поступь!.. Летели стаканы, бутылки, столы. Под конец Лазика вывели на улицу. Подошел полицейский. Василий Андреевич вступился за своего собутыльника: — Это ничего, он немного выпил. Он палач, и он кается. Он ищет облегчения. Славянская душа! Выслушав это, полицейский вежливо взял Лазика под руку и довел его до ближайшей уборной. В мутных глазах Лазика вспыхнул огонек сознания. Восторженно рыкнул он полицейскому: — Только вы один меня поняли. Мерси! И еще раз мерси! 29 Перед самым докладом Лазик вдруг загрустил. С трудом вскарабкался он на высокую кровать плохонького номера, где поселил его Василий Андреевич, и предался горестным размышлениям: — Я же был честным кустарем-одиночкой. В могучий праздник Первого мая я шел со всеми портными, и над нами реял еще не оскорбленный флаг с серебряным наперстком. И вот я дошел до этих бешеных килек. Ах, мадам Пуке,— вы видите, я зову вас по-парижски, не как-нибудь, а мадам, — ах, мадам Пуке, что вы сделали с Ройтшванецом? Сейчас мне нужно идти своими ногами на этот стопроцентный погром, как будто я не знаю их шведскую гимнастику. Меланхолично Лазик расстегнул ворот рубашки и, прищурив один глаз, стал разглядывать свое тело, сплошь покрытое синяками. — Вот этот — еще посполитый... А эти два от рыбьего жира... Этот? Не помню... Может быть, после разговора об окороке, а может быть, из-за обезьяньего хвоста... Ну, а это — парижские... Интересно бы спросить какого-нибудь философского доктора, сколько может вынести обыкновенная еврейская жилплощадь? Мне, например, кажется, что я уже уплотнен. Но вся беда в том, что синяк ложится на синяк, и это вечное землевращение. Пора идти! В животе уже журчат мелодии, и Карл Маркс недаром зарос бородой, он кое-что понял до самой точки. Вместо всех ученых слов можно сказать одно: «Аппетит передвигает обширное человечество». Дойдя до этого, Лазик зажмурил глаза: он увидел перед собой рубленые котлеты с картошкой. Он стал вспоминать — а как они пахнут?.. Долго он лежал так, переживая клецки госпожи Дрекенкопф, шкварки на свадьбе Дравкина и даже охотничью колбасу. Его привел в себя раздраженный голос Василия Андреевича. — Вы с ума сошли?.. Там все собрались, а вы здесь дрыхнете!.. 210 Действительно, в зале было человек тридцать слушателей. В первом ряду сидели глубокие старики, с виду похожие на камердинеров. Они жевали лакричные лепешки и порой подхрапывали. Сзади бодро гудели молодые люди, щеголяя модными пиджаками в талью. На эстраду взошел Игнат Александрович. Он был постоянным председателем кружка «Крест и Скипетр». — Я предоставляю слово кающемуся большевику Лазарю Матвеевичу Шванецу. Он ознакомит нас с национальным движением на родине. Я прошу присутствующих в зале вдов и вдовцов сохранять спокойствие. Хотя на совести у Шванеца много пятен, но он честно покаялся и хочет вернуться на родину, чтобы активной борьбой против насильников смыть с себя прошлый позор. Лазик жалобно оглядел зал, люстру, стол, покрытый зеленым сукном, с графином воды и колокольчиком, самого себя. Поздно!.. Ничего не поделаешь... Он встал, вежливо раскланялся, улыбнулся. — Товарищи... Молодые люди в ответ угрожающе зарычали. Лазик съежился. — Извиняюсь, из меня иногда выскакивает гомельский оборот. Я же понимаю, что здесь нет никаких товарищей, но скажите мне, кстати, как вас называть: «господа полицейские доктора» или «паны ротмистры»? Игнат Александрович потряс колокольчиком. — Вы должны обращаться к аудитории «милостивые государи и милостивые государыни». Очень хорошо. Милостивые государи-императоры и даже государыни, хоть государынь здесь нет, а всего одна во втором ряду, я начинаю прямо с национальных меньшинств, так как этот блондин уже кричит мне, что я жид. Так я не жид, а только скромный Мойсей его императорского закона. Возьмем исторический разрез. Бывают, конечно, жиды. Они нахально шьют брюки или даже заведуют в Гомеле кровавыми яслями. Они 103 неслыханно смеются потому, что продали Христа и матушку-Россию, все вместе за каких-нибудь тридцать серебряных рублей. Но тот же милостивый государь Гриншток вовсе не продает матушку — наоборот, он национально передвигается. Он собирает для «Русского Набата» венерические объявления, и значит, он не жид, а симпатичный Мойсей. Итак, я прошу этого блондина успокоиться, потому что я не люблю, когда кричат. Я сейчас тоже как Гриншток, и вы должны слушать меня с совершенным почтением. Сзади кричали: — Чекист! Палач! Что же он не кается?.. Позор! Игнат Александрович снова прибег к помощи звонка. — Помещение сдано до двенадцати. Кроме того, мы должны считаться с метро. Прошу уважаемую аудиторию вести себя сдержанно, а вас, Лазарь Матвеевич, ввиду позднего времени я прошу начать каяться. — Как будто это так легко? Я же забыл, что вы мне там говорили, и я не знаю, в чем мне каяться. Я, конечно, могу покаяться в случае с кильками, но зачем было мне давать рюмку за рюмкой? И потом, если я даже кидал рыбки, то там один государь кинул в меня целый поднос. Это же тяжелее!.. Блондин не унимался: — Скольких ты расстрелял, чекистская собака? — Господин председатель, если этот милостивый блондин не перестанет меня прерывать, я потеряю нить. Я только хотел перейти к положению на родине, как он уже констатирует, что я собака. И потом, нельзя приставать с глупыми вопросами. При чем тут выстрелы? Я не стрелок. Я портной. Но если этот молодняк грозит разбить мне морду, я скажу, что я уже расстрелял все семь тысяч. Я стоял и стрелял из пулемета, а они, конечно, падали, и в них вонзались ужасные пули, и они кричали: «Что это за шутки, чекистская собака? Если ты не перестанешь нас расстреливать из пушек, мы сейчас же позовем милицейского». Но я был глух к этим воплям сирот. Я расстрелял Пфейфера в моих же артистических брюках. Теперь вы довольны? Я перехожу к текущему моменту. О факте с Каргополем вы уже знаете из газет, а вообще, я не учился стройной географии. Зачем настаивать на деталях, когда мы должны считаться с каким-то метро? Достаточно сказать, что вся матушка- Россия ждет вас без дыхания. Вас так ждут, что, когда звонит, например, почтальон или, хуже того, постыдная прачка, все ошибаются и бегут с анютиными глазками навстречу, и потом они плачут, что вместо белого коня неприличные кальсоны. А поступь? Об этом же нельзя говорить без крупных слез. Идет, скажем, по лестнице Ткаченко, а Борис Самойлович уже шепчет мне: «Ты слышишь эту поступь?» Я только одного не понимаю: почему вы не приходите? Нельзя так играть с человеческим терпением! Я, например, был верен Фене Гершанович, хоть она и чирикала с Шацманом. Но сколько я мог ждать при своем телосложении? Я ждал и ждал, а потом увидел Нюсю, и все полетело прахом с табуретки. По-моему, вам уже надо двигаться, сначала на это беспощадное метро, а потом к самой матушке. Молодые люди, покинув свои места, столпились вокруг эстрады. — Позор!.. Что за ерунда... Как он смеет, пархатый?.. Мы его проучим!.. — Дайте оратору возможность закончить свой доклад, — взывал председатель. — Долой! К черту! Звонок отчаянно дребезжал. Лазик прикрыл лицо руками. — Вы хотите, чтоб я закончил? Я уже закончил. Что? Надо еще говорить? Хорошо, я попробую. Я скажу еще о национальном передвижении. Большевики, конечно, пломбированные изменники, потому что нельзя пропускать такой хорошей оказии. Им не дают иностранных кредитов? Значит, они не умеют разговаривать. Но здесь живет ваш удивительный корпус, и я теперь знаю, как поступать. В одной партии могут быть две фракции или даже десять фракций. Это бывает и в Гомеле. Главное, чтобы все сразу подымали руки. Тогда получается железная дисциплина. В чем различие, скажем, между Игнатом Александровичем и Василием Андреевичем? Один ходит к румынам и сует им Бессарабию, а другой получает чеки от килек. Но можно же пойти и к румынам, и к килькам. Это вопрос ног. А в Париже, как я вижу, на тридцать сребреников не проживешь, раз в этом «Гареме» бешеный бефстроганов. Я молю вас, отодвиньте ваш кулак! Я уже вношу конкретное предложение: если, например, взять в узелок Москву и отнести ее... При чем тут ваши руки? И если вы должны обязательно меня бить, то бейте сзади, чтоб я хоть не видел кровавых следов. Караул! Вы опоздаете на метро!.. Вдруг счастливая мысль осенила Лазика. Быстро схватил он со стола графин и стал поливать публику. Когда же кончилась вода, он метнул в зал графин, стакан, звонок. На шум пришел сторож. — Господа, помещение снято до двенадцати. Будьте любезны немедленно разойтись! Лазик первый подчинился его приказанию. Быстро нырнул он в дверь. Но сейчас же голова его вновь показалась: — Милостивый председатель, а где ваш чистый сбор на два-три голодных бутерброда? 30 На улице к Лазику подошел тощий еврейчик и дружески сказал: — Ах, вот и вы!.. Вам, может быть, нужен пластырь? Я всегда на себе ношу: я ведь репортер «Свободного Голоса», и я должен бывать на всех эмигрантских собраниях. — Пластырь? Вы смеетесь! Мне нужны военные перевязки, а пока что пять франков на закуску. — Пойдемте в «Ротонду». Там подхрепитесь. Ну, теперь вы увидели, что это за публика? Вы должны были прийти к нам. У нас даже если любят какого-нибудь пат-риарха, то не устраивают сразу погром. Вы же свежий человек, недавно из России, и вы знаете, кого там ждут. Великий князь категорически ни при чем. Там ждут только выборов в парламент. Вы не заметили этого? Ну да, вы еще запуганы. Вы проживете здесь годикдругой, и тогда вы заметите. Мы понимаем, что некоторые труженики и там трудятся. Нужно уметь отделить 104 хлебец от плевел. Мы вовсе не ставим на всем крест. Возьмите писателей. Они продались, это само собой понятно. Но есть исключения. Кто же из нас не чтит Пушкина или даже Айвазовского? Словом, с нами вам будет легко сговориться. Вы прочтете небольшой доклад... Лазик прервал его: — Ни за какие бананы! Лучше уже прыгать с хвостом. Ну, не волнуйтесь! Подкрепитесь сандвичами. Сейчас мы пойдем в редакцию. Я вас познакомлю с заведующим экономическим отделом. Это умница, голова, первый социолог. Европейская знаменитость! Он вам все растолкует лучше меня. Я ведь не политик, я, собственно говоря, комиссионер. Вот если вам понадобится, например, квартира с крохотными отступными или хорошие дамские чулки по двадцать семь франков за пару, тогда вспомните Сюскинда. Заведующий экономическим отделом Сергей Михайлович Аграмов принял Лазика чрезвычайно любезно. Он долго расспрашивал его о состоянии посевов, о росте оппозиции в Красной Армии, о ценах на мадаполам, даже о количестве абортов, причем сам же отвечал на все эти вопросы. Наконец, Лазик заинтересовался. — Вы таки европейская голова! Я гляжу и удивляюсь: как вы можете сразу и говорить, и писать? Это, наверное, фокус. А можно спросить вас, какой словарь вы там сочиняете? — Я записываю ваши слова. — Мои слова? Это уже два фокуса. Ведь я все время молчу, как дрессированная рыба. — Вот послушайте: «Беседа с крупным советским спецом. На первый же наш вопрос о московских настроениях X ответил: «Русский Набат» не пользуется авторитетом. Население с нетерпением ждет...» — Вы можете дальше не читать. Тот, с дамскими чулками, мне уже объяснил, кого ждет все обширное население. Тогда Аграмов сострадательно взглянул на Лазика. — Я вижу, что вы насквозь пропитались советской заразой. Это ужасно!.. Пионеры... Октябрята... Растление детских умов... — Извиняюсь, господин социолог, но мне уже тридцать три года, и я даже был полтора раза женат, считая за половину этот случай из-за клецок. — Вам тридцать три? Вы вдвое моложе меня. Политически вы младенец. Как ужасно, что огромной страной управляют такие дети! Вы сейчас будете ссылаться на Маркса. Но разве вы знакомы с первоисточниками? Страна с отсталым хозяйством не может претендовать на мировую гегемонию. Эти щенки думают, что они открыли Америку. Они случайно захватили власть. Они у меня отняли кафедру. Они должны уйти. Я могу сейчас же доказать вам это цифрами. Нет, не доказывайте. Я очень плохо считаю. Я на кроликах просидел три дня. Потом, зачем же вам в таком почтенном возрасте истреблять себя какой-то арифметикой? Вы думаете, мне вас не жаль? Даже очень. Вы, такой европейский счетчик, пропадаете с дамскими чулками. Я понимаю вашу ученую грусть. Я, конечно, не могу с вами спорить, потому что вы, наверное, кончили четыре заграничных университета, а меня до тринадцати лет кормили одним опиумом, так что я из всего Маркса знаю только факт и бороду. Но все-таки кое-что я понимаю. Ведь не один Маркс был с бородой. Я, например, могу осветить ваше позднее положение одной историей из Талмуда. Вы же не скажете, что Талмуд — это большевистская выдумка. Нет, Талмуд они даже хотели изъять из «Харчсмака», и ему еще больше лет, чем вам. Так вот, там сказано о смерти Мойсея. На личности, кажется мне, нечего останавливаться. Вы ведь только заведуете одним отделом, и значит, вас здесь десять или двадцать умниц. А Мойсей был всем: и, как вы, социологом, и генералом, и даже писателем, словом, он был европейской головой. Но так как евреи пробродили, шуточка, сорок лет по пустыне, он успел состариться, и, не принимайте это за справедливый намек, ему пришло время умирать. Бог ему спокойно говорит: «Мойсей, умирай», — но тот отвечает: «Нет, не хочу». Это же понятно!.. Так они спорят день и ночь. Когда я об этом читал в хедере, у меня волосы становились дыбом. Наконец, богу надоело. Он говорит: «Ты был полным вождем моего народа, но ты стар, и ты должен умереть. У меня уже готов кандидат. Это Иегошуа Навин. Он моложе тебя, и он будет полным вождем». Мойсей весь трясется от обиды. Он говорит: «Но я же не хочу умирать. Хорошо. Я не буду больше вождем. Я буду гонять простых баранов. Но только позволь мне еще немножечко жить». Что же, бог смутился: тогда еще на земле было мало людей, и он, наверное, не успел привыкнуть к человеческой смерти. Решено: старый Мойсей будет погонщиком баранов, а молодой Иегошуа будет полным вождем. Вы слышите, что за обида? Это похуже вашей кафедры! Весь день несчастный Мойсей гонял баранов, а вечером все собрались у костров, чтобы слушать умные разговоры. Все, конечно, ждут, что Мойсей начнет свою лекцию, но Мойсей молчит, Мойсей бледнеет, как эта стенка, и со слезами Мойсей говорит: «Я стар, и меня прогнали. Вот вам Иегошуа, он теперь знает все — и куда нужно идти из пустыни, и как получать манну, и как жить, и как радоваться, и как плакать». Что же, народ — это всегда народ. Они для приличия повздыхали и пошли к Иегошуа, а Иегошуа в это время уже разговаривал с богом обо всех текущих делах. Мойсей так привык к этим беседам, что он тоже подставил ухо. Но нет, он ничего не слышит. Он теряет терпение. Он кричит Иегошуе: «Ну, что тебе сказал бог?» Иегошуа молод, и, значит, он еще петух, ему наплевать на стариковские слезы. Он и отвечает: «Что сказал, то сказал. Когда ты был полным вождем, я, кажется, тебя не спрашивал, о чем ты беседуешь с богом. Нет, я тебя просто слушался, а теперь ты должен слушаться меня». И Иегошуа начал первую лекцию. Мойсей слышит, что Иегошуа еще молод, но не знает, об этом забыл, и он хочет вмешаться. Но нет у него больше ни огня, ни разума, ни настоящих слов. Он говорит, а народ его не понимает. Еще вчера они его носили на руках, а сегодня они ему кричат: «Ты бы лучше, старик, пошел к твоим баранам». Вот тогда-то не выдержал Мойсей. Кто знает, как он любил жизнь, как не хотелось ему умирать! Но он все-таки не мог пережить свое время. Он 105 так громко крикнул, что порвал все облака: «Хорошо, я больше не спорю. Я умираю». Конечно, господин социолог, вы не Мойсей, и я вовсе не хочу вашей преждевременной смерти. Нет, я знаю, что каждому человеку хочется жить, даже мне, хоть я самый последний пигмей. Но вы не должны сердиться на какого-нибудь нахального пионера. Он же не виноват, что ему только пятнадцать лет. Он молод, и он крикун, и он плюет на все. Он, может быть, на вашей дубовой кафедре устраивает танцы народностей. Что делать — на земле нет справедливости. Но если вы такой умница, почему вы ему кричите «вон!»? Он же не уйдет, а вы уже ушли, и вы с баранами, и точка. Пошлите-ка лучше за бутылкой вина, и мы с вами выпьем за нашу мертвую молодость. Аграмов иронически прищурился. — Ваше сопоставление не выдерживает критики. Параллели в истории вообще опасны. В данном случае была эволюция, смена поколений, прогресс. У нас же произошел насильственный разрыв. Революция — это преступление, коммунизм — это ребяческая затея. Только невежественные люди могут верить в утопии. Современная социология... Стойте! Вы снова хотите меня убить вашей дубовой кафедрой? Я же не знаменитость. Я с вами говорю по душам, а вы. устраиваете дискуссию. Вы думаете, я не знаю, что такое революция? Спросите лучше, сколько раз я сидел на занозах. Не будь этих исторических сцен, я бы теперь спокойно утюжил брюки дорогого Пфейфера. Я ее вовсе не обожаю, эту революцию. Она мне не сестра и не Фенечка Гершанович. Но я не могу кричать: «Запретите тучи, потому что я, Ройтшванец, ужасно боюсь грозы и даже прячусь, когда гроза, под подушку». Конечно, гроза— большая неприятность, но говорят, что это нужно для какой-то атмосферы, уж не говоря о дожде, который ведь поливает всякие огороды. Вы напрасно меня спрашиваете об уклонах командного состава или о беспорядках в Бухаре. Этого я не знаю, и все равно вы напишете это сами. Лучше я расскажу вам еще одну историю о том же Мойсее. Она, может быть, подойдет к нашему разногласию. Мойсей тогда еще был молод. Он был не вождем, а только ясным кандидатом. Вдруг бог говорит ему: «Иди сейчас же к фараону и скажи ему, чтоб он отпустил евреев на свободу». Мойсей отправился впопыхах, разыскал египетский дворец, оттолкнул всех швейцаров и говорит фараону: — Отпусти сейчас же евреев на свободу, не то тебе будет худо. Фараон прищурился, вроде вас: — Что за невежливая утопия? Кто ты такой? — Я посол еврейского бога Иеговы. — Иеговы? Фараон даже наморщил лоб. — Ие-го-вы? Я такого бога не знаю. Эй вы, ученые секретари, притащите сюда полный список всех богов! Секретари притащили целую библиотеку, потому что богов в то время было гораздо больше, чем теперь таких умниц, как, скажем, вы. День и ночь все ученые Египта просматривали списки. Вот бог с собачьей мордой, а вот с рыбьим хвостом, но никакого Иеговы нет и в помине. Тогда фараон расхохотался: — Ну, что я говорил тебе? Такого бога вообще нет, раз его нет в нашем замечательном списке, а ты нахальный мальчишка, и убирайся сейчас же вон! Но вы, конечно, знаете, господин социолог, что фараону пришлось очень худо. Что вы там снова записываете? Факт с фараоном? У меня нет времени для исторических анекдотов. Я заканчиваю интервью с вами. «X подтвердил также, что постановка высшего образования не выдерживает никакой критики. Вузы — образец запущенности, невежества, хулиганства. Старые кафедры занимают теперь полуграмотные юноши». Я, кажется, хорошо изложил ваши мысли? Теперь вы можете идти. Лазик вздохнул. — Пусть это будут мои мысли. Вы же кончили четыре университета, и все равно мне вас не переговорить. Тогда сосчитайте, пожалуйста, строчки или дайте мне просто на глаз какие-нибудь двадцать франков. Аграмов удивленно взглянул на Лазика. — Какие франки? Какие строчки? Вы здесь абсолютно ни при чем. Это — моя статья. Будьте добры немедленно покинуть это помещение. 31 Куда мне идти? Переходить без конца площадь, пока меня не раздавит какая-нибудь рассеянная арабка? Или взобраться на эту научную башню и оттуда прыгнуть вниз? Все равно рано или поздно придется умереть. Да, но одно дело — умереть, хорошо покушав, выпив, поговорив. Это даже не смерть, это интересный сон на кушетке. А умереть натощак скучно. Ведь я сейчас еще не подготовлен к таким музыкальным минутам. Все, конечно, увидят, что летит с башни печальный человек, и снимут шляпы: вот он падает вниз и думает о горных вершинах. А я, как самый низкий нахал, будут думать в это самое время о вчерашних сандвичах в «Ротонде». Если приподнять верхнюю крышку — волнующий сюрприз, например, сыр или даже паштет... Нет, я еще не готов к смерти, и лучше всего пойти в «Ротонду». Может быть, там я найду этого Сюскинда с чулками? Я выпрошу у него если не весь сюрприз, то хоть верхнюю крышку». Лазик робко вошел в «Ротонду», но, оглядевшись по сторонам, он тотчас же оживился. Правда, Сюскинда в кафе не было, зато он увидел немало посетителей подходящего вида. Они отличались от других парижан как меланхолическим взглядом, так и грязным бельем. «Наверное, они если не из Гомеля, то возле». 106 Лазик подошел к ближайшему столику: — Вы, может быть, гомельчанин? — Ничего подобного. Я как раз из Кременчуга. — Ну, это недалекое яблоко. Я так и подумал, что вы из окрестностей. А чем вы здесь интересуетесь? Дамскими чулками или обстановкой? — Вы таки в Гомеле отстали! Кто теперь станет возиться с чулками на модели или с комодом? Вы, может быть, скажете, что я беру еще яблоко или бутылку? Как будто теперь — это год тому назад! Когда мне нужен натюрморт, я не задумываюсь. Я беру кусок мяса, или птицу, или даже кролика. Лазик не выдержал, он облобызал меланхолического незнакомца. — Я тоже! Я тоже! У нас совсем одна душа! Незнакомец, однако, подозрительно нахмурился. — Вы, может быть, хотите подражать мне? Так этот номер не пройдет. Достаточно меня и так обкрадывают. Я вам не покажу моих картин, а если б я их показал вам, все равно вы ничего бы не сумели сделать. Кончено время голых штучек! Теперь всякий порядочный торговец требует, чтобы была чувствительность. Вот видите, за тем столом сидит Ленчук— он меня всегда обкрадывает. А там, в рыжей шляпе, — это Монькин. Он взял мою тушу и немножко передвинул ее. Но у торговцев есть еще нос. Они видят, что мой кусок мяса весь дрожит. Они не дураки, если платят мне за пятнадцатый номер тысячу двести. Сидевшие вокруг поддакивали: — Его мясо звучит... В «Осеннем салоне» возле его картины была такая толкотня, что даже поставили полицейского. — Вы же не знаете, с кем вы говорите? Это Розенпуп, и его имя на всех заборах. О нем столько пишут, что даже нельзя прочесть. Это о нем критик Куйбон сказал вслух: «Розенпуп сын Ренуара, и он скоро проглотит отца, как Зевс проглотил Хроноса». Здорово? — А бездарные Монькины пробуют еще рыпаться! Но они сидят в «Ротонде» и пьют несчастный кофе, а за Розенпупом охотятся американцы. Розенпуп расчувствовался: — Сегодня можно немножечко выпить. Я продал два Мяса, и я ставлю. Но с чего мы начнем? С пива или с коньяка? Лазика не приглашали. Грустно стоял он в сторонке. Наконец, не выдержав, он взмолился: — Извиняюсь, но подарите мне счастье сидеть рядом с вами. Я только сяду, и я ничего не буду пить. Я хочу вам сказать, что я вас обожаю. Я читал ваше имя на заборе, и я плакал вслух. О мясе я уже не говорю. При чем тут идиот Монькин? Он крадет объедки, а у вас хороший жирный кусок. Вы думаете, в Гомеле о вас не слыхали? Там только и говорят, что Кременчуг перепрыгнул всех. Я сам читал о вас реферат. Я кричал: «Этот сын Зевса проглотит все, что ему только захочется». Кстати, у меня уже жажда. Вы, конечно, угостите меня? Я хочу кофе и штучки с сюрпризами, чтобы внутри был паштет или ветчина, только, пожалуйста, три кофе и пять штучек. Вы не удивляйтесь, я вовсе не нищий, я сегодня уже обедал, и мое имя тоже будет на заборе. Это у меня такая привычка — глотать хлеб залпом. Я ведь большой оригинал. Закончив кофе и бутерброды, Лазик решил поговорить по душам. — Здесь очень симпатичная жизнь! Это гораздо приятней, чем каяться перед поступью. Но скажите мне, мосье Розенпуп, у вас, может быть, мясная лавка с приложением дичи или вы просто знаменитый повар, потому что я не понял двух-трех парижских оборотов? В бешенстве Розенпуп разбил все рюмки. — Он смеет острить, этот негодяй! И еще после пяти сандвичей! Я же сразу почувствовал, что он снюхался с Монькиным и Ленчуком. Когда вы разговариваете с первым художником мира, вы вообще должны молчать. Я знаю, вы хотите меня обокрасть! Стащить зеленого кролика или тушу. Но это не пройдет! Я вас не пущу на порог. И убирайтесь вместе с Ленчуком подкупать критиков, чтоб они обо мне не писали! Как будто я не знаю, кто устраивает это молчание после «Салона»! Ленчук и вы. Кто у меня отбил всех торговцев, так что я теперь ничего не продаю? Монькин и вы. Убирайтесь, а то!.. Лазик предпочел не дослушать угрозы. Зачем расстраивать себя после стольких вкусных сюрпризов? Он быстро встал, сказал «мерси» и направился к Моиькину. — Мосье Монькин, будем уже знакомы. Что? Вы не знаете, с кем говорите? Это таки странно. Я, например, уже знаю о вас все подробности. Я еще в Москве повсюду кричал: «Монькин проглотил Зевса». Мы там стояли и удивлялись, как ваше мясо гудит. Смешно, когда этот дурак Розенпуп пробует вас обокрасть. У вас, наверное, есть американский замок, а он голая бездарность. Я сидел сейчас с ним, и я швырнул ему всю правду в лицо, так что он разбил четыре стакана. Но с вами я говорю как с вполне равным. Вы спрашиваете, кто я? Я — Лазик Ройтшванец, и я второй художник мира, если вы, скажем, первый. Мы можем устроить могучий союз. Правда, моего имени еще нет на заборах, но это потому, что я временно скрываюсь: ведь за мной охотятся настоящие американцы. Я тайная знаменитость. Где мои картины? Уже в торговле. Адрес я не могу вам сказать. Это ужасный секрет. Я скажу вам его через несколько дней. Я даже возьму вас в эту огромную торговлю. А теперь поговорим о текущем моменте. Пить я больше не хочу, но я пойду к вам ночевать, потому что я еще не нашел в Париже подходящего помещения. Не бойтесь, я вас не будут обкрадывать, я не ничтожество Розенпуп. Монькин оживился. — Это вы правильно говорите. Настоящее ничтожество! Он смеет еще кричать всем критикам, что я пачкун. Он же ничего не понимает в живописи. Он так отстал, что на него смешно глядеть. Да, теперь нужно пачкать, нужно кидать краску, чтобы чувствовалось мясо, а он не пишет, он рисует, он смехотворный выскочка. Он отбил у меня торговца: «Поглядите, Монькин не думает над картинами». Но спросите того же 107 торговца, он первый вам скажет: «Теперь думать вовсе не нужно, нужно, чтобы в каждом сантиметре дрожал кусок». Лазик горячо поддержал Монькина: — О Розенпупе не стоит говорить. Это пустой сантиметр. Я же с детства разделяю ваши тезисы. Но мы с вами не будем ссориться. Можно, кажется, разделить мир между двумя безусловными знаменитостями. Я не говорю о пустых бутылках или об яблочном пюре. Это мы оставим Дрекенкопфам. Но вы возьмете себе мясо, и капусту, и тарелки, и все, что захотите, а я буду класть только кроличьи бананы, потому что в этом я совершенный спец. А теперь идемте-ка спать — я что-то устал от этой чувствительности. На следующее утро Монькин показал Лазику свои произведения. — Ну, поглядите на этот холст. Здесь все течет одно из другого. Лазик прищурил один глаз, потом другой и с видом знатока процедил: — Симпатичная картинка. То есть я хотел сказать, что это гениально, как Зевс. Это так содрогается, что трудно глядеть натощак, каждый кусок прямо лезет в рот. Скажите, где вы достали такие чудные котлеты, чтобы они перед вами позировали? Монькин удивился. — Это же не котлеты. Это мой автопортрет. Впрочем, разве в сходстве дело! Сходство теперь не в моде. Я беру одни кусочки. Я их оживляю. Понимаете? Сейчас я начал натюрморт с уткой. Вот полюбуйтесь, какой сочный холст: утка, морковь на фоне оливкового бархата. Я только боюсь, что утка сделана чуть-чуть сухо. Лазик, взглянув на картину, быстро спросил: — А где же живой оригинал? — Вон там, на столе. Ну, мне надо торопиться. У меня не осталось ни су, а натощак не идут никакие мысли. Пойду ко всем торговцам, попробую всучить кому-нибудь этот автопортрет хоть за пятьдесят франков. Негодяй Розенпуп, он завалил все галереи своей дрянью. Вы можете остаться. А если вы уйдете, положите ключ под дверь. Лазик остался. Часа два или три он честно ждал возвращения Монькина. Монькин вернулся только под вечер. Он нашел ключ, как было условлено, под дверью. На столе лежала записка: «Дорогой мосье Монькин, честное слово, я не виноват! Вы же сами сказали, что натощак не идут мысли. Я каюсь, как я не каялся на докладе. Но я спрашиваю вас: почему вы меня оставили с ней вдвоем? Я долго боролся. Кто знает, сколько раз я подходил и отходил!.. Потом я увидел керосинку и даже кастрюлю. Вы, конечно, прости-те меня. Вы ведь ее уже немножко нарисовали, а кусочки вам придут в голову. Вы же не какой- нибудь жалкий Розенпуп. Морковь я тоже взял, потому что без гарнира невкусно. А оливковый фон я вам оставил целиком. Я клятвопреступник и достоин оплевания. Но с аппетитом не шутят. Когда-нибудь я отплачу вам с процентами. Я подарю вам всех торговцев мира, а пока что цветите как первая знаменитость, и не вспоминайте меня каким-нибудь лихом. Я ваш компаньон Лазик Ройтшванец. P.S. Вы напрасно ее оклеветали, что она сухая. У нее на задочке был такой жирок, что я еще сейчас лижу губы». 32 Прошло две недели, и все в «Ротонде» уже знали Лазика. Он заставлял американцев, приходивших поглядеть, «как живет парижская богема», угощать его сандвичами или же сосисками. Держался он независимо. — Вы потом расскажете в вашей Америке, как вы охотились за знаменитым Ройтшванецом. Вы не видели моих зеленых кроликов, и вы их не увидите, потому что я живу, как монах, для искусства. Что вы понимаете в сочных сантиметрах? Как будто я не вижу, что вы на меня смотрите прямо-таки неживописными глазами. Американцы робко возражали: — Мы были в Лувре. Мы видели «Джоконду»... — Мне неловко сидеть рядом с вами. «Джоконда»!.. Но ведь это бутылка, и это сделал мой самый последний ученик. Лазик быстро усвоил нравы «Ротонды». Он умел теперь пугать новичков, одалживать с нахрапу франк и подкидывать пустую чашечку зазевавшемуся соседу. Правда, Розенпуп и Монькин были безвозвратно потеряны. Что же, он подружился с Ленчуком. Он сумел опередить Монькина. — Сейчас придет этот вор, который крадет все у Ленчука, и он скажет, что я у него украл, с больной головы на здоровую, живописную утку. Но он сам в это не верит, и он крадет у первого попавшегося свой собственный портрет. Художники недоумевали: откуда он взялся, этот Ройтшванец? Что он делает? Лазик отвечал уклончиво: адрес — секрет, все скоро выяснится, а за будущее он спокоен. Некоторые говорили: «Просто жулик». Другие возражали: «Нельзя так завидовать чужому успеху». Они уверяли, что кто-то видел картины Лазика и чуть не рехнулся от восторга: вот где настоящая живопись! Куда тут Монькину или Розенпупу! Слава Лазика росла. Жил он впроголодь, но, выудив у одного датчанина, растроганного величием искусства, двадцать франков, немедленно заказал визитные карточки: «Лазарь Шванс. Артист-художник». Шванс — это звучит по-парижски, это коротко и вежливо. Например: «Мерси, мосье Шванс». От этого можно заплакать. Карточки вместе с гордой осанкой сделали свое дело. Как-то в «Ротонде» к Лазику подошел господин, весьма прилично одетый, и, приподняв котелок, сказал: 108 — Вы — мосье Шванс? Не так ли? Я о вас много слыхал. Я ведь часто захожу в «Ротонду» выпить аперитив. Я живу здесь рядом. Мой магазин унитазов вот там, за углом. Я хотел бы переговорить с вами. Дело в том, что в нашей отрасли теперь кризис, а я все время только и слышу, как богатеют продавцы картин. Мне говорили, что один торговец платил художнику по двадцать франков за картину. Художник умер, и теперь каждая картина стоит сто тысяч. Вот это значит — пустить капитал в оборот. Мне еще говорили, что здесь все художники быстро умирают, и это, конечно, торговцам на руку. Вот я и решил немного заняться искусством. Я ищу молодой талант, чтобы рискнуть. О вас говорят, что вы загадка. Это мне нравится. Потом, у вас, простите меня, сложение не богатырское, так что я вправе рассчитывать, что вы, упаси вас боже, очень скоро умрете. Лазик заметил: — Да, я тоже так думаю. Ройтшванец, или, по-здешнему, Шванс,— фейерверк, и он моментально сгорает. От меня уже мало осталось — только аппетит, философия и два-три постыдных анекдота. Но что же вы мне предлагаете? — Я предлагаю вам подписать контракт на всю вашу жизнь. Вы должны изготовлять в месяц пять картин и сдавать их мне. Я вам буду платить по пятьдесят франков за штуку. Но раньше всего я хочу поглядеть на ваши работы. Последнего я не понимаю. Как будто вы не знаете палитры Шванса? Прочтите на заборах! Это не холст, а чувствительность, так что все парижские дамы плачут, как у иерусалимской стены, хоть перед ними зеленый кролик или даже ваш автопортрет. Сходство — это позапрошлый скандал. Я ни минуты не думаю, я только теку сам из себя, и я пачкаю, как самый гениальный пачкун. Возьмите миллиметр — его же нет, это арифметика, а у меня он живет, он трепещет, он уже кусок в золотой раме. В это время, представьте себе, раздается мой предсмертный кашель. Вы плачете, вы даете мне касторку, вы кричите: «Шванс, не умирай». Но я вежливый оригинал, и я отказываюсь от вашего совета, я умираю. А у вас на руках целый холстяной завод. Вы сразу становитесь Ротшильдом. Это же не глупые унитазы! — Я понимаю, что вы не хотите показывать ваших работ другим художникам. Но мне вы можете их показать. Право же, я заслуживаю доверия. У меня здесь семнадцать лет магазин. Вот моя визитная карточка: «Ахилл Гонбюиссон». Мосье Ахилл, если вы так настаиваете, я скажу вам, что со мной случилась маленькая неприятность. У меня были деньги. Я каждый день ел уток, и я катался в атомобилях через площадь, и я заказывал себе разные карточки, вроде этой. Но потом деньги случайно закончились, я скрепил мое сердце, я сжал зубы, я понес в мешке все драгоценные картины, и я их заложил у одного торговца рыбьим жиром за жалкие пятьдесят франков. Это же может случиться со всяким, и с Монькиным, и с самой Джокондой. Вы мне даете уже за одну штуку пятьдесят франков, чтобы перепродать ее после моей безусловной смерти ровно за сто тысяч, а там лежат сто штук, и стоит мне отнести этому рыбьему иску пятьдесят франков, как вы сможете плакать перед всеми шедеврами. Ахилл Гонбюиссон покряхтел, повздыхал и дал Лазику пятьдесят франков. — Вот, распишитесь. Что поделаешь — кто не рискует, тот и не выигрывает,.. Вечером Лазик разыскал в «Ротонде» Монькина. — Я же написал вам в той самоубийственной записке, что вы получите сторицу. Во-первых, вот вам адрес замечательного торговца. Вы не глядите, что в окне белое неприличие. В душе у него живописный восторг. Вы сможете продать ему даже вашу автопортретную котлету, потому что я давно не видел такого стопроцентного дурака. А во-вторых, я сейчас поведу вас в роскошный ресторан, и там вы получите какую угодно утку с полным гарниром. Выпив в ресторане стакан вина, Лазик заплакал. — Я плачу от красоты! Если на свете существуют, скажем, эта Джоконда, и сын Зевса, и вы с вашим портретом, то можно ли не плакать? Я ведь в душе настоящий художник. Столько раз я мысленно рисовал глаза Фенечки Гершанович на фоне гомельской сирени! Уж кто- кто — чувствительный, это я. Я сегодня увидел в одном кафе девушку, и я чуть не попал под арабский автомобиль. У нее были глаза до ушей и губы, как флаг, который я храбро носил в мои счастливые дни. Вы не знаете ли, кстати, кто она? Потому что я сейчас решил: я или поцелую ее, или умру. Вы же видите, сколько у меня чувства! Я сейчас швыряю краски, и она уже дрожит в моей голове. Да, все это так, только что со мной будет завтра?.. Хорошо умереть от любви, но не от шведской гимнастики, а у этого унитаза вместо рук пулеметы. На следующее утро Лазик решил сидеть дома и к «Ротонде» не подходить за версту. Но вспомнив глаза прельстившей его особы, он не вытерпел: — Я пойду на цыпочках, и я буду все время нырять в подъезды. Пусть я умру, но я хочу увидеть ее перед смертью. Увы, он увидел не ее, а мосье Гонбюиссона. — Вы меня обманули!.. — Спрячьте, пожалуйста, ваши пулеметы! Что я могу сделать, если они пропали? Я больше потерял, чем вы. Возьмите карандашик и сосчитайте. Вы потеряли пятьдесят, помножим на один — пятьдесят, а я сто, помножим на пятьдесят — пять тысяч. Вы видите. И я все-таки его не убил, так что положите пулеметы во внутренние карманы. Я плакал всю ночь, у меня распухли глаза. Может быть, я к вечеру поправлюсь и тогда моментально сделаю вам десять полных шедевров, но, конечно, у меня нет ни холста, ни красок, ни кролика, чтоб он мне безусловно позировал. Если бы вы еще раз рискнули... — Дудки!.. Вы думаете, если вы по карточке артист, а я продаю унитазы, то вы будете водить меня за нос? Я вас могу отвести в префектуру. Я вас могу раздавить на месте. Видите эти руки? Но я сделаю последнюю пробу. Я дам вам холст, краски, модель... Работать вы будете у меня. Под замком. Поняли? 109 И, сказав это, Ахилл Гонбюиссон повел трепещущего Лазика к себе. — Кого вы хотите писать? Мужчииу? Женщину? — Нет. Это позапрошлый сезон. Я пишу только мясо. Одним словом, я хочу писать кролика, но чтоб он был не в болванском меху, а уже окончательно зажаренный. Ахилл Гонбюиссон вскоре принес холст, краски, кисти и большого кролика. Он ворчал: — Выдумщики эти артисты!.. Вот, едва нашел в колбасной. Знаете, сколько он стоит? Восемнадцать франков! Ахилл Гонбюиссон запер Лазика и ушел. Лазик поглядел в окно: нет, отсюда не прыгнешь, это почти что научная башня. Вспомнив назидания Монькина, он стал пачкать красками холст, но краски пачкали, главным образом, его руки. Кисти вскоре поломались. Ничего не получалось — ни собственного портрета, ни кролика. — Сейчас он меня убьет. Это последние минуты приговоренного Ройтшванеца. Что же, если мне предстоит такая смерть, я хоть скушаю напоследок этот зажаренный банан. Он предался неизъяснимому блаженству. Когда пришел Ахилл Гонбюиссон, от кролика оставались только тщательно обглоданные косточки. Ахилл Гонбюиссон прорычал: — Где картинка? — Ой, прощай, моя родина! Прощай, матушка-Гомель! Где картинка? Ее еще нет. Во-первых, она могла не выйти. У нас в Гомеле был фотограф Хейфец, он снимал за шестьдесят копеек даже двоих и в венчальном платье, но у него часто ничего не выходило. Это как на дикой охоте — бывают промахи. — Скотина! Жулик! Бери кисти и мажь! Гляди на модель! Очень кротко, задушевно Лазик промолвил: — Его уже нет. Что вы меня трясете? Я же не вытряхну из себя сто картинок!.. Торгуйте вашими унитазами, но оставьте меня в покое. Ой, как мне больно!.. Я не художник, чтобы сидеть и пачкать материю, я честный портной. Только не деритесь! Я могу вам перелицевать брюки. Я сейчас умру... Вы думаете, вы из меня выжали картинку? Злодей? Это — кролик, единственный кролик за всю мою страдальческую жизнь!.. 33 «Ротонда» была вытоптана, как луг стадом кочевника. Американцы перестали даже оборачиваться на Лазика. Увидев его издали, завсегдатаи кричали: «Франка, положим, не будет!» Лакеи требовали деньги за кофе вперед. Напрасно Лазик уверял, что огромный синяк на его лбу носит спортивный характер: — Я участвовал в гонках, пятьсот миллиметров в один час, и арабка таки перевернулась на спину. История о том, как он сожрал кролика у Ахилла Гонбюиссона, обошла весь квартал. Друг Монькина Шпритц нарисовал карикатуру «Рождение Венеры». Он изобразил Лазика голым, в синяках и в кровоподтеках среди морской пены. Лазик стоял в фаянсовой раковине изделия Ахилла Гонбюиссона, стыдливо прикрываясь, а сверху на него сыпались дары земли: курицы, утки, кролики. Лазик не обиделся, он только заметил, восстанавливая истину: — Те штуки были совсем другой формы. Впрочем, дело не в сходстве. Карикатуру повесили в «Ротонде», и один американец купил ее у Шпритца за сто франков: на память о самом типичном посетителе «Ротонды». Лазик попробовал вмешаться и попросить сандвич, но был с позором отогнан. Когда все возможности были потеряны и предстояла голодная смерть под одним из тех заборов, на которых должны были значиться победоносные имена Розенпупа или Монькина, пришло неожиданное избавление. Луи Кон, известный в светских кругах Парижа как сноб, гурман и ловелас, увидев Лазика у витрины жалкой колбасной, приютил его, более того, он сделал из грязного оборванца своего личного секретаря. Лазик щеголял теперь в широчайших штанах, вздыхая: — Это изведенный материал на троих. Он ел в лучших ресторанах и катался в сорокасильном лимузине. Его портрет был напечатан в журнале мужских мод «Адам» со следующей надписью: «М. Лазариус Шванс, наш молодой гость, полесский принц, друг М .Луи Кона». Лазик портрет вырезал и положил его бережно в карман, где хранилось изображение португальского бича. Однако, прежде чем говорить о новой службе Лазика, я должен остановиться на неизвестной особе с яркими губами, благодаря которой ему пришлось ознакомиться с тяжелой рукой Ахилла Гонбюиссона. Каждый вечер она сидела в маленьком кафе напротив «Ротонды», и каждый вечер Лазик стоял у двери, чтобы еще раз взглянуть на ее чересчур длинные глаза. Мадемуазель Шике его, разумеется, не замечала. Один раз, выйдя из кафе, шатаясь от коктейлей, она приняла его за грума: — Позовите такси! Взволнованный дивным голосом, Лазик не двигался с места. Она его подтолкнула зонтиком, а когда он наконец подозвал автомобиль, дала ему франк. Лазик швырнул монету в оконце автомобиля: — Купите себе на эту сумму какую-нибудь орхидею, потому что я люблю вас сильнее, чем я любил Фенечку Гершанович! Когда судьба Лазика резко переменилась, первым делом, отпросившись у Луи Кона, он направился в заветное кафе. Он сел за столик рядом с мадемуазель Шике и заказал бутылку шампанского. Весь вечер он не сводил с нее глаз. Девушка наконец не выдержала: — Что вы на меня смотрите, как кот на сметану? — Нет, ни один кот не может так смотреть. Даже я, когда у .меня был покойный аппетит, даже я не смотрел так ни на сметану, ни на печенку в сметане, ни на кролика. Вы меня не узнаете? Я три недели стоял у 110 этих дверей без дыханья. Я еще подарил вам ваш франк на орхидею. Интересно, какой цветок вы тогда себе купили? Конечно, на один франк нельзя сделать настоящее цветочное подношение. Но третьего дня я неслыханно разбогател, потому что какой-то болван нашел во мне темперамент, и завтра я вам куплю анютиных глазок на целую тысячу франков, только позвольте мне еще десять минут смотреть с отчаянием на вас. Мадемуазель Шике оживилась: — Чудак!.. Хотите танцевать? — Ни за что! Я знаю все эти прыжки наизусть, но у меня нет сейчас научного подхода. Я боюсь, что я зайду не туда, как товарищ Серебряков. — Ну, как хотите. Можно, я к вам подсяду? Вы что пьете? Шампанское? Они чокнулись. Лазик выпил бокал залпом. У него кружилась голова от вина и счастья. Мадемуазель Шике щекотала его локоном. — Вы совсем дитя. — Я — дитя? Вы, конечно, уничтожаете меня сарказмом. Если мне даже тридцать три года, то я еще не старик. Настоящие страсти вовсе не у молодых скакунов с горячими глазами. Нет, в двадцать лет человек все равно бесплатно горит. Он горит от любви, или от какого-нибудь классового идеала, или просто от высокой температуры. Но, спрашивается, сколько у него чувств в эти двадцать лет? Охапка или две охапки, и они моментально сгорают. Что остается? Искорка. И вот проходят годы, и эта искорка вдруг вспыхивает. От нее бывает такой мировой пожар, что не успеешь крикнуть «караул», как уже сгорает все сердце. — Я тоже люблю мужчин постарше. Они требовательней, зато они понимают, что им дают. У тебя, наверное, тонкий вкус. Расплатись, и поедем. Лазик ничего не соображал. Он едет прямо к ней! А где орхидеи? Он должен сейчас танцевать от восторга. Один? Да, один! Почему нельзя? Ее зовут Марго. Вот это имя! Она, наверное, Венера, которая сбежала ночью из американского Лувра. Зачем он пил шампанское с искрами, когда он и так сходит с ума? Арабка, не трясись! Что она делает? Она целует его в ухо! Вы понимаете: в ухо Ройтшванеца, в это жалкое гомельское ухо дышит сумасшедшая богиня! Лестница? Хорошо, он поднимается. Он будет реветь от счастья, как антилопа. Нельзя реветь? Спят? Кто может спать, когда уже землетрясение? Войдя в комнату, Марго упала на диван и стала истерически хохотать. — Я сейчас умру от смеха... Я еще никогда не видала такого чудака!.. А Лазик благоговейно говорил: — В этом раю я буду ходить только на цыпочках. Насмеявшись, Марго деловито сказала: — Цветочное подношение ты сделаешь не завтра, а сейчас. Это вернее. Мы ведь пили шампанское. Ты не понимаешь? Но ты ведь сам мне сказал. Тысячу. Да, да! Я тебя не знаю. Не хочешь? Тогда можешь убираться. Я не знаю, к каким порядкам ты привык, но у меня полагается до. Понял? Что за обязательная афиша? Конечно, если выдумать сто церемоний, то вообще можно перестать жить. Я вам скажу, что набожный еврей должен перед тем, как он поспит с женой, вымыть руки и после этого снова помыть руки. Перед, потому что ему предстоит настоящее богоугодное дело, а после, потому что он, конечно, делает богоугодное дело, но ведь он трогает такую небогоугодную вещь, как, скажем, совершенно голый живот. Это очень тонко придумано. Но что же получается в итоге? Вместо самой великой любви какой-то сплошной рукомойник. Вы ведь не соблюдаете обрядов. Почему же вы меня мучаете разными «до» и «после»? Хорошо, я вам дам эти бумажные орхидеи, но не терзайте мое скачущее сердце постыдной бухгалтерией. Спрятав деньги, Марго стала раздеваться. — Малыш! Идем спать... Тогда Лазик окончательно протрезвел. — Одно из двух: или вы сбежавшая Венера, или вы стопроцентная марксистка и посещали лекции товарища Триваса. Что значит «идем спать», когда я дорожу розовыми предпосылками? Я хочу с вами порхать и щебетать, и говорить о любви, и петь вам колыбельные песенки, и носить вас на руках, как тихую былинку, и умереть от того, что это не жизнь, а рай. И вот вы предлагаете мне голые функции. Но вы же не госпожа Дрекенкопф! Ваше имя уже благоухает, не говоря о губах. Если вам хочется спать, спите. А я буду сидеть в этом кресле и заслонять вас ладонью от ветра, чтобы он не развеял мой предпоследний идеал. Марго махнула рукой. — Черт с тобой — сиди! Очень ты мне нужен! Блоха! Ее мутило от вина и от усталости. Приняв горячую ванну, она легла и быстро уснула. Лазик сидел и вздыхал. На земле нет справедливости. Нюся сказал ему, что он клоп. Марго спустила его на блоху. Разве в росте дело? Его любовь такая великая, как научная башня. Но они этого не понимают. Если в Лувре стоит какая-то Венера, американцы ведь не хватают ее пальцами. Они платят за вход, и они плачут от счастья, что они в одной комнате с этим безусловным камнем. Хорошо, пусть я блоха! Но я не буду сразу лезть в небесный пейзаж со своим кустарным производством. Я буду лучше чувствовать, что я сижу рядом с ней. Я буду глядеть на это ослепление... И Лазик взглянул на спящую Марго. Тогда раздался писк, полный отчаяния: — Умоляю вас, скорее проснитесь! Вас обокрали! Это какой-то мистический туман! Где ваши длинные глаза? Где ваши первомайские губы? Где ваши брови, черные, как мой страх? Или это я ослеп от новобрачного ожиданья? Ответьте мне скорее, не то я созову весь дом, чтоб они меня посадили в сумасшедшую клинику! Марго терла глаза и перепуганно смотрела на Лазика. Сообразив наконец, в чем дело, она стала ругаться: 111 — Проходимец! Босяк! Ты недаром выклянчивал франки. Ты думаешь, если ты украл у кого-нибудь тысчонку, то можешь себе все позволить? Что я, манекен? Я должна с тобой петь детские песенки? Идиот! Ты думаешь, что я буду спать намазанная? А что станет с моей кожей? Скотина! Ты хочешь, чтоб я себя изуродовала за тысячу франков? Подлец! — Тсс! Остановитесь в списке! Я уже понял. Значит, вы сочный холст, и каждый сантиметр гудит. Вас, наверное, пачкает Монысин, потому что у него самая богатая палитра. А ночью вы— как госпожа Дрекенкопф. Вся разница в том, что клецки теперь у меня. Какой ужас! Вы ведь как моя тетя. Но она торговала в Глухове яйцами. А вы? Чтобы женщина в таком почетном возрасте стояла бы на подрамке, и чтоб ее кололи кисточкой, и чтобы потом она прыгала в кафе, как угорелая девчонка, ради одного подлога, но ведь это же не гомельская пенсия инвалиду труда, а только бездушный хохот из Мефистофеля. Едва Лазик успел закончить свою трогательную речь, как в него полетели различные предметы. Взбешенная Марго не колебалась в выборе снарядов. Осколок горшка расшиб нос Лазика. Спускаясь по лестнице, Лазик старался не вздыхать: они ведь спят среди землетрясения. Но было уже утро, привратница остановила его: — Откуда вы идете? Почему у вас на лице кровь? Лазик попытался резонно объяснить ей, в чем дело: Последнее время меня преследуют изделия этого Ахилла Гонбюиссона. Что делать — от своей судьбы не ускачешь. Теперь господин Луи Кон будет меня ругать — я ведь испортил его трехспальные штаны, не говоря уже о носе. Но, если вы не спите, я громко вздохну. Я вздохну не из-за носа. Нос привык. Я вздохну как философ, потому что произошло полное раздвоение, и я не знаю, с каким воспоминанием мне жить? С одной стороны — Венера, а с другой — инвалид труда, и все вместе — это моя любовь на пятом этаже слева, которая еще живет и трепещет. Вы, мадам, похожи на мою проклятую судьбу, у вас даже метла наготове. Скажите мне просто, что такое жизнь, и любовь, и погасшие звезды? — Увы, привратница вместо высокой философии прибегла к не к добру помянутой метле. 34 Господину Луи Кону было двадцать восемь лет, но он отличался мудростью и широтой взглядов. От отца, фабриканта овощных консервов, унаследовал он круглую сумму. Он стремился истратить ее весело и непринужденно. Он любил, чтоб об его странностях писали в хронике светских газет. Лазик сменил злополучного лангуста, которого Кон таскал за собой на цепочке по Елисейским полям. — Ах, вы русский? Вы, наверное, большевик? Это хорошо. Мы задыхаемся среди академизма. Я знал Расина уже в колыбели. Третья республика — это царство мелких лавочников. Вы будете для меня зовом с востока. Ведь в ваших глазах горит революционный мистицизм. О, как бы я хотел увидеть вашу Красную площадь, когда китайцы присягают Шарлю Марксу, а женщины в шароварах исполняют половецкий танец! Я обожаю неожиданность, джазбанд, революцию, синкоп! Недавно я ужинал у виконтессы Писстро, и там я неожиданно, после фазана, вытащил из кармана красный флаг. Я выкинул его перед всеми изумленными академиками. Об этом даже писали в «Фигаро» как о злой шутке. Но это далеко не шутка. Парламент меня боится, потому что я, Луи Кон, — коммунист. Лазик совсем растерялся. — Ужасно трудно путешествовать, когда не знаешь готовых оборотов. Дождь, конечно, повсюду дождь. Но вот с политикой будет похуже. Я бы сказал по виду, что вы — наоборот. Но если у вас здесь такая дисциплина, тем лучше. Я был в Киеве кандидатом, и там я сорвался, но здесь я, наверное, пролезу. Как будто я не сумею выкинуть флаг после фазана! Скажите, значит, у вас нет контрольной комиссии? И вы можете танцевать, заходя куда Угодно ногой? И вас не заставляют целый день заполнять анкету? Но тогда запишите меня скорей в эту замечательную ячейку! — Фи! Как же можно входить в какую-то партию! Ведь это значит соприкасаться с чернью. Это — все равно что ездить в трамвае. Я — духовный большевик. Я люблю все, что идет с востока. Скажите, кстати, вы не буддист? Жаль! У меня в столовой Будда пятого века. Вы могли бы перед ним молиться. Я ведь никогда еще не видел, как молится живой буддист. Это должно быть очень пикантно. Ах, вы еврей? Это неинтересно. Это религия мелких лавочников. Тогда знаете что — примите католицизм. Я обожаю культ Святой Розы. Конечно, идея бога это для тех, кто ездит в трамвае. Но ведь остается образ непорочного зачатья, мистические пророчества, туман. Наконец, что делать— это модно. Не стану же я ходить в узких брюках или в длинном пиджаке! Словом, в ближайшее воскресенье я буду вашим крестным отцом, а виконтесса Писстро вашей крестной матерью. — Если в этом — вся моя служба, пожалуйста. Я — настоящий двадцатый век, и после фазана я могу даже молиться перед вашим пикантным Буддой, если вы только напишете мне заранее все слова. Вы обязательно хотите, чтоб я влез в этот непорочный туман? Я влезу. У вас, кажется, это проходит без особых операций, и я понимаю, легче, чтобы меня выкупала в мистической воде эта моя виконтессная мама, чем чтобы, скажем, вас обрезали мелкие лавочники. Точка. Я уже большевистский католик. Теперь скажите, что я должен в точности делать как ваш ученый секретарь? — Не говорите так громко и так быстро. У меня сделается мигрень. Вы должны говорить так, чтобы все чувствовали, что вы между двумя словами готовы умереть от безразличья. Это гораздо вежливей. Только изредка, когда я буду кивать головой, вы можете проявлять ваш восточный темперамент. Среди ваших обязанностей одна из первых — обедать со мной. Лазик просиял, но так как Луи Кон не кивал головой, он превозмог свои чувства. Они поехали в ресторан. Метрдотель, который, видимо, хорошо знал Луи Кона, сразу записал: «Лапша на воде и яблочное пюре». 112 Потом он спросил: — Что будет есть господин? — Вот этим мы сейчас займемся. — Луи Кон изучал карточку не менее часа. Лазик изо всех сил пытался удержать обильные слюнки. Наконец обед был заказан. — Мой друг, вы приобщаетесь к великому искусству. Я не буду развивать вам философские системы Саварена. Но что такое вся эстетика, поэзия, мораль, чарльстон, синкоп, вторая реальность, граф Лотремон, наконец, моя усмешка? Это только достижения поваров. Четыре года тому назад мне подали в ресторане «Пе-де-Нон» пулярку метра Эмиля. Она была фарширована дичьей печенкой с трюфелями и апельсинами, под соусом из хереса шестьдесят третьего года, и в ее окружение входили донышки артишоков по-тулузски, то есть в белом вине, со взбитыми яйцами. Я помню этот день как поэму революции, как первый аккорд Стравинского, как облатку святой евхаристии. Я изучил все блюда Франции, и я мог стать первым знатоком хотя бы перигорских паштетов. Но, увы, мы все, из рода Конов, отличаемся деликатным телосложением. Я заболел гастритом, энтеритом, нефритом, артритом, подагрой. Я могу есть только лапшу на воде и яблочное пюре; вместо вина — минеральная водица. Я страдаю, как ослепший живописец, ведь я хорошо помню вкус любого соуса, и я никогда не ошибусь в годе «Лафита». Что же, я решил углубить эти муки. Я буду кормить вас самыми изысканными яствами, я буду наслаждаться вашим восторгом неофита, нюхать омара или камамбер и объяснять вам всю торжественность каждой минуты. Я превращу ваши обеды в богослужение. Что вам подали? Маренские устрицы? Не глотайте! Медленно жуйте! Это говорит с вашим небом Атлантика. Глоток «Шабли». Оно полно осенней сухости и свежести. Утренний холодок тронул гроздь. Вы слышите легкий привкус дроби? Сейчас вам подадут пятнистую форель, а к ней сухое «Вувре» 21 года. Оно молодое, но в нем цветы Лауры, в нем смех Рабле, в нем... Лазик больше не слушал Кона. Честно поглощал он все, что ему приносили лакеи. Но после шестого блюда он не выдержал. Отодвинув тарелку с фазаном, он вежливо поблагодарил как метрдотеля, так и Кона. — Мерси. Это странно, но аппетит тоже кончается. Теперь мы можем поговорить с вами о чем-нибудь очень высоком, например, об этом половецком синкопе, я тут что-то не понял. Почему у вас сначала идет Красная площадь, а потом вдруг оказывается непорочное зачатие? У нас в Гомеле вас бы за это не погладили по головке. Мода, друг мой, мода. Истинная свобода состоит в подчинении. Те, что ездят в трамваях, подчиняются пошлой морали, а мы, избранные, подчиняемся моде. Теперь надо быть слегка большевиком, слегка католиком. Это неуловимые нюансы, как перец, мед, пикули и мараскин в соусе «Клеридж». Не стану же я танцевать уанстеп или играть в крокет, когда теперь модны блекботом и гольф. Но напрасно вы отодвигаете тарелку: я ведь только вхожу во вкус, вам предстоят еще девять блюд. Этот фазан пахнет, как пророчества Нострадамуса. Он пахнет сладостным разложением всей латинской культуры. Я ручаюсь, что они его выдерживали не менее недели в тепле. Он постепенно приобретал этот «букет». Понюхайте! Вы слышите дыхание смерти, мифологических грибов, рокфора, тысячелетнего сна? Лазик осторожно понюхал птицу и взвыл: — Я теперь понимаю, почему вы начали после фазана выкидывать разные флаги! От такого аромата вообще легко умереть. По крайней мере, со мной уже начинается этот половецкий синкоп. Вы знаете, чем это пахнет? У нас в Гомеле выезжает одна нахальная бочка и... — Замолчите! Возьмите лапку! Вы обязаны. Не забывайте: вы мой личный секретарь. Глоток «Шамбертена». Это 91 год. Он обволакивает — вы слышите? Он слегка вяжет душу. Он горячит. Это земля Бургундии, не юг и не север, сердце культуры, двадцать веков, потом разрыв, затмение, бездна, синкоп, и вот в последнюю минуту две- три замшелых бутылки... Лазик еле дышал. Его лицо стало сперва багровым, потом фиолетовым. А лакеи все меняли тарелки и бокалы, готовя новые пытки. Лазик покорно ел и пил: что делать, если это его служба! Он уже ничего не видел. Ему казалось, что на блюдах лежат Будды, синкопы и двадцать латинских веков. Вдруг что-то ударило его в нос, как нашатырный спирт. Кон вдохновенно шептал: — Это — сыр «Ливаро». Его держат несколько лет в золотом навозе... Там он бродит, как отчаянье. Он становится ароматным и щемящим сердце. Нюхайте его! Нюхайте скорее! Все плыло перед Лазиком. Ему почудилось, что сыр вертится. Он поглядел на бутылки — они кланялись. А Кон? Кон кивал головой. Вот что!.. Значит, теперь он свободен!.. Лазик вскочил и в восторге закричал: — Заберите сейчас же отсюда эту бочку! Напрасно Луи Кон пытался его успокоить: — На нас все смотрят... Это неприлично. — Пусть смотрят. Зачем вы меня поили? И что это за выходки? Вместо порядочных битков дать человеку тридцать раз синкоп с запахами! Если он не заберет эту гомельскую мадам подальше от моего носа, я ее брошу в какую-нибудь виконтессу. Ну да, я пьян. А что вы думаете? Можно не быть пьяным после таких обволакиваний? Я сидел спокойно, но вы кивнули головой, и тогда начался мой темперамент. Вы не кивали? Тогда это Шамбертен кивал. Одним словом, ведите меня скорей, и прямо к цели!.. Первый опыт не удался, но Луи Кон не отчаивался: у этого лилипута чудовищный темперамент. Два дня спустя он повел Лазика в «Институт красоты». Увидев кресло с винтами, ланцеты, банки, флаконы, электрические аппараты, Лазик упал на колени перед массажисткой. — Ради, скажем, Будды, пощадите Ройтшванеца! Что вы хотите со мной делать? Вырезать кусок здоровой кишки или сразу убить меня лампочкой, как в замечательной Америке? — Не бойтесь. Сначала мы разгладим некоторые морщинки. Это совершенно безболезненно. У нас четыре тысячи свидетельств. Сядьте сюда. Откиньте лицо. Забудьтесь! 113 Лазик сел. Он попробовал забыться. Но куда тут! Ведь его переделывали, как безответственный сюртук! Хорошо, пусть они разглаживают морщины каким-нибудь утюгом. Посмотрим, что из этого выйдет. Как будто можно стереть все его несчастье— от мадам Пуке до уборной ресторана «Пе- де-Нон»! Трите, трите, все равно горе останется горем и Ройтшванец— Ройтшванецом! Вы его не сделаете ни Буддой, ни Шамбертеном... Вдруг Лазик вздрогнул от неприятной и достаточно знакомой ему боли. Массажистка теперь приплющивала его нос. — Что вы хотите от моего придатка? Вы же не Ахилл Гонбюиссон. На нем вовсе нет морщин. Морщины — на лбу. Перестаньте! Он у меня не из гуттаперчи! — Не волнуйтесь. Это очень легкая операция. Я приступаю теперь к укорачиванию вашего носа. Лазик скатился с кресла. Кувыркаясь по полу в больничном халате, он вопил: Это вам не пройдет! Мой нос не брюки, и я объявляю полную забастовку. Он вовсе никому не мешает, чтоб его стричь. Я, кажется, не пихал вас моим носом, и я никого не пихал. Меня пихали. А может быть, я хочу, чтоб он был длинным. Фамилию я обрезал, но это же надстройка. Откуда вы знаете, может быть, я когда-нибудь вернусь к себе на родину? Меня же никто не узнает с коротким носом, ни Пфейфер, ни Фенечка Гершанович. Меня не узнает даже эта Пуке. Я не отдаю вам моей личности!.. Стригите ваши синкопы!.. Вот вам постыдный капот, и до без всякого свидания! Вечером Луи Кон строго сказал ему: — Мой друг, вы у меня уже пять дней, и я вами недоволен. Вы не сделали никаких успехов в области гастрономии. В «Селекте», после одного коктейля, вы начали целовать бармена, хоть я просил вас ухаживать за мной, потому что это теперь модно. В «Институте красоты» вы просто показали себя дикарем... — Но ведь вы сами хотите от меня половецких штучек. — Не перебивайте!.. Вы манкируете обязанностями личного секретаря. Сейчас я подвергну вас последнему испытанию. Глядите. Луи Кон подвел Лазика к приоткрытой двери. В соседней комнате сидела молодая женщина, совершенно голая. Лениво зевая, она курила папироску. Лазик деликатно закрыл глаза. — Очень симпатичная особа. Я только советую вам следить за ней, чтобы она не украла у себя глаза или губы. Третьего дня я узнал, что такие штучки бывают. Но вы, конечно, опытный спец, и у вас все будет, как в романе Кюроза. Я желаю вам вполне неспокойной ночи. — Вы начинаете выводить меня из себя. У меня мигрень. Дайте мне порошки. Может быть, вы думаете, что я показываю вам ее для вашего удовольствия? Сейчас вы должны приступить к самой ответственной обязанности личного секретаря. Вы знаете, что мы — Коны — деликатного сложения. Я славился моими победами. Увы, теперь я обречен на бессрочную диету... Словом, вы будете играть с моей новой подругой, а я буду глядеть на вас и переживать каждое движение. Я жажду чувственной боли. Поняли?.. — Кажется, понял. Лазик вежливо поздоровался с дамой. — Я — Шванс. Личный секретарь. Пожалуйста, не стесняйтесь. Архип Стойкий, тот, например, совсем не стеснялся. Скажем, что вы сейчас загораете. И вообще, я смотрю не на вас, а на потолок. Скажите, вы тоже вроде личного секретаря? А вы не должны каждый день нюхать этот нахальный сыр? Я вам скажу что-то шепотом, он ведь сидит у двери: главное, не давайте укорачивать нос. Это полная пытка. Но что мы болтаем, когда мы должны работать. Я вот только не знаю, какие здесь игры, потому что у нас в Гомеле играют, скажем, в стуколку или в шестьдесят шесть. Впрочем, я не вижу даже карт... Выбежав, Лазик деловито спросил Луи Кона: — Почему же там нет колоды? Впервые Кон вышел из себя: — Вы меня убьете!.. Мигрень... Не помогают даже порошки. Я, кажется, в вас ошибся... Где же ваш темперамент? Выпейте этот коктейль для храбрости. Теперь идите скорее к ней!.. Я больше не могу ждать! Как вы можете спокойно сидеть, когда рядом с вами голая девушка? Вы должны с ней резвиться! Лазик задумался. — Нечего сказать — проблема! Оказывается — не карты, потому что вы без шубы. Ну да, вам, наверное, холодно сидеть на одном месте. Что же, будем резвиться. Я только не помню, как это делается. Кажется, «в кошки и мышки». Вы прыгайте, и я буду прыгать, но вы еще мяукайте, а я, например, залезу под этот диван и буду перепуганной мышкой. Лазик исправно забрался под кушетку и стал там тихо пищать. Тогда Луи Кон не выдержал. Он сам вбежал в комнату: — Идиот!.. Это — темперамент?.. О, если бы я мог!.. Сейчас же вылезайте! Выпейте еще коктейль. Выпили? Ну, а теперь за работу! Когда не нужно, вы показываете свои варварские повадки... Я вам приказываю: покажите себя свободным дикарем! Делайте все, что хотите!.. Я умираю... Я жажду боли!.. — Что же, если вы киваете головой, после таких двух обволакиваний я могу стать и нахалом. Во-первых, дорогая мадам, я вас умоляю, сейчас же наденьте на себя хоть купальные брюки, потому что вы не Венера, а здесь не американский Лувр. Я, между прочим, влюблен в Марго Шике, хоть она инвалид труда, и сердце у меня уже занято. Но вы ведь, наверное, любите цветочные подношения, так вот вам полный бумажник этого синкопа, и поезжайте себе домой. Это — раз. А вы, главный синкоп, ложитесь-ка на диван вашим половецким лицом вниз, и вы можете даже быть не как дома, то есть снять брюки, у меня есть хорошие подтяжки, и я вам в два счета устрою такую чувственную боль, что вы начнете молиться перед каждым Буддой. Что? Вы не хотите? Но я должен быть дикарем? Хорошо. Вот вам в лицо — начнем с пепельницы. Теперь получайте эти орхидеи с горшком. Теперь я уже могу перейти к Будде, если он весит пять веков. На звонок пришел лакей, седой и важный. 114 — Жак, вы будете временно исполнять обязанности моего личного секретаря. Сейчас вы останетесь с дамой. Но прежде всего выкиньте этого негодяя и поучите его хорошенько на прощанье... 35 Снова настали для Лазика черные дни. Он был и судомойкой в ресторане, и грумом в ярмарочном балагане, он вертел шарманку, он продавал китайские орешки; время от времени его арестовывали, били, потом выпускали. Один раз его выслали. Доехав до бельгийской границы, он грустно вздохнул: «Начнется игра в мячик...» Сел во встречный поезд и поехал без билета назад. По дороге его выкинули. Он продал костюм Луи Кона и вернулся в Париж. Не раз, ночуя под мостом, он ругал себя: — Идиот, почему ты тогда не доел этого вонючего фазана?.. Часто ходил он в еврейский квартал, на улицу Розье. Когда бывали деньги, он пил там чай, ел рубленую селедку и вел философские беседы: о Талмуде, о госпоже Дрекенкопф, о большевиках. Там как-то встретился он с гомельчанином. Выслушав рассказ о франкфуртских приключениях Лазика, Янкелевич воскликнул: — Охота вам пропадать под мокрым мостом, когда вы можете жить, как Чемберлен! Я был в Лондоне, и я это знаю. У вас, кажется, на плечах голова, а не что-нибудь. Так поезжайте сейчас же в Лондон к мистеру Ботомголау. Вы выйдете от него благородным миссионером, потому что он первый великобританский болван. Как будто Монька Жмеркин не жил этими проповедями ровно четыре года!.. Что же, мысль была не плоха. Но как добраться до Лондона? Денег нужно не так уж много. Допустим, что он снова станет грумом, или обезьяной, или самим чертом. Он может наконец объявить на неделю «Иом-Кипур». Словом, деньги он наскребет. А паспорт?.. — Паспорт вы можете получить в Лиге Наций. Вспомнив незабвенного пана ротмистра, Лазик смутился: — Это же, кажется, «Лига» с небольшими побоями? — Ничего подобного, вы положите на бочку сто франков, и вы войдете в эту Лигу как самая благоприятная нация. Но, может быть, вам выгоднее стать румыном, потому что эти Чемберлены обожают румын, а за те же сто франков вы сможете стать восторженным бессарабцем и получить румынский паспорт с самой королевой на заду. Не прошло и двух месяцев, как Лазик стоял перед мистером Ботомголау. — Что вы хотите, брат во Христе? — Я хочу подкрепиться. Я снова говорю совсем не то. Это от мистического смущения. Я хочу, наоборот, взять на себя торжественную миссию. Я еще не знаю толком, как это делается, потому что с Янкелевичем мы говорили больше о паспортах, но вы сейчас мне все объясните, и я выйду от вас с миссией в шляпе. Чем я хуже какого-то Жмеркина? Мистер Ботомголау сладко улыбнулся, и улыбка эта успокоила Лазика: нет, Янкелевич не подвел его! Так не улыбался даже одноглазый Натик, на что уж тот был глуп. Скажите вашим братьям, что Израиль заблудился. Он дал миру Ветхий завет, но потом он побивал апостолов каменьями. Наша церковь— дочь синагоги. Пора блудному сыну вернуться в лоно! Мы встречаем прозревших иудеев с раскрытыми объятиями. Мы прижимаем их к сердцу. Наш дом — их дом. Святое писание уже переведено на шестьсот семьдесят восемь языков, и мы его распространяем повсюду. Пусть иудеи придут как желанные гости на пир. Вы знаете их нравы и обряды. Вы осторожно войдете в их доверие, и вы их поведете на Христово празднество. Наш завет прост: святое крещение, любовь, воздержание от крепких напитков, целомудрие, воскресная тишина. Скажите им, пусть они торопятся... С готовностью Лазик ответил: — Скажу! Обязательно скажу! А теперь перейдем к делу. Я вот только не знаю, как вас называть, потому что «брат» — это уже чересчур. Мы, знаете, и лицом не похожи друг на друга. Может быть, я обойдусь одним «кузеном»? — Называйте меня просто мистер Ботомголау. — Ну, чтоб это было очень просто для еврея из Гомеля, я не скажу, но я перескочу через любые звуки. А вы меня, кстати, называйте мистер Ройтшвенч. Так вот что, мистер Ботомголау, я буду все это говорить по знакомству, и меня будут слушать прямо-таки как Мойсея, я ведь главный франкфуртский раввин. Но вопрос не в том. Я, например, в Лондоне уже четыре дня, и я еще ни разу не обедал. Так я хочу сразу на ваш пир. Если у вас без вина, то это еще полбеды; во-первых, можно зайти по дороге в бар, а во-вторых, я признаю даже самый слабый напиток, например, чай с молоком. У меня при одном этом слове текут слюнки. Скорее жмите меня к сердцу и ведите в этот дом! — Дитя, вы путаете небесные богатства с земными. У меня четыре дома и две фабрики, у меня небольшой капитал, но я душой, может быть, беднее вас. А сказано: «Блаженны нищие духом». Не забывайте, брат мой, духом! Поэтому за себя я спокоен. Идите же скорее к заблудшим братьям и скажите им, что Мессия уже пришел. Они его не заметили. Это ужас!.. Мистер Ботомголау заплакал, Лазик стал утешать его: — Не выливайте столько слез! Это — бывает. Они не заметили, потому что они страшно рассеянны. Они в это время, наверное, кушали костлявую рыбу или даже спали последним сном. Но я им скажу, что он уже пришел. Только ответьте мне без целомудренных намеков: вы мне дадите аванс или нет? Я же богатый духом, 115 но без всякой фабрики. Интересно, как вы вообще платите: помесячно или поштучно, то есть за каждого блудного внука? — Вы будете получать шестнадцать шиллингов в неделю. Вот вам один фунт, чтобы вы корректно оделись. Теперь можете идти. Лазик вежливо раскланялся. Уходя, он, однако, вспомнил о главном: — А где лоно? — Какое лоно? — Да вы ведь сами сказали, что их нужно тащить в какое-то лоно. Так дайте мне точный адрес. Мистер Ботомголау только печально махнул рукой. Лазик немедленно принялся за выполнение своих обязанностей. Он пошел в Уайт-Чепль. Нищета? Но разве он не видел на своем веку нищеты? И все же он ахнул, увидев темные трущобы, лохмотья и голодные лица обитателей этого квартала. Он даже, забыв об осторожности, вздохнул вслух: — Нечего сказать, хорошенькая Великобритания. Все-таки теперь я вижу, что наш Гомель — это настоящий шик. Впрочем, никто не слышал столь подозрительных суждений. Женщины, толпившиеся вокруг, сушили пеленки, подбирали картофельную кожуру и переругивались. Без труда Лазик разыскал десяток голодных евреев. — Начнем сначала, то есть пойдем в этот пахучий ресторан. Что здесь люди едят? Хорошо? Десять порций мяса с картофельным пудингом и десять бутылок пива! Теперь можно поговорить о планах. Я же не нахал, чтобы пировать в одиночку. Мне сказал Янкелевич, а я уже предлагаю вам стройную организацию. У этого болвана четыре фабрики и шестьсот семьдесят восемь изданий. Что он хочет, этого нельзя понять, и потом,это даже неинтересно, потому что, я же говорю вам, он роскошный болван. Но у него фантазии, и он все больше загибает насчет родства, я ему и брат, и блудный сын, и еще какое-то место, а синагога — мать церкви, а кто в синагоге — сразу его церковные дети, одним словом, он даже не умеет разобрать, где отец и где сын. Но я вас поведу к нему в лоно, и вы кричите, что вы были блудные, а теперь хотите сплошного целомудрия. Потом он, наверное, начнет вас жать к сердцу, так вы не пихайте его, потому что это такой нахальный меланхолик, и если его отпихнуть, он весь обольется слезами. Поняли? А потом он даст вам что-нибудь, и, кроме того, я сейчас плачу за всю музыку. Идет? Надо ли говорить, что предложение Лазика было принято единогласно? Горделиво улыбаясь, привел Лазик всю компанию к мистеру Ботомголау. Я уже сказал им. Видите, как быстро? У меня не голос, а Иерихонская труба с Синая. Это вполне понятно, потому что они ничего не ели. Это же богатые духом и без всякого блаженства. Пожалуйста, жмите их уже скорее к сердцу, и пусть они тоже что-нибудь получат, потому что я ухлопал на десять порций весь ваш корректный фунт. Надежды Лазика не оправдались. Мистер Ботомголау вздохнул: — Вы им не сказали главного: вы им не сказали, что не единым хлебом жив человек. Я вижу, брат мой, что вы еще мало подготовлены к вашей высокой миссии. Вот вам несколько душеспасительных книг. Я вам советую прежде всего внимательно прочесть их. После этого вы сможете проповедовать, толкуя набранные крупным шрифтом тексты. В субботу мы вам предоставим небольшой зал. Вы соберете этих прозревших овец, и вы ослепите их божьим словом. А теперь ступайте, мои дети! Меня ждут китайцы, которые тоже жаждут прозреть. Лазик попробовал было заикнуться: — А как же с покойным фунтом? Он ведь ушел на этих полуслепых овец. Но мистер Ботомголау одарил его только новым поучением: — Не забывайте, кстати, мой брат, что пиво — это тоже крепкий напиток. Выйдя на улицу, Лазик обвел свое стадо торжествующим взглядом. — Ну, что я вам говорил? Вы, может быть, скажете, что вы видели где-нибудь подобного болвана? Я только не понимаю, почему у него такой нервный нос? Он догадался о пиве. На это его хватило. Но с родством он снова напутал. Я — его брат, а вы — его дети, значит, вы — мои дорогие племянники. Он сам не знает, что ему нужно. То он хочет, чтоб я вас слепил, как последний злодей, то он хочет, чтобы вы сразу прозрели. Но мы его все-таки перехитрим. В субботу зовите туда всех, у кого только хорошенький оркестр в желудке. Я скажу такую грохочущую проповедь, что даже стены будут блеять, как овцы. Тогда- то мы с него получим все сто фунтов. А пока что купим хлеба на духовный ужин, потому что от фунта еще остался крохотный осколок. Помещение общества «Спасенный Израиль» было в субботу переполнено. Память о картофельном пудинге и разговоры о четырех домах мистера Ботомголау вскодыхнули Уайт-Чепль. Лазик весело вскарабкался на кафедру: — Тсс! Третий звонок! Я вижу, что труппа пользуется неслыханным успехом. В Гомеле даже московская оперетка не собирает столько голов. Ну, я начинаю. Ненаглядные овцы, и ты, спасенный Израиль Мовшед, знаменитый сват нашего золотого Гомеля, здравствуйте! Сейчас я буду толковать крупный шрифт. Только я попрошу вас об одном. Пожалуйста, ради моего и ради вашего аппетита не сидите, как бревна. Когда я вам скажу «ослепните», закрывайте сразу глаза, потому что вам ударило в нос спасительное слово, а когда я крикну «прозревайте», то глядите в оба, пусть у вас глаза даже лезут на лоб, потому что от второго слова происходит хирургическая операция. Поняли? Кто не понял, пусть поднимет одну руку. Хорошо, опустите три заблудших руки и подавляющим большинством слушайте. Крупный шрифт номер один: «Израиль, гляди— Мессия, о котором говорили пророки и которого ты ждешь, давно пришел». Крупная точка, и можете ослепнуть, а я буду толковать. Пророки, конечно, издавали возгласы. Живи они теперь, их, наверное, посадили бы в тюрьму. О чем они кричали, эти сумасшедшие агитаторы? Мы же учились в хедере, и мы знаем их 116 номера. Они, например, шумели, что все на земле не так, и что сильный обижает слабого, что правду можно спрятать в глубокий карман, как будто это газета, что у одних много, а у других мало, и что это просто вавилонское свинство. Они, конечно, тонко намекали, что может произойти полное наоборот. Вдруг придет Мессия, и тогда начнется замечательная справедливость. Ротшильд выйдет себе пастись на лужайку вместе с вами, и ему пудинг и вам пудинг, пан ротмистр или, скажем, миссис Пуке перестанут хватать Ройтшванеца за больные места, а вместо пограничной стражи расцветут безусловные орхидеи. Конечно, Мессия — это тонкий псевдоним. Что же получилось: оказывается, он уже пришел. Странно подумать, что мы его не заметили! Скорее прозрейте, включая три руки меньшинства! Разве вы не видите, что на земле стопроцентная справедливость? У мистера Ботомголау, например, четыре дома, но они ему не нужны, он живет в духовных облаках, он же нищий духом. Вы спросите, почему он не отдает вам этих домов? Потому что он вас жалеет. Если у вас будет кровать с периной, вы станете тоже нищими духом, а пока вы просто нищие. Но я вас умоляю, погуляйте по роскошному Лондону, и вы увидите, что Мессия уже пришел. Вы скажете, что Ротшильд еще не пасется? Но он не овца. Он кушает курицу. А если у вас есть завалявшиеся фунты, вы тоже можете кушать курицу, совсем как он. Но если даже у вас нет фунтов, то у вас есть вексель на загробный рай, это сказано в девятом шрифте, и вы можете учесть этот вексель в любом банке. Потом, у вас свобода слова. Вы можете, например, сказать: «Мне таки хочется кушать», — и никто на это слова не возразит. Что касается заноз, то не надо лезть на занозы, надо уважать чужую личность. У нас в Гомеле был один маклер Гурчик. Так вот, он однажды сидел и кушал гуся с гречневой кашей, а к окну подошел нищий и стал просить хлеба. Тогда Гурчик произнес целый крупный шрифт: «Эти нахалы сами не едят и другим не дают». Я, например, сам виноват, я схватил в Киеве не ту ногу. Словом, на всей земле стоит неслыханная свобода, и мистер Ботомголау всех жмет к сердцу, и я считаю единогласно принятым, что Мессия уже пришел. А для колеблющихся элементов я читаю в седьмом тексте, что он снова придет, и это называется «второе пришествие». Если у него такие блестящие результаты, я думаю, он может ходить без конца. Так пусть он ходит, а мы пойдем на пир. Я предупреждаю, что если идти не вприпрыжку, так этот болван отдаст все жаждущим китайцам, потому что они тоже знают дорогу в его лоно. Составим резолюцию с подписью. Скажем, что мы его братья, и дети, и внуки, и даже отцы, только чтоб он отколупнул нам от своей фабрики несколько золотых кирпичиков, потому что в крупном шрифте номер четыре прямо сказано, что голодных надо кормить и даже одевать в свою последнюю рубашку, а у него, наверное, есть предпоследняя, так пусть одевает и пусть кормит, если мы единогласно такие голодные, что мою проповедь заглушает сплошная опера в ста животах. Значит... Закончить Лазику не удалось. Протиснувшись среди толпы, к нему подошел некто, бедно одетый и ничем с виду не отличавшийся от других слушателей. Строго сказал он: — Следуйте за мной. — Куда? Если в лоно, так туда я сам знаю дорогу, и вообще, там жалование выдают только по понедельникам. Тогда настойчивый незнакомец показал Лазику какую-то карточку. Лазик посмотрел и негодующе воскликнул: — Я еще не Чемберлен, чтобы уметь сразу читать эти великобританские любезности! Но я уже кое-что понимаю. Скажите мне просто, куда я должен следовать — туда или не туда? Но сыщик, не зная о богатом опыте Лазика, ответил официально: — Я — представитель Скотланд-Ярда. Вы арестованы как большевистский агитатор. Мистер Роттентон сразу ошарашил Лазика: — Вы — большевистский курьер. Вы направлялись из Архангельска в Ливерпуль. Вы везли секретные фонды коминтерна, а также письмо Троцкого к двум непорядочным англичанам. При аресте вы успели передать деньги членам преступной шайки и проглотить документ. Последнее показалось Лазику чрезвычайно смешным. Хоть стриженые усы мистера Роттентона сурово топорщились, Лазик не выдержал: он расхохотался. — Я же понимаю, куда вы гнете!.. Вы хотите меня обвинить в том, что я кушаю важную бумагу. До этого не дошли даже паны ротмистры. Это так смешно, что я давлюсь, хоть, может быть, это мои фатальные звуки. Неужели вам приходят такие штучки в голову? Но вы же тогда настоящий комик с обеспеченными гастролями. Лазик Ройтшванец, мужеский портной из самого обыкновенного Гомеля, где все кушают котлеты или зразы, или хотя бы голубцы, питается исписанными листочками! Нет, мистер... как вас, хоть я и дублировал два дня заболевшую обезьяну, на это я еще не способен. — Вы напрасно отпираетесь. Я предлагаю вам указать местонахождение секретных фондов, а также восстановить содержание проглоченного документа. Послушайте, может быть, «документы» — это тоже псевдоним, вроде, скажем, роскошного пира для блудящих овечек? Кто вас знает, какие вы здесь придумываете скотландские фокусы! В четверг я действительно проглотил большой кусок мяса и картофельный пудинг. Что правда, то правда. Но ведь с тех пор сколько слюнок утекло! Так что восстановить это с подливкой я уж никак не могу. Вы думаете, мне самому не жалко? Да умей я восстанавливать проглоченное, я бы стал таким же мистером, как вы. Я отпустил бы себе усы для страха, и точка. Пусть они там трепыхаются, а я сажусь за готовый стол и кричу: «Алло! Алло! Печенка на свадьбе Дравкина, пожалуйста, восстановись!» Это была бы не жизнь, а рай. — Попытка заговорить меня ни к чему не приведет. Если вы сознаетесь, мы вас отпустим на свободу. Если вы будете упорствовать, мы тоже проявим упорство. Вам придется тогда задержаться в Англии. — Когда я был еще желторотый филин, я боялся таких задержек. Я хотел тогда скорее на свободу. А теперь я привык. Потом, у вас в тюрьме довольно сухо, не как в Гродно, стол, правда, неважный, но все-таки это помои, а не глотательная бумага. Спешить мне тоже некуда. Так я уже на месяц-другой удержусь. Усы мистера Роттентона раздраженно запрыгали. 117 — Вы — партийный фанатик. Он решил потрясти этого бесстрашного сектанта строгой логикой. Долго рассказывал он Лазику о мощи Великобританской Империи, о расцвете промышленности, о преданности индусов, о миролюбии ирландцев, даже об открытии четырех кондитерских и высшей школы вышивания бисером на каких-то Соломоновых островах, где живут особые людоеды, которые обожают короля Георга, мистера Чемберлена и английские пикули. Лазик слушал с интересом. Он кивал головой. — Замечательный реферат! У нас на политграмоте тоже говорили, что разруха упала на двести процентов и что теперь сморкаются не двумя пальцами, а больше. Я вас поздравляю, мистер, как вас... Скажите, а с чем эти людоеды кушают пикули? Может быть, с бисерным документом, тогда вы, наверное, спутали: Гомель не на острове, он не плавает, он спокойно стоит, и только внизу бурлят волны великого Сожа. Не оценив географических познаний Лазика, мистер Роттентон продолжал патриотический спич. Теперь он высмеивал бессилие России: неурядица, развал промышленности, пустая казна, жалкая армия, бунты на окраинах. Сравните их флот с нашим флотом: дредноут и лодочка. Наши законы с их законами: сто томов и проглоченная вами цидулька. Наши финансы с их финансами, банк Великобритании и несколько краденых пенсов, которые вы успели спрятать. Наконец, наш ум с их умом: вы и я. Стоит нам дунуть, и они полетят как пушинки. Как же они смеют не подчиняться нам? Подумать, что среди англичан находятся низменные натуры, которые верят в эту дурацкую доктрину! Не будь ста томов, я бы просто повесил их, а теперь мне приходится ждать, пока мистер Чемберлен составит сто первый том с отменой первых ста. Тогда-то мы им покажем! Усы мистера Роттентона неистовствовали, и Лазик решил развеселить собеседника какой-нибудь гомельской историей. — Это совсем как с выдуманным богом. Ему вдруг не понравилось, что евреи расшаркиваются перед каким-то Ваалом. Он стал кричать: «Что за посторонние расходы? Этот Ваал ничего не умеет делать. Это просто кусок плохого дерева, а не полномочный бог. Я могу сейчас же послать вам кровавый дождь, саранчу, холеру, словом, все, что мне только вздумается. А что он может? Ровно ничего». И бог так ворчал с утра до ночи, что всем евреям это надоело. Тогда один умник решил закончить эту затянувшуюся сцену. Он говорит богу: — Сейчас я попрошу у Ваала себе двести тысяч, а Циперовичу одну египетскую казнь. Бог хохочет — он притворяется, что ему смешно. — Посмотрим, какие он тебе придумает египетские казни!.. — Значит, этот Ваал ничего не умеет. — Конечно, ничего, если он просто телеграфный столб. — Тогда почему же ты к нему ревнуешь? Какой еврей станет ревновать свою жену к полену? Здесь выдуманный бог смутился, и он ушел на цыпочках домой. Эту историю я слышал еще в Гомеле. И это, конечно, половина истории, потому что, наверное, Ваал тоже волновался. А мне один ученый доктор говорил, что от волнения вскакивают прыщики. Так я умоляю вас, не волнуйтесь! Дуньте, и они уже улетят, а у вас останутся ваши преданные кондитерские. Лазик ошибся — рассказанная им история не успокоила мистера Роттентона. Преступник! Шпион! Наглец! Как вы смеете насмехаться над конституцией империи? Я не хочу с вами разговаривать. Извольте отвечать на вопросы. И без отнекиваний. Не то вам будет худо. Вы — большевистский курьер. Вы ехали из Архангельска... Подпишитесь. — Хорошо... Я беру перо. Это все-таки лучше, чем когда ваши усы прыгают. Кто вас знает, какие у вас здесь порядки!.. Ну, вы довольны, что я записался? Теперь скажите мне, где он плавает, этот Архангельск, потому что я там еще не был, нельзя ли там выступить раввином или обезьяной? — Не прикидывайтесь! Письмо вы проглотили. Отнекиваться поздно — вот ваша подпись. Содержание документа вам хорошо известно. Троцкий сообщал о разгуле большевистской клики и настаивал на выступлении в Ливерпуле. Вот вам бумага и перо. Восстановите текст. Если... Лазик перебил: — Не если, а уже... На лице Лазика появилась смутная улыбка, свидетельствовавшая о творческом напряжении. Через несколько минут он подал мистеру Роттентону исписанный лист. «Уважаемый товарищ по всем великобританским номерам! Наша клика веселится, как последние нахалы. На краденые деньги из пустой казны мы едим картофельный пудинг с подливкой под грохочущий провал всех окраин. Кругом одни китайские генералы и кулебяка с капустой. Это не жизнь, а смехотворный разгул. Но что же вы там ловите мух и теряете ваше драгоценное время? Я кричу вам: уже выступайте! Вот вам двадцать пенсов, чтобы вы обвязали себя пулеметными лентами с головы до ног. Наш план очень простой: взорвать Соломоновы кондитерские, тогда людоедам останутся только пикули, и вы пошлете к ним этого мистера с усами, который сейчас кричал на меня. Я не знаю еще его полного имени. Потом надо позвать всех преданных индусов на пир в лоно, и от Ливерпуля останется только четыре-пять голых камней. Но прошу вас на коленях— не валандайтесь! Когда я скажу «раз-два-три», начинайте, и если вы их всех ухлопаете, я угощу вас здесь таким жирным поросенком с кашей, что вы оближете все ваши красные пальчики шпиона и палача. Ну, будьте здоровы, я устал, и кланяйтесь вашей жене. Как, кстати, детки? Ваш до гроба Троцкий». Браво! Вот это документ! Как естественно!.. И на счет известного англичанина с усами тоже хорошо: око Москвы. Я вас поздравляю. А теперь отправляйтесь в тюрьму. — Если «браво», почему же в тюрьму? Я согласен был задержаться, только чтобы не обидеть хозяев, но, конечно, я предпочитаю скакать по открытым улицам. Но мистер Роттентон больше не слушал Лазика. 118 В тюрьме у Лазика было немало времени, и, пытаясь смягчить сердце мистера Роттентона, Лазик составил еще несколько писем: Троцкого — Зиновьеву, Зиновьева — мистеру Ботомголау, даже миссис Пуке — мистеру Роттентону. (Последнее изобиловало товарищескими советами.) Однако Лазика не выпускали. Он так увлекся новым занятием, что решил написать кому-нибудь настоящее письмо. Но кому? Фене Гершанович? Нельзя — перехватит Шацман. Минчику? Зачем волновать и себя, и его? Тогда, может быть, Пфейферу? Как-никак Пфейфер был ответственным съемщиком. Лазик и это письмо передал надзирателю. — Вот, отошлите, раз у вас не государство, а почтовая контора. Только, пожалуйста, не перепутайте. Оно не Зиновьеву и не Чемберлену. Оно всего-навсего одному анониму. «Дорогой Пфейфер! Я пишу вам из восемнадцатой решетки, так что трудно только начало. Я, кажется, не падаю духом, хоть моя жизнь теперь один анекдот из репертуара Левки. Как вы говорили: «Человек слабее мухи, и он сильнее железа». Чем я только не был? Если мне придется теперь заполнить анкету, я изведу пуд казенной бумаги. Я посылаю вам мой портрет одного короткого момента, когда я по обязанности кушал вонючие букеты, но вы не обращайте на него внимания. Если я похож там на стрекозу из театра, на самом деле — я обыкновенный еврей, у которого в жизни маленькие неудачи. Не показывайте этого портрета дорогой Фене, урожденной Гершанович, — не знаю, за каким она теперь Шацманом. Пусть она не глядит на роскошный галстук. Она еще скажет: «Этот пигмей теперь задается». Дайте ей только один сплошной привет от справедливо поруганного Ройтшванеца. Здесь капнула на листок произвольная слеза, так что простите мне позорную кляксу. Напишите, как живете вы, и дорогая ваша жена, и бриллиант Розочка, и умничек Лейбчик, и золото Монюша? Чьи на вас теперь брюки, мой кровный Пфейфер? Вспоминаете ли вы, когда отлетает пуговка или лопается сразу сзади, смешного Ройтшванеца, который тут как тут с иголкой? Мое сердце рвется, и я мечусь как тигр. Увижу ли я снова Гомель, и деревья на берегу Сожа, и всех друзей, и даже постыдную бочку, или я умру среди этих ста томов? Но я замолкаю ввиду полной цензуры. Я даже кричу «ура» их королевскому дредноуту. Прощайте, дорогой Пфейфер! Я, наверное, скоро умру. Во- первых, мне теперь часто снится, что я уже лежу под землей, но пусть это сон, и главное, во- вторых, то есть они хотят оглашать разные письма, а автору пора на тот свет, если он великий поэт, скажем, как Пушкин. Не сердитесь, что вместо письма выходит намек, вы же знаете, что значит, когда все кругом вами интересуются, как будто они мать или брат... Тысяча точек. Если я умру, пусть в вашем союзе кустарей-одиночек не спускают могучего флага. Это слишком рискованные шутки. Нет, пусть лучше они сыграют похоронный марш, потому что я был честным тружеником, и за мной идет свежий строй ратников. Растите, Розочка, Лейбчик, Моничка! Цветите! Чего вам желает из-за могилы полуживой Ройтшванец». Лазик напрасно старался — Пфейфер никогда не получил этого письма, но не прошло и трех дней, как Лазика снова вызвали к мистеру Ротгентону. Войдя в кабинет, Лазик поспешно спросил: — Еще писать? У меня уже иссякают рифмы. — Я прочел ваше письмо какому-то восточному агитатору. Неужели вы хотите вернуться в Гомель? — Ага, теперь вы поняли, что я из Гомеля, а не из Архангельска?.. Хочу ли я вернуться? Это вопрос. Кажется, хочу. Хоть меня там, наверное, посадят сразу на занозы. Я ведь в Париже голосовал за августейшую поступь, так что меня могут вообще расстрелять. Но здесь мне тоже крышка, и тогда остается голое любопытство: там я хоть перед, смертью увижу, чем кончилась эта нежность с Шацманом. — Нет, я вас не пущу, бедный Ройтшванец, в эту западню! Они должны вскоре пасть. Я раскрою перед вами все карты: мы дунули. Теперь остановка только за ними, правда, они еще не летят, но, наверное, завтра или послезавтра они полетят как пушинки. Конечно! Оттого вы сегодня веселый. Даже усы ваши не прыгают. Вот я люблю поговорить, когда такое небесное настроение. Но зачем вы все время думаете о них? Не стоит. Глядите, и прыщик у вас вскочил на носу. Знаете, на кого вы похожи — на старую стряпуху. Это была вполне православная на мельнице возле Гомеля, и там жил старик Сыркин, который ел только кошерную кухню. Он был такой отсталый, что при одном виде свиньи у него делался насморк. Он варил себе каждый день похлебку в отдельном горшке. И вот, что же видит Шурка из ячейки? Горшочек кипит, Сыркин считает мешки, а стряпуха тихонько кидает в суп кусочек свиного сала, и так повторяется каждый божий день. Она даже не жалела своих продуктов. Шурка, конечно, не выдержал, и он спрашивает: «Почему такие придатки?» Но она ему спокойно говорит: «Нехай жидюга не войдет в царство небесное». Так и вы со мной. Кстати, я сижу уже два месяца, значит, вы успели напечатать все, что я проглотил, и теперь меня можно выставить наружу. — Нет, мы вас не можем просто отпустить. Вы ведь теперь связаны с нами. Я предлагаю вам выгодные условия. Вы будете собирать для нас сведения среди лондонских евреев и вылавливать большевистских агитаторов. Одиннадцать фунтов в месяц. Лазик вздохнул: — Вы таки не желаете свиного сала!.. Ну что же, придется взять небольшой аванс... Выйдя на свободу, Лазик отправился в Уайт-Чепль. Там он закусил, приобрел по дешевке перелицованный костюм и литовский паспорт и после этого, не задумываясь над будущим, пошел на ближайший вокзал. Увидев у кассы знакомое имя, он взял билет до Ливерпуля. Приехав туда, он стал бродить по набережным, разглядывая пароходы. Куда ему ехать? Да все равно... Только бы не в Румынию и не на эти Соломоновы острова! Вдруг он увидел на палубе толпу евреев. Совсем Гомель... — Куда вы едете таким хором? — Куда? Конечно, к себе на родину, то есть прямо в Палестину. Лазик задумался: почему бы и ему не поехать с ними? Может быть, 119 евреи будут повежливей, чем эти великие британцы. Хорошо! Он тоже — пылающий сионист, и он едет по удешевленному тарифу на свою дорогую родину. Перед самым отходом парохода Лазик почувствовал беспокойство. Вот что значит привычка!.. Спешно купил он открытку с изображением дредноута и написал на ней: «Дорогой мистер Роттентон! Я привык писать, и я пишу вам. Вы таки скотландский дурак. Может быть, вы родственник мистера Ботомголау? Но дело не в этом. Я забыл вам сказать, что я действительно курьер, что я проглотил бумажку, а на ней был настоящий секрет. Теперь я доехал в Ливерпуль и все здесь восстановил единым духом. Так что берегитесь с вашими пикулями! Отсюда я уезжаю обратно, и не в Гомель, а в Архангельск, потому что вы случайно попали пальцем туда. На ваши деньги мы выпили несколько бутылок вина, и я теперь хохочу, как преданный индус. Вы можете мне писать до вашего востребования или не писать, но сбрейте ваши усы, не то над вами будут смеяться все встречные кошки. Ваш до гроба мистер Лазик Ройтшвенч». 37 Денег не хватило. Однако на пароход Лазик попал. Он чистил обувь пассажиров первого класса. В свободное время он проходил на нос, где помещался третий класс. Кого только там не было! Безработные из Уайт- Чепля, литовские эмигранты, старые цадики, ехавшие в Палестину, чтобы умереть, и задорные сионисты, с утра до ночи горланившие национальные гимны, пейсатые привидения иных времен, надевавшие для молитв талесы и ремешки, а рядом с ними коммунисты. Счастливчики из Нью- Йорка меняли доллары, галицийские хасиды, вздыхая, вытаскивали из лапсердаков злоты, а какой-то перепуганный резник прятал от всех, как тайную прокламацию, один сиротливый червонец. В первом классе было чинно и скучно. Богатая еврейка из Чикаго ехала посмотреть на Святую Землю. В ожидании щедрот господа бога пока что, над фаянсовой чашкой, она отдавала ему день и ночь, видимо, никому не нужную душу. Английские чиновники показывали друг другу фокусы, пили портвейн и шагали по палубе, методично перебирая длинными ногами в клетчатых брюках. Здесь не было ни анафем, ни молитв, ни рассказов о погромах, ни споров между коммунистами и поалейционистами, ни замечательных биографий. Здесь Лазик ваксил ботинки. На носу — он слушал, говорил, вздыхал. Иногда он садился на бочку и, одинокий, мечтал. Он не соврал в письме к Пфейферу, за годы блужданий он действительно осунулся и постарел. Ему теперь давали за сорок. Он хворал, кряхтел, кашлял, жаловался — грудь, болит бок. При малейшем напряжении его лоб покрывался холодной испариной. Может быть, он простудился, или это перестарался майнцский колбасник — не знаю, но стоило поглядеть на его лихорадочные глаза, чтобы воскликнуть: эй, дорогие гомельчане, вы живете припеваючи, среди фининспектора, оперетки и гусиных шкварок, а вот наш Лазик Ройтшванец погибает! Он много видал, он узнал и любовь, и горе, он все узнал, теперь он сидит в сторонке, кашляет, горбится, нет у него даже сил, чтобы рассказать вот тому богобоязненному цадику, как молодец Левка в «Иом-Кипур» слопал перед самой синагогой целую колбасу за здоровье всех постников, так что у Когана потекла на мостовую неприличная слюна. Нет, он сидит, закутавшись в старый мешок, и смотрит на море. — Что же вы ничего не скажете? — спросил Лазика один из нью-йоркских евреев. — Я должен чистить сапоги, говорить я не обязан. Я, кажется, достаточно в моей жизни разговаривал. Если б вы меня увидали без рубашки, вы бы, наверное, ахнули, потому что там нет местечка без печати, как будто мое скорбное тело— это паспорт. Я говорил два коротких слова, а они переходили, скажем, на полный бокс. Почему я еду в эту Палестину, а не в Америку и не на голый полюс? Я думаю, что евреи не умеют организованно драться, и это для меня еще маленький шанс на жизнь. Можно себе представить, какие электрические палки в Америке! На том же голом полюсе сидит, наверное, полицейский доктор ровно с двумя кулаками. А евреи меня мало били. Правда, во Франкфурте господин Мойзер поломал на мне зонтик, но куда же, дождевому зонтику до колбасной дубины? Я думаю, что в еврейской Палестине меня перестанут печатать. Тогда вы уже правы, и это вполне Святая Земля. Почему я не читаю рефераты? Я устал. Это бывает со всяким. И потом — откуда вы знаете, может быть, я сейчас разговариваю с этой сумасшедшей водой? Старик Берка в Гомеле, тот говорил, что всякая вещь поет. Вы думаете, что этот мешок молчит. Нет, он выводит свои мотивы. Дураки, конечно, слышат только готовые слова, а умные, они слышат мелодию. Бот почему, когда два дурака сидят вместе, они не могут молчать, им скучно, и они начинают обязательно ворочать языками. Я вовсе не первая голова, но кое-что я слышу. Я слышу, например, как поет это море, и не только плеск воды, но разные предрассудки: о большой жизни без всяких берегов, когда сходятся море и небо, и они — настоящий мир, а эти три класса со всеми свистками только фальшивая нота. Я уже слышал в жизни, как поют самые разные штуки. Когда я хорошо кроил брюки, они радовались, и они пели. Каждой вещи хочется быть лучше, как вам и как мне, только люди стыдятся красивых мотивов, а брюки раскрывают себя до конца. Берка говорил, что чем умней человек, тем больше мелодий он слышит, но сам Берка был отсталым цадиком, и он слышал только, как поют души набожных евреев у него в синагоге. Если верить ему, то Моисей слышал, как поют души всех евреев на свете. Я, конечно, не знаю, сколько в этом простого опиума. Я вот только редко-редко слышу какой-нибудь короткий звук, и тогда я смеюсь от счастья, а потом снова начинается глухонемая жизнь. Интересно, есть ли человек, который слышит сразу все мелодии: и евреев, и этих великих британцев, и кошек, и сюртуков, и даже черствых камней? У такого умника, наверное, сердце переезжает из груди в голову — поближе к ушам, чтобы ему было удобнее слушать, потому что мозгами можно выдумать башню без проволоки, как в Париже, и там ловить различные слова, но настоящую мелодию нельзя словить в трубку. Ее ведь слышат только сердцем. 120 Теперь вы видите, что я могу иногда говорить? Хорошо, что я еще не еду в вашу Америку! Там они умеют взять еврейский язык и сделать из него один нумерованный доллар с головой женатого президента. Стояла тихая погода, и Лазик любовался цветущими берегами Португалии. — Что за предпоследняя красота! Бот я и увидел своими глазами выдуманный рай. Здесь, наверное, столько орхидей, что из них делают смешное сено, а на бананы здесь вообще никто не смотрит, как у нас на подсолнухи. Их грызут только самые несознательные португальцы. А дворцы! Вы видите эти дворцы? Но если подумать хорошенько, то это все-таки не рай. У меня в кармане портрет португальского бича. Я провез его через все испытания. Ну, дорогой бич, посмотри-ка на свою родину! Скорей всего, этот бич сидит теперь на португальских занозах. Конечно, такое солнце — уже половина счастья, и оно для всех. Но кушать португальцы тоже хотят. Нельзя ведь весь день нюхать орхидеи. Вот и получается: вместо Португалии просто-напросто Гомель. Вы что думаете, если глядеть на Гомель издали, это не красота? Можно выпустить тоже восторженные вздохи. Потому что издали виден крутой берег, и могучие деревья, и парк Паскевича со всеми драгоценными беседками. Счастье видно за сто верст, а горе нужно уметь разнюхать. Вот и все. Мы можем ехать дальше, и даже неизвестно, о чем мечтать: если этого бича выпустит наружу хорошенький гнев масс, на занозы посадят другого, потому что земля повсюду земля, она царапается, а человек сделан из одного теста, он или полномочный нахал с шведской гимнастикой или зарезанный кролик. Нет, лучше уже глядеть на море, там, конечно, тоже рыбье несчастье, но там, по крайней мере, нет грохочущих слов. Я слышал в Гомеле очень тонкую историю о царе Давиде. Это был мало сказать царь, он был еще замечательным поэтом, и у него все лежало под рукой: и вино, и музыкальные барабаны, и обед по звонку, как в первом классе, и сколько угодно бумаги, так что он каждый день сочинял какой- нибудь красивый стишок. Вот однажды ему повезло. Он сидел, корпел, он не мог выдумать, как бы еще прославить этого выдуманного бога. У него не хватало слов. Раз уже выдумаешь такую вещь как бог, надо уметь с ней обращаться, а он берет готовые слова, и ни одно не годится, все они маленькие, так что бог вылезает из них, как из детского костюмчика. И вот ему приходят в голову два или даже три неслыханных слова. Он сочиняет стихи высший сорт. Он, конечно, счастлив и берет тетрадку под мышку, и всем читает, и слушает комплименты: «Вы, царь Давид, — новый Пушкин, вы признанный гений». Ведь все поэты любят хвастаться. Шурка Бездомный хотел, чтоб по нему называли папиросы вместо «Червонец». Так легко себе представить, до чего доходил этот певучий царь. Он чуть было не лопнул от славы. Вот он уже прочел свои стихи всем: и жене, и детям, и придворным, и критикам, и просто знакомым евреям. Больше уже некому читать. Он гуляет по саду, и он весь блестит от счастья, как начищенный самовар. Вдруг он видит жабу, и жаба спрашивает его с нахальной улыбкой: — Что ты так сияешь, Давид, как будто тебя натерли мелом? Царь Давид мог бы вообще не ответить. Он же царь, он же гений, он то и се, зачем ему разговаривать с незнакомой жабой? С жабами вообще не разговаривают. Их отшвыривают, чтобы они не лезли под ноги. Но все- таки царь Давид — это не Шурка Бездомный. Он что-то понимал, кроме комплиментов. Он ответил жабе: — Ну да, я сияю. Я написал замечательные стихи. Ты только послушай! И он стал читать ей свои восторженные слова. Но жабу трудно было смутить. Она спрашивает: — Это все? — Это один стих. Но у меня есть тысяча стихов, потому что каждое утро я просыпаюсь, и я радуюсь, что я живу, и я сочиняю мои красивые прославления. Здесь жаба расхохоталась. Конечно, жаба смеется не как человек, но когда ей смешно, она смеется. — Я не понимаю, чего ты так задаешься, Давид? Я, например, самая злосчастная жаба, но делаю то же самое. Разве ты не слыхал, как я квакаю, хоть мне и не говорят комплиментов. А чем, спрашивается, эти громкие слова лучше моего анонимного кваканья? Царь Давид даже покраснел от стыда. Он больше уж не сиял. Нет, он скромно ходил по саду и слушал, как поет каждая маленькая травка. От такой последней жабы он и стал мудрецом. Но вы поглядите на это море! А облака!.. Разве это не лучше всех наших разговоров? Увы, недолго Лазику довелось любоваться красою природы. Подул западный ветер. Началась качка. Еле-еле дополз Лазик до борта. — Что это за смертельный фокстрот? Море, я еще так тебя расхваливал, а ты, оказывается, тоже против несчастного Ройтшванеца! Довольно уже!.. Я увидел, что ты умеешь все фокусы, но я ведь могу умереть. Ой, Фенечка Гершанович, хорошо, что ты меня сейчас не видишь!.. Раздался звонок. Горничная сердито крикнула: — Туфли в каюту сорок три! Живее! Почему вы их не чистите? Я могу только сделать с ними полное наоборот. И вообще не говорите мне о каких-то туфлях, когда я торжественно умираю. Что ж это за «святая земля», куда так трудно попасть маленькому еврею? Лучше уж сорок лет ходить по твердой пустыне. Уберите эти туфли, не то будет плохо!.. Сияло солнце, синело, успокоившись, море, мерно шел своей дорогой пароход «Виктория». Пассажиры первого класса переодевались к обеду. Непрестанно дребезжал звонок. Но не было ни сапог английского майора, ни полуботинок двух веселых туристов, ни туфель богатой еврейки. На носу копошилась крохотная тень. Лазик по- прежнему стоял, согнувшись над бортом. Наконец-то его нашел лакей. — Тебя все ищут, а ты что — рыбу ловишь? Где ботинки? — Я... я не могу... — Не валяй дурака. Качка кончилась. — А вдруг она снова начнется? Это же не по звонку, так я сразу встал в удобную позу. 121 — Это было мудро, но лакей, видимо, не любил философии. Он отлупил Лазика сапогами английского майора. Сапоги были солидные и со шпорами. Приехав в Тель-Авив, Лазик сразу увидел десяток евреев, которые стояли возле вокзала, размахивая руками. Подойдя к ним поближе, Лазик услышал древнееврейские слова. Он не на шутку удивился. — Почему вы устраиваете «миним» на улице, или здесь нет синагоги для ваших отсталых молитв? — Дурень, кто тебе говорит, что мы молимся? Мы обсуждаем курс египетского фунта, и здесь все говорят на певучем языке Библии, потому что это наша страна, и забудьте скорее ваш идиотский жаргон! Лазик только почесался. Он-то знал эти певучие языки! Они хотят устроить биржу по-библейски? Хорошо. У кого не бывает фантазий. Главное, где бы здесь перекусить?.. Печально бродил он мимо новых домов, садов, магазинов. На вывесках булочных настоящие еврейские буквы. Факт! Но булки остаются булками, и чтобы их купить, нужно выложить самые обыкновенные деньги... Лазик присел на скамейку в сквере. От голода его начинало мутить. — Земля как земля. Я, например, не чувствую, что она моя, потому что она, наверное, не моя, а или Ротшильда, или сразу Чемберлена, и я даже не чувствую, что она святая. Она царапается, как повсюду. Но кого я вижу?.. Абрамчик, как же вы сюда попали? Сколько лет, как вы из дорогого Гомеля? Уже три года? Пустячки! Ну как, вас тоже тошнило на этой мокрой качалке?.. Абрамчик печально вздохнул. — Я уже не помню, потому что с того времени я столько качался, что пароход кажется просто колыбелькой. Я пробовал копать землю, но со мной сделался маленький солнечный удар, так что я провалялся полгода в больнице. А потом меня избили ночью арабы, и я снова вернулся в больницу. А потом я продавал газеты на жаргоне, и меня избили не арабы — евреи. Но тогда меня даже не пустили в больницу. Хорошо. Я решил стать нищим в Иерусалиме. Это довольно выгодное дело. Вы же помните, что в Гомеле набожные еврейки кидали у себя в жестяную кружку то пять копек, то десять, а потом приезжал один из Палестины и забирал все. Так, оказывается, эти кружки висят повсюду, и что же, получаются крупные нули, так что стоит кричать у Стены плача, раз за это получаешь месячный оклад. Я так кричал, как будто меня резали. Но все сорвалось из-за одного окурка. Я себе забыл, что я не в Гомеле, а в Иерусалиме, и закурил хорошенький окурок, который я подобрал после англичанина. Что же вы думаете? Оказалось, это — суббота — гомельское счастье! — и меня так избили, что я едва уполз. Я кричал им: «Если суббота, то нельзя работать, а вы же работаете, когда вы меня бьете!» Но они даже не хотели слушать. Теперь я снова попал в этот замечательный Тель-Авив, и я, наверное, здесь умру. Старые цадики, когда они приезжали в Палестину умирать, вовсе не были такими идиотами. Это здесь самое подходящее занятие. Зачем я только поверил в их красивые разговоры и примчался сюда? Я был просто дураком, и когда вы мне говорили на курсах политграмоты: «Абрамчик, вы что-то недодумываете», — вы были совсем правы. Но вы, Ройтшванец, вы же почти марксист, как вы попали сюда? Это я вам расскажу в другой раз, после закуски, а не до. Вы ведь ничего не знаете. Когда вы уехали в Одессу, я еще шил галифе; тогда по улицам Гомеля гуляли, кроме настоящих людей, только грязные бумажки, а не эта гражданка Пуке. Я попал под исторический вихрь. Сюда, например, я приехал из какого-то нарочного Ливерпуля. Мне казалось, что здесь меня перестанут колотить. Но после вашей кровавой исповеди я начинаю уже дрожать. Я ведь стал таким подержанным телом, что из меня может сразу выйти весь дух. Все равно: будь что будет! Прежде всего я хочу заку сить. Может быть, мне отправиться в Иерусалим и там покричать у этой стенки? — Кричите. Там вовсе не дают каждый день деньги, их дают один раз в месяц, и вам придется ждать ровно три недели. Я же знаю все их дикие выходки! — Что же мне тогда остается?.. Я хочу кушать. Может быть, здесь есть кто-нибудь из гомельчан?.. — Как же! Здесь не кто-нибудь, а сам Давид Гольдбрух. Помните, у него была контора на углу Владимирской? Он еще уехал при первых большевиках в костюме напрокат, скажем, дворника. Так он здесь. Он, оказывается, в их палестинском комитете, и он кричит повсюду, что здесь апельсиновый рай. Я попробовал было к нему сунуться, но он просто закрыл дверь. А у него, между прочим, три роскошных дома и такой шик внутри, что англичане платят полфунта за один только взгляд. — Решено — я иду к Гольдбруху. Вы просто не сумели с ним поговорить. Как? Он в комитете, и он выгонит Ройтшванеца, когда этот Ройтшванец специально приехал из общего Гомеля в его апельсиновый рай? Нет, этого не может быть! Вы увидите, Абрамчик, что я вас вечером угощу телячьими ножками с картошкой или, например, студнем — я не знаю, что вы больше любите, а я и то, и другое. Гольдбрух вправду жил припеваючи. Он ведал строительными работами, строил иногда для других, чаще для себя, на каникулы ездил в Европу; там он собирал деньги, рассказывал об экспорте апельсинов, кутил с девушками, оставшимися в рассеянии», а потом возвращался в Тель-Авив — «Дело себе идет, к осени я построю еще одну хорошенькую дачку». Лазика Гольдбрух принял в беседке. Он лежал и пил ледяной лимонад. Его раскрытую грудь обдувал электрический вентилятор. Хоть Лазик и не помнил толком, что это за птица, Гольдбрух, он восторженно крикнул: — Додя! Ты видишь, что свет уж не так велик, — мы с тобой увиделись! Ну, как вы себя чувствуете?.. Лазик даже прищурил один глаз, как это делал Монькин, когда глядел на картину. — Немножко загорели, а так совсем как живой, Я бы вас узнал даже на парижской площади. Что? Вы не знаете, кто я? Я прежде всего ваш сосед. Вы жили на Владимирской. Теперь она, простите меня, стала улицей Красного Знамени. А я жил на улице Клары Цеткиной. Это в двух прыжках. Интересно, кто вам шил брюки? Наверное, Цимах. Теперь вы меня узнаете? Я же портной Ройтшванец. То есть как это вам ничего не говорит? Я — говорю. И хватит! Как ваши детки поживают? Что? У вас нет деток? Для кого же вы строите ваши дома? 122 Ну, не огорчайтесь, детки еще будут. Что вы там, кстати, пьете? Постыдный лимонад? А когда же у вас попросту обедают? Гольдбрух в ответ так яростно гаркнул, что Лазик отлетел на десять шагов. — Почему вы кричите, как в пустыне? — Потому что вы нахал. Говорите просто, что вам от меня нужно, и убирайтесь! — Что мне нужно? Например, кусочек родной колбасы на древнееврейском хлебе. — Работайте! — Ах, у вас есть что-нибудь перелицевать? Дайте же мне наперсток, и я в одну секунду выверну или даже укорочу... — У меня нет работы. Вы портной? Так напрасно вы сюда приехали. Здесь больше портных, чем штанов. — Что же я буду делать, скажем, завтра, если я до завтра не умру? — Ничего. Вы будет как все — самый обыкновенный безработный. — А им дают что-нибудь кушать? Тогда я уже согласен. — Что им дают? Шиш. У нас настоящее государство, а разве есть государство, чтобы не было безработных? Вы будете тихо сидеть и ждать, пока кончится этот кризис. — Сколько же я просижу натощак? Вы говорите, годик-другой? Вы, вероятно, выступаете в каком-нибудь цирке? Но я вас прямо спрошу: что, если я сейчас возьму из вашего драгоценного буфета одну библейскую булочку? Очень просто — вас моментально посадят в тюрьму. У нас настоящее государство, а разве есть государство без тюрьмы? И я уже нажимаю эту кнопку, чтобы вас выкинули на улицу, потому что мне слишком жарко для таких дурацких разговоров. — Я сам ухожу. До свидания, Додя, и в будущем году, скажем, в Гомеле. Это вам не нравится? Постройте себе в утешение еще один домик. Ой, как вы хрипите! Знаете что? Я здесь не видел ни одной свиньи. Откуда же здесь будут свиньи, когда это наша еврейская родина? Вот вам один минус. Разве бывает государство без свиней? Но не волнуйтесь, успокойтесь. У вас таки настоящее государство, и у вас есть даже свиньи, потому что вы, например, в полный профиль... Лазику не удалось закончить сравнения. Увидев широкоплечего лакея, он только воскликнул: «Начинается! И прямо с Голиафов!» — после чего быстро шмыгнул в ворота. Так Абрамчик и не получил ни телячьих ножек, ни студня. Началась для Лазика обычная неразбериха чередования профессий, раздирающие душу запахи в обеденные часы,.пинки, философские беседы и сон на жесткой земле. Но все труднее и труднее было сносить ему эту жизнь: подкашивались ноги, кашель раздирал грудь, и по ночам снились: Сож, международные мелодии, смерть. Недели две прослужил он у Могклевского, который торговал сукном в Яффе. В Тель-Авиве было слишком много лавок, а в Яффе дела шли хорошо; одна беда — арабы избивали евреев. Каждое утро, отправляясь из Тель- Авива в Яффу, Могилевский надевал на себя феску, чтобы сойти за араба. Пришлось и Лазику украсить свою голову красной шапчонкой. Это ему понравилось: феска ведь не хвост, феска, как в опере. Но как- то вечером Могилевский, почуяв непогоду, удрал с кассой в Тель-Авив. Лазик остался охранять товар. Подошли арабы. Они что- то кричали, но Лазик не понимал их. Он только на хорошем гомельском языке пробовал заговорить толпу. — Ну да! Я стопроцентный араб. У меня дома настоящий гарем и бюст вашего Магомета. На арабов это, впрочем, никак не подействовало. Могилевский прогнал Лазика: «Вы не умеете с ними жить в полной дружбе». Лазик чесал спину и печально приговаривал: — У них таки бешенство, как у настоящих арабов! В общем, евреям чудно живется на этой еврейской земле. Вот только где я умру: под этим забором или под тем? Он нищенствовал, помогая резнику резать кур, набивал подушки и тихо умирал. Как-то при содействии монтера Хишина из Глухова удалось ему прошмыгнуть в ночное кабаре. Девушки, накрашенные ничуть не хуже Марго Шике, танцевали, задирая к потолку голые ноги. Они пели непристойные куплеты. Впрочем, содержание последних Лазик понимал с трудом: по-древнееврейски он умел только молиться. Зато бедра актрис произвели на него чрезмерно сильное впечатление. Расталкивая почтенных зрителей, которые пили шампанское, он вскочил на эстраду. — Здесь таки цветут святые апельсины! Я падаю на колени. Я влюблен в вас всех оптом. Сколько вас? Восемь? Хорошо, я влюблен в восемь апельсинов, и я предпочитаю умереть здесь от богатырской любви, чем где- нибудь на улице от постыдного аппетита. Девушкам это, видимо, понравилось. Они начали смеяться. Одна из них даже сказала Лазику по-русски: — Вы последний комплиментщик. Сразу видно, что вы из Одессы. — Положим, нет. Я из Гомеля. Но это неважно. Перейдем к вопросу об апельсинах... Здесь к Лазику подбежал один из зрителей. Он начал кричать: — Нахал! Как вы смеете вносить в эту высокую атмосферу ваш рабский жаргон? Когда они говорят на священном языке Суламифи, выскакиваете вы, и вы пачкаете наши благородные уши вашей гомельской грязью. Вы, наверное, отъявленный большевик! Взглянув на крикуна, Лазик обомлел: это был Давид Гольдбрух. Быстро Лазикспросил его: — Додя, Голиаф с вами? — Негодяй. Он еще смеет острить, когда за этим столом все члены комитета! Эй, швейцар, освободите нашу долину молодых пальм от подобного пискуна! Швейцар сначала отколотил Лазика, а потом передал его двум полицейским. 123 — Господин Гольдбрух сказал, что это, наверное, большевик. Тогда полицейские в свою очередь стали тузить Лазика. — Остановитесь! Кто вы такие? Вы евреи или вы полицейские доктора? Мы, конечно, евреи. Но ты сегодня потеряешь несколько ребер. Эти англичане еще кричат, что мы не можем справиться с большевизмом. Хорошо! Они увидят, как мы с тобой справились. Полуживого Лазика отвели в тюрьму. Там он нежно поцеловал портрет португальского бича, сказал «девятнадцатая» и заплакал. — Они дерутся не хуже певучих панов. Что и говорить, это настоящее государство! Я не знаю, сколько у меня было ребер и сколько осталось, я им вовсе не веду счет. Но одно я знаю, что Ройтшванецу — крышка. Утром его повели на допрос. Увидев английский мундир, Лазик обомлел: — При чем тут великие британцы? Может быть, вы тоже недовольны, что я говорил с этими апельсинами не на языке покойной Суламифи? Англичанин строго спросил: — Вы большевик? — Какая же тут высокая политика, когда меня свели с ума их ноги? Вы что-то пронзаете меня вашим умным взглядом. Уж не получили ли вы открытку с видом от мистера Роттентона? Тогда начинайте прямо с копания могилы. — Мы не потерпим у себя большевизма! Мы его искореним. Мы очистим нашу страну от московских шпионов. Тогда Лазик задумался. — Интересно — сплю я или не сплю? Может быть, я сошел с ума от этих Голиафов? Правда, они вытряхивали бедра, но они могли нечаянно вытряхнуть и мозги. Я, например, не понимаю, зачем вы вспоминаете вашу великую страну с письмами Троцкого и даже с картофельным пудингом, когда я не в Ливерпуле, а в еврейской Палестине? — Вы показываете черную неблагодарность. Мы вам возвратили вашу родину. Мы вас опекаем. Это называется «мандат». Теперь вы поняли? Мы построили военный порт для великобританского флота и авиационную станцию для перелетов из Англии в Индию. Мы ничего не жалеем для вас. Но большевистской заразы мы не потерпим. Лазик стал кланяться. — Мерси! Мерси прямо до гроба! Но скажите, может быть, вы снимете с меня этот мандат, раз я такой неблагодарный Ройтшванец? Все равно я скоро умру, так дайте мне умереть на свободе, чтоб я видел эти апельсиновые сказки, и солнце, и колючую землю, которая меня зачем- то родила! А потом, через месяц или через два, вы сможете вовсю опекать мою заразительную могилу. Я дам вам на это безусловный мандат. Вы уже вернули мне мою родину с этим роскошным портом и даже со станцией, вы великий британец, и вы золотая душа. Верните же мне немного свежего воздуха и скачущих по небу облаков, чтоб я улыбнулся на самом краю могилы! Два месяца просидел Лазик в иерусалимской тюрьме. Когда он вышел, цвели апельсиновые деревья, но он не мог им улыбнуться. Еле-еле дошел он до Стены плача. — Что же мне еще делать? Я буду здесь стоять и плакать. Может быть, мне повезет, и завтра как раз число, когда раздают деньги из жестяных кружек. Тогда я съем целого быка. А если нет, тоже ничего. По крайней мере, интересно умереть возле подходящей вещи. Кто бы надо мной плакал? А так я услышу столько надрывающих воплей, сколько не слышал ни один богач. Ведь здесь же, может быть, триста проходимцев, и они воют с утра до ночи. Им, конечно, все равно над чем плакать, они поплачут над мертвым Ройтшванецом: «Ой, зачем же ты развалился, наш ненаглядный храм!.. » Вспомнив о своих новых обязанностях, Лазик начал бить себя в грудь и кричать. Рядом с ним рыжий еврей так усердствовал, что Лазику пришлось закрыть уши: — Не можете ли вы оплакивать на два тона ниже, а то у меня лопнут все перепонки?.. Рыжий еврей оглянулся. Лазик закричал: — Что за мираж? Неужели это вы, Абрамчик? Но почему же вы стали рыжим, если вы были вечным брюнетом? — Тсс! Я просто покрасил бороду, чтоб они меня не узнали после того факта с окурком. Ну, давайте уже выть! Оба завыли. Лазик прилежно оплакивал разрушенный храм, но голова его была занята другим. Когда плакальщики разошлись по домам, он сказал Абрамчику: — Слушайте, Абрамчик, я хочу поднести вам конкретное предложение. Как вы думаете, не пора ли нам уже возвращаться на родину? Абрамчик остолбенел. — Мало я слушал эти слова? Ведь мы уже, кажется, вернулись на родину. О чем же вы еще хлопочете? — Очень просто, я предлагаю вам вернуться на родину. Здесь, конечно, певучая речь, и святая земля, и еврейская полиция, и даже мандат в британском мундире, слов нет, здесь апельсиновый рай, но я хочу вернуться на родину. Я не знаю, где вы родились— может быть, под арабскими апельсинами. Что касается меня, то я родился, между прочим, в Гомеле, и мне уже пора домой. Я поездил по свету, поглядел, как живут люди и какой у них в каждой стране свой особый бокс. Теперь я только и мечтаю, что о моем незабвенном Гомеле. Вдруг у меня хватит сил, и я доплыву туда живой!.. Я снова увижу красивую картину, когда Сож сверкает под берегом, наверху деревья, и публика возле театра, и базар с отсталыми подсолнухами. Я увижу снова Пфейфера. Я скажу ему: «Дорогой Пфейфер, как же вы здесь жили без меня? Кто вам шил, например, брюки? Наверное, Цимах. Ведь здесь же складочка совсем не на месте». И 124 Пфейфер обольется слезами. А маленький Монюша будет прыгать вокруг меня: «Дядя Лазя, дай мне пять копеек на ириски!» И я, конечно, отдам ему всю мою душу. Я увижу Фенечку Гершанович. Она будет гулять с молодым сыном по роскошному саду Паскевича. Я вовсе не подыму низкий шум. Нет, я скажу ей: «Доброе утро! Гуляйте себе хорошо. Пусть цветет ваш маленький богатырь. Я был в двенадцати странах и на двадцати занозах. Я переплывал все моря вплавь. Я видел, как цветут орхидеи. Но я думал все время только о вас. Теперь я, конечно, умираю, и не обращайте на меня никакого внимания, но только принесите на мою могилу один гомельский цветок. Пусть это будет не нахальная орхидея, а самая злостная ромашка, которая растет на каждом шагу». Да, я скажу это Фенечке Гершанович, и потом я умру в неслыханном счастье. — Вы совсем напрасно говорите о смерти. Вы еще юноша, и вы можете даже жениться. Я не понимаю только одного, как вы поедете отсюда в Гомель? Это же не в двух шагах. Ну что ж, я снова сяду на эту качалку, и я закрою глаза. Хорошо, выматывайте из меня все кишки! Одно из двух: или я умру, или я доеду. — Но вы с ума сошли! Кто вас повезет? — Это очень просто. Янкелевич в Париже рассказал мне все по пунктам. Я беру лист, и я немедленно открываю полномочный «Союз возвращения на родину». Причем это будет великая федерация: они вовсе не обязаны ехать в Гомель. Нет, они могут возвращаться в Фастов и даже в Одессу. Я соберу сто подписей, и я отошлю в Москву заказным письмом всем самым роскошным комиссарам, а тогда за нами приедет настоящий пароход. Вы думаете, здесь мало охотников? Юзька не закричит «ура»? Старик Шенкель не прыгнет мне на шею? Какие тут могут быть разговоры! Все поедут. И я не хочу откладывать это в долгий ящик. Я сейчас же пойду с анкетным листом. Действительно, Юзька, услыхав о «Союзе возвращения на родину», от радости подпрыгнул, он даже угостил Лазика овечьим сыром. Но вот с Шенкелем вышла заминка. Шенкель вовсе не начал обнимать Лазика. Он стал спорить: — Зачем тебе туда ехать? Что ты, комиссар? Очень там хорошо живется, нечего сказать! Сплошной мед! Ты, может быть, думаешь, что они тебя озолотят за то, что ты к ним вернулся? — Нет, этого я как раз не думаю. И я вам скажу правду, я думаю полное наоборот. Я ведь не могу им доказать, что Борис Самойлович — это одно, а я — другое. Я же состоял его кровным племянником, и они, конечно, спросят, где тот драгоценный сверточек. Хорошо еще, если при этом не будет гражданки Пуке. А вдруг она навсегда осталась в Гомеле? Ей же мог понравиться такой красивый город. Тогда меня расстреляют в два счета. Но разве в этом вопрос? Я же хочу умереть у себя дома. — Ты, Ройтшванец, молод и глуп. Куда ты лезешь? Там ячейки, и фининспектор, и этого нельзя, и туда запрещено, и чуть что, тебя хватают. Это самый безусловный ад, какой же болван пойдет в своем уме на такие истязания? Вы, конечно, старше меня, но насчет ума— это большой вопрос. Хорошо. Там ад, а здесь рай. Правда, я не заметил, чтобы здесь был особенный рай. Вы тоже живете не как ангел, а одной сухой коркой. Но, может быть, я близорукий. В Гомеле Левка пел куплеты о Париже, так что слюнки текли, что же, я там был, в Париже, и я тоже не заметил, что это замечательный рай. Меня там попросту колотили. Но, скажем, что рай в Америке, потому что в Америке я, слава богу, не был, и я не стану с вами спорить. Пусть там стопроцентный рай, а у нас фактический ад. Я принимаю эту предпосылку и все-таки хочу ехать. Я вам расскажу одну гомельскую историю, и посмотрим, что вы тогда запоете. Вы, наверное, слыхали про ровенского цадика. Он же не был ни молодым, ни глупым, как я. Он для вас, кажется, безусловный авторитет, раз вы держитесь за все предписанные бормотания. Так вот, к этому цадику однажды приходит суровый талмудист с самыми горькими упреками: — Послушайте, рэби, я вас совсем не понимаю. Все говорят, что вы благочестивый еврей, а я живу рядом, и мне кажется, что у вас не дом, но кабаре. Я сижу и читаю Талмуд, а наши хасиды делают черт знает что — они поют и танцуют, они громко смеются, как будто это московская оперетка. Цадик ему преспокойно отвечает: — Ну да, они смеются, как дети, они поют, как птицы, и они прыгают, как козлята. Ведь у них в сердце не черная злоба, но радость и полная любовь. Талмудист так рассердился, что чуть было не проглотил кончик бородки: он всегда жевал кончик бородки, когда ему хотелось придумать умное слово. Он таки ничего не придумал. Он только сказал: — Это довольно неприличные для еврея разговоры. Вы ведь знаете, рэби, что, когда мы изучаем один час Талмуд, мы делаем ровно один шаг поближе к раю. Значит, когда мы не изучаем Талмуда, мы пятимся прямо в ад. Ваши хасиды поют, как идиотские птицы, вместо того чтобы сидеть над священной книгой. Куда же вы их толкаете? В ад. Но в аду — признанный ужас. Там одних кипятят, а других жарят, а третьих вешают за языки. Конечно, если это вам нравится, вы можете за час до кипятка танцевать. Но я буду изучать Талмуд, чтобы попасть прямо в рай. Там всегда тепло, не холодно, не жарко, ровная температура, хорошее общество, то есть повсюду одни ангелы: все сидят в золотых коронах и читают Тору. Там розы без шипов, и деревья без гусениц, и на дороге ни одной цеповой собаки. Так неужели же вы не хотите попасть в этот рай? Цадик только усмехается. — Нет. Я, конечно, тебе благодарен за умные советы, но я не хочу этого готового рая. По-моему, там могут жить только ангелы, потому что они не люди, у них нет ни сердца, ни печени, ни страсти. А человек вовсе не должен бояться, если он даже падает вниз. Как же можно подняться наверх, если никогда не падать? Ты мне рассказал о каком-то чужом рае. Это не мой рай, и моего рая вообще нет, я его еще не сделал, а глядеть на красивые картинки я совсем не хочу. Если я буду много смеяться, и много плакать, и много любить, что же, может быть, тогда я увижу на краю могилы мой окровавленный рай. 125 Вот что ответил ровенский цадик этому ученому талмудисту. Я вас зову ехать. Конечно, там плохо и там трудно. Там нет никакой ровной температуры, а только смертельный сквозняк. Но там люди что-то ищут. Они, наверное, ошибаются. Может быть, они летят даже не вверх, а вниз, но они куда-то летят, а не только зевают на готовых подушках. Вы, Шенкель, конечно, в почетных годах и оставайтесь здесь, но вы, Бройдек, и ты, Зельман, вы же молодые скакуны, так давайте скорее ваши огненные подписи!.. — Какие подписи? Что это за собрание на святой улице? Это, может быть, ты — главный агитатор? Ну-ка, подойди сюда за хорошей подписью! Лазик теперь знал, что евреи умеют драться. Он бросился бежать. Вначале за ним гнались. Он бежал по загородному шоссе, боясь перевести дыхание. Но он не мог бежать. С грустью подумал он: «Как тот голый еврей вокруг Рима...» Он чувствовал, что силы оставляют его. Нет, он не вернется на родину!.. Он остановился. Больше за ним никто не бежал. Кругом были только черные поля, редкие огоньки ферм, звезды, тишина. — Где же мой рай? Или я его еще не выкроил?.. И он побежал через силу дальше. 40 Лазик шел по дороге — куда и зачем, он сам не знал. Он не мог идти, и он все же шел. Ему казалось, что он уже прошел тысячи верст. Не Гомель ли за тем поворотом? Но на знойном белесом небе по-прежнему темнели купола и минареты Иерусалима. Лазик все шел. Наконец он свалился. Он лежал теперь в дорожной пыли. — Кажется, здесь можно поставить хорошую точку. Но нет, Лазика не хотели оставить в покое. Загудел рожок автомобиля, и шофер, затормозив машину, стал ругаться: — Нахал! Как ты смеешь валяться на дороге? Лазик виновато улыбнулся: хорошо, он не будет валяться. Он же ученый, он знает, что такое раздавленное насекомое не смеет задерживать движения. Что это за старая беседка? Наверное, в ней никто ни живет. Там он никого не будет раздражать своим неприличным видом. Лазик дополз до каменного шатра. Внутри было темно и прохладно. Он увидел бородатого еврея в картузе и пышную даму. На даме было столько бриллиантов, что Лазик зажмурил глаза: как звезды сияли они вокруг тусклой свечи. А этот скрипучий шелк! А это перышко на шляпе! Задыхаясь от гордости и от астмы — немудрено, жиры так и валились на пол, — дама говорила бородатому еврею: — Вы прочтете самые шикарные молитвы, потому что У меня, слава богу, есть еще чем заплатить. Я приехала сюда из Нью-Йорка, и у моего мужа там самый шикарный ресторан. Я приехала поглядеть на землю предков, пусть эти патриархи видят, что вовсе не все евреи стали несчастными попрошайками. Нет, некоторые таки вышли в люди. Я хочу порадовать моих предков. Это что- нибудь да значит — увидеть самую шикарную еврейку. Бородатый сторож лебезил: — Я прочту десять таких молитв, что все патриархи в раю ахнут. Но скажите мне ваше драгоценное имя и, может быть, имя вашей незабвенной мамочки. Я их напишу на бумажке, и я кину бумажку за этот камень, прямо к самой Рахили. Дама раскрыла ридикюль. — Я могу даже пожертвовать мою визитную карточку. Пощупайте зад — это не буквы, это гравюра, это же самые шикарные карточки. Меня зовут по последней моде Виктория, но моя мамочка еще торговала селедками, и я вам скажу по секрету, что ее таки звали Хаей. Сторож кинул бумажку за камень и, раскачиваясь, принялся бормотать молитвы. Но дама прервала его: — Уже хватит с предков! Потому что пора к обеду, и меня ждет автомобиль. Только что она ушла, сторож обратил внимание на лежавшего возле двери Лазика. С презрением оглядел он его лохмотья. Да, этот не сверкает бриллиантами!.. — Спрашивается, что ты здесь делаешь? — Я? Я — уже. — Что значит «уже»? — Уже — умираю. Тогда сторож начал кричать: — Вы видели такого второго нахала? Ты знаешь, где ты? Это вовсе не место для подобных попрошаек, это могила самой Рахили. Ты понимаешь, что это за замечательная святыня, или ты вообще оглох? Здесь вовсе не умирают, здесь дают мне немножко денег, и я кидаю записку, и я читаю несколько молитв. А потом отсюда уходят. Ты понял? Что же ты не двигаешься? Как зовут тебя и твою, скажем, мать? Отвечай скорей, пока никого нет, и я тебе устрою это по самому дешевому тарифу. Лазик печально улыбнулся. — Вы напрасно волнуетесь. Скажем, что меня зовут «Горе», а мою мать «Печаль». Что же дальше? Вам незачем шевелить губами. У вас и так, наверное, на губах мозоли. Я вовсе не глухонемой, чтобы вы за меня разговаривали с природой, и я не эта американская свинья, у меня нет ни одного пенса, так что перестаньте волноваться. Я через час, наверное, умру. — Нахал! Богохульник! Последняя собака! Сейчас же убирайся отсюда, не то я тебя истерзаю! Если каждый нищий вздумает умирать на таком святом месте, то что же это будет? Уходи умирать на помойку! Этот гроб Рахили вовсе не для тебя устроен. Он устроен для порядочных людей. 126 Лазик не двигался с места. — Вы можете кричать сколько вам вздумается, но я отсюда не уйду, раз я сказал вам, что я умираю. Когда я еще мог жить, все кричали: «Нахал Ройтшванец, как ты смеешь здесь жить?» И меня терзали. И я уходил, потому что я еще хотел жить. А теперь мне совсем все равно. Хотите терзать меня— терзайте. Действительно, какой скандал: Лазик Ройтшванец смеет умирать на таком шикарном месте! Но примиритесь с фактом. Я и при жизни вовсе не выбирал себе подходящие места. Нет, просто дул ветер, и я садился в жесткий вагон. Так и теперь. Я полз, пока я мог, и я приполз. Вы думаете, я знал, что здесь живет этот «гроб Рахили»? Нет, я думал, что здесь никто не живет. Я хотел вежливо умереть, чтобы никого не обидеть последним вздохом. Я ведь знаю, что громко вздыхать нельзя. Но вот я дополз, и вы здесь. Так не кричите на меня за пять минут до последней точки. Будьте оригиналом, скажите мне: «Пожалуйста, милости просим...» Я же никогда не слышал таких неожиданных звуков! Сторож, однако, упорствовал: — Здесь вовсе не принято умирать, и кто же будет платить за твои дурацкие похороны? Тогда Лазик сказал ему с необычайной строгостью: — Знаете что, еврей, вы мне надоели. Вы мне мешаете умереть. Я должен сейчас подумать о чем-нибудь высоком, а вы ко мне пристаете с пошлыми деньгами. У меня нет денег, и вы можете выкинуть мое мертвое тело хоть в яму, мне все равно. Но сейчас, когда все во мне гудит, я хочу думать только о самом высоком. Сторож расхохотался: — Подумаешь, что за важная птица!.. Я еще понимаю, когда умирают какие-нибудь ученые цадики, или министры, или щедрые господа с большим капиталом, так им есть на что оглянуться, у них позади пышная жизнь. А над чем ты можешь философствовать, если ты жалкий попрошайка, неуч, нахал с улицы? — Да, я не ученый секретарь, и я не Ротшильд. Я только гомельский портной. Но все-таки перед смертью мне нужно подумать. Вот я вижу всю мою бурную жизнь. Она кипит внизу, как наш Сож. Мне самому смешно, когда я вспоминаю печальные факты. Это даже не похоже на жизнь. Это просто постыдный анекдот нашего Левки. Я вспоминаю, и я улыбаюсь, может быть, за пять минут до последнего вздоха. Наверное, солидные люди умирают совсем иначе. Они считают, сколько они книг написали, когда устраивали шумные перевороты или почем продавали разный товар. Вы правы, господин гробовой сторож, я умираю, как откровенный дурак. Можете поднести сюда вашу драгоценную свечку, и вы увидите, что мои ноги уже не двигаются, я начинаю кончаться с ног, но на моем лице самая отъявленная улыбка. Я улыбаюсь, потому что я все-таки думаю о самом высоком, и хоть вы грубый крикун, я сейчас расскажу вам мою последнюю историю. Это будет история о дудочке. Вы, конечно, знаете, кто такой Бешт. Он ведь выдумал всех хасидов. Для вас такие вещи это дважды два, раз вы кормитесь с мертвого места, а для меня они только красивый предрассудок. Я вижу насквозь ваш дурман, но умные люди вссгда остаются умными людьми, даже когда они играют в прятки. Нечего говорить— Бешт был большой головой, и все евреи его почитали. От одного разговора с ним они сразу вырастали на целый вершок. Я уже не говорю о том, какое у него было сердце. По-моему, он был куда справедливей, чем его выдуманный бог, потому что от Бешта никто не видел зла, ну а от бога... Впрочем, я не хочу вас на прощанье чересчур огорчать. Значит, город, где жил этот Бешт, был прямо-таки избранный, хоть в нем не было, наверное, никаких бронзовых фигур. Это был смехотворный городишко между Гомелем и Бердичевом, не Париж и не Берлин. Зато в нем жили самые умные и самые набожные евреи, а среди них этот Бешт. Хорошо. Настает «Иом-Кипур». Евреи собираются в синагогу. Они должны каяться в грехах. Они каются. Конечно, они вовсе не грешили. Разве могут грешить такие порядочные люди? Они, скорей всего, каются для приличия. Посмотрите на эту публику! Вот где ваши цадики и щедрые господа. Этот знает наизусть весь Талмуд, этот пожертвовал триста рублей на новый свиток, этот всегда постится, этот день и ночь молится, словом, они даже не евреи, а готовые ангелы. Но что же происходит? Бог наверху раскрывает Книгу судеб, и он вешает разные грехи. Набожные евреи хотят у него выпросить пощаду. Они бьют себя в грудь, они плачут, они кричат, но нет им никакого облегчения. Каждый чувствует, что у него в сердце камень, и напрасно лить слезы, ничего не поможет, слишком много в этом праведном городе грехов. Вы себе представить не можете, какая тоска охватила всех! В синагоге стоял такой вопль, что даже птицы, которые летали над крышей, падали вниз от печали. День был для осени на редкость жаркий, набрались тучи, и хотел уже грянуть гром, и не мог. В ужасе думали евреи: «Мы погибли, бог не отпустит наших грехов, вот-вот уже скрипит его перо, вот-вот он выписывает нам самую черную смерть. Может быть, придет на всех холера или случится новый погром и будут пороть животы, насиловать наших жен и топтать наших деток. Ой, горе нам! Нет нам пощады! Чем ужасным провинились мы?.. » И все умники каялись в разных напечатанных грехах, но своих грехов они не помнили, и как они могли помнить разную человеческую мелочь? Тот, кто знал наизусть весь Талмуд, не знал ни одного простого слова. Он не мог утешить какого-нибудь горемыку, не мог приласкать ребенка, не мог посмеяться в праздник с бедняками. А тот, кто выложил тысячу рублей на пышный свиток, не знал, что значит обыкновенная нужда. Он подавал две копейки на улице признанным нищим, но он не поднес бедному портному, у которого к субботе не было ни свечи, ни булки, чудесного подарка. Он думал, что все люди обходятся красивым свитком. И тот, кто молился, не умел прощать. И тот, кто постился, не умел накормить голодного. И вся их справедливость была на два часа. Они ее напяливали на себя, как шелковый талес. А теперь выдуманному богу надоел этот маскарад. И вот кричат евреи, но нет дороги их крикам. Тогда они поворачиваются к Бешту: «Раз Бешт с нами, мы не можем пропасть. Он же свой человек у бога, он выпросит нам полное прощение!» Бешт стоит и молится. Но ужасная скорбь на его лице, так что больно глядеть. Он же не просто умник, он видит сердца евреев. Он берет на руки их грехи, и у него опускаются руки: таких грехов никто не выдержит. Он 127 хочет заплакать, но у него нет слез. Он — как это небо перед грозой: столпились тучи, нечем дышать, должен пролиться дождь, должен ударить гром, но нет, не может. Тихо и жутко в такой день на земле. Страшно старому Бешту. Он просит выдуманного бога: «Дай мне слезы, и я вымолю у тебя прощение всем евреям». Но бог оглох. Он хочет быть справедливым. Он заткнул себе уши, чтобы не растрогаться. И напрасно хлопочет Бешт. Все страшней и страшней евреям. Они видят, что Бешт терзается. Они видят, что сам Бешт им не поможет. Они уже не кричат больше. Они уже прокричали все голоса. Тихо в синагоге, так тихо, как перед самой смертью, так тихо, сторож, как сейчас у меня на душе. Кажется, слышат евреи шелест страниц; это там, наверху, бог переворачивает новую страницу Книги судеб. Сейчас грянет гром. Сейчас захлопнет он тяжелую книгу, и конец, конец всем! Вдруг среди этой скорбной тишины происходит полное неприличие. Куда только не пролезают разные нищие нахалы! Я вот попал прямо на гроб Рахили, а в ту синагогу, где столько было богачей и знаменитостей, тоже прошмыгнул бедный портной. Его звали Шулимом. Он пришел со своим маленьким сыном, которому было года три или, самое большее, четыре. Шулим пришел молиться, а у ребенка в голове, конечно, не философия, там скорей всего детские проказы. Ему в синагоге скучно. Все стоят и молятся. Ну, час, ну, два, и ребенку надоело. Он дергает отца: «Я хочу к маме», но Шулиму не до него: бедный Шулим тоже вздумал разговаривать с богом. Ребенок не знает, что бы придумать, и тогда он вспоминает, что у него в кармане жестяная дудочка. Мама ему купила вчера на базаре за пять копеек этот богатый подарок. Он вынимает себе дудочку и хочет подуть, как отец, слава богу, замечает: — Иоська, сейчас же спрячь эту глупость! Сегодня «Иом-Кипур», и надо плакать, а не играть на трубе. Но этот Иоська упрямый. Он не хочет плакать. Он хочет обязательно дуть в дудочку. Уже все видят, какой полный скандал. Мало и так они согрешили, а здесь еще это безобразие в синагоге! Понятно, что бог обижается... Они даже обрадовались. Может быть, все дело не в их грехах, а в этом нахальном портном? Как он сюда затесался? И они гонят Шулима. Но тут вмешивается Бешт. Конечно, во время молитвы нельзя разговаривать, но все-таки Бешт говорит: — Оставьте этого ребенка! Если он хочет дуть в дудочку, пусть дует. Иоська, конечно, задул. Он дул в полное свое удовольствие. И грянул гром, и брызнули из глаз Бешта живые слезы, и сразу стало легко всем евреям. Не успели они опомниться, как настал вечер, вспыхнули звезды, кончился пост. Со слезами радости обнимали они друг друга: «Вот бог и простил нам все наши грехи. Мы недаром молились и недаром постились. Когда с нами Бешт, как же может бог на нас сердиться...» Почтительно обступают они Бешта: — Рэби, вашей молитвой мы все спаслись. Но Бешт качает головой. Нет. Было темно на небе, и там шла смертельная борьба. Ваши грехи весили столько, что их не могли перевесить никакие покаянные слезы. Бог закрыл себе уши. Бог запретил мне плакать. Бог не слышал больше моих молитв. Но вот раздался крик этого ребенка. Он дунул в дудочку, и бог услышал. Бог не выдержал. Бог улыбнулся. Это же была такая глупая забава, ровно за пять копеек, и это было такое неприличие в великий пост!.. Но я скажу вам одно, умные евреи, вовсе не ваши доводы и не мои молитвы спасли наш город, нет, его спасла жестяная дудочка, один смешной звук от всего детского сердца... Поглядите скорее, как этот Иоська улыбается!.. Лазик замолк. Он слишком много говорил. Он еще дышал. Непонятно, как досказал он до конца историю о дудочке. Пот покрыл его тело. Сторож ворчал: — Это все-таки непорядок, в «Йом-Кипур» позволить себе такие выходки! Ты это попросту выдумал, чтоб заговорить мне зубы. Но теперь ты поговорил, и ты можешь убираться. Слышишь?.. Лазик ничего не отвечал. Он даже не вздыхал. Тихо и легко умирал он. Сторож понюхал табак, почесал бороду, потом, не понимая, что же приключилось с этим нахальным нищим, взял свечу и поднес ее к лицу Лазика. — Ну, что это за поведение?.. Лазик лежал неподвижно. Он больше не дышал. На его мертвом лице была детская улыбка. Вот гак улыбался маленький Иоська, когда ему позволили дунуть в дудочку. И увидев улыбку Лазика, сторож обомлел. Он забыл о деньгах за похороны. Он не повторял привычных молитв. Нет, выронив на пол свечу, он заплакал живыми слезами. Спи спокойно, бедный Ройтшванец! Больше ты не будешь мечтать ни о великой справедливости, ни о маленьком ломтике колбасы. Париж Апрель—октябрь, 1927 Василий Аксенов Аксенов Василий Павлович, прозаик, (20.8.1932-6.07.2009). Сын Евгения Гинзбурга по месту ссылки которой (в Магадане) Аксенов провел часть детства. Отец Аксенова был партработником Аксенов в 1956 г. окончил Ленинградский медицинский институт, работал врачом в больницах, до 1960 г. С1959 г. рассказы Аксенова печатались в журнале «Юность», в 1960 г. там же была опубликована повесть «Коллеги» — первое крупное произведение Аксенова, обратившее на себя внимание, повесть была инсецнирована автором и шла в театрах; по ней был снят фильм. В последующие годы проза Аксенова посвящена, прежде всего, проблемам молодежи; вокруг его романов ««Звездный билет» (1961) и «Апельсины из Марокко» (1963) развернулась бурная полемика, предметом которой была не только откровенность автора в 128 разработке этой темы, но и его поиски новых, форм (ср. Steininger). С 1965 г. Аксенов обращается к,другим темам, стремясь достичь глубины высказывания с помощью новых изобразительных средств: элементов ирреальности, гротеска, абсурда. С 1962-69 гг. Аксенов, живший в Москве, входил в состав журнала «Юность». Участвовать в качестве делегата в работе съездов СП Аксенов стал лишь с 1965 г., причем в 1971 г. — только с правом совещательного голоса. В 1977-78 гг. в СССР и США публиковались нереалистические произведения Аксенова. В 1979 г. он подвергся резким нападкам как, один из главных, составителей альманаха ««Метрополь», в декабре 1979 г. заявил о выходе из СП, вслед за чем вынужден был уехать из СССР (22. 7. 1980). В США он, оставшись в душе русским, включился активно в американскую культурную жизнь. Перестройка (с 1989) привела к перепечатке сначала его советских, а потом и зарубежных произведений. Живет в Вашингтоне, США. В произведениях первого периода, нашедших, признание в СССР и за рубежам, Аксенов знакомил читателей с жизнью городской молодежи, делая это в форме, не совсем обычной для тогдашней советской литературы В ««Звездном билете» он изображает молодых людей, настроенных скептически и протестующе по отношению кокружающемумиру, любящих,западную литературу и музыку, пытающихся понять абстрактную живопись. Новой тематике сопутствуют и эксперименты в области формы, прежде всего смена перспективы «Ни один из современных советских, писателей не может сравниться с ним в области формотворчества и смелого экспериментирования» (D. Brown). Аксенов вводит в свою прозу специфический сленг молодежи — протестующей, никак не разделяющей коммунистические идеалы светлого будущего. При переиздании повести «Апельсины из Марокко», состоящей из 18-ти отдельных главок, каждый раз от лица другого рассказчика, автор сократил сленг. В следующих, произведениях, Аксенов часто осталяет строго реалистическую манеру повествования, пытаясь сочетать принципы классической русской прозы с методами литературного авангарда 20-х гг. и,, прежде всего, — А. Белого. Это относится, например, ктаким произведениям как««<Жаль, что вас не было с нами» (1965) и особенно «Затоваренная бочкотара» (1968). В неопубликованной пьесе «Всегда в продаже», с успехом поставленной в конце 60-х гг. на сцене ««Современника», Аксенов в гротесковой форме сочетает реальность и ирреальность, достигая этим действенной критической направленности; при этом он с пониманием изображает и раскрывает сущность типа оппортуниста. Книга «Любовь ^электричеству» (1971) — написанная для серии «Пламенные революционеры» — об инженере и террористе Л. Красине. Действие происходит в 1905-1908 гг. и ставится самим автором в определенную параллель к волнениям во Франции в 1968 г.; здесь Аксенов изображает интеллигенцию вообще и отдельного человека в самую активную пору его жизни. Повесть «Мой дедушка — памятники» (1972) принадлежит к,фантастической литературе. В изображении сверхгероя проявилось дарование Аксенова в сфере иронии, пародии и многопланового повествования, а также его творческая связь сН Гоголем и М Булгаковым.. В последнем из крупных произведений Аксенова, опубликованного в СССР «В поисках жанра» (1978) рассказывается об автомобилисте — искателе приключений, но общечеловеческие проблемы на этот раз не затрагиваются. Самый крупный роман Аксенова — «<Ож@г» (1980), над которым он работал шесть лет, назван автором «хроникой 60-70-х годов», но является таковым лишь по своей структуре; форма романа включате в себя элементы фантастики, а время действия захватывает и детство героя. В альманахе «Метрополь»Аксенов напечатал не опубликованную в СССР пьесу «Четыре темперамента» (1979), в которой ставится вопрос о существовании человека после смерти. В основе романа «Остров Крым» (1981) лежит вымышленный факт: будто бы Крым (не полуостров, а остров) в 1922 г. не был захвачен Красной Армией и развивался как, свободное западное государство. Главное в романе — актуальные политические и человеческие проблемы эмиграции и отношения к советской родине. Соч.: Коллеги, 1961; Звездный билет, ж. «Юность», 1961, В 6-7; На полпути колуне, ж. «Новый мир», 1962, № 7; Апельсины из Марокко, ж «Юность», 1763, № 1; Товарищ Красивый фуражкин, ж. «Юность», 1964, №12; Катапульта, 1964; Пора, мой лург, пора, 1965; Затоваренная бочкотара, ж. «Юность», 1968, №3; Жаль, что вас не было с нами, 1969; Любовь к,электричеству. Повесть о Красине, 1971; Мой дедушка — памятник, 1972; Круглые сутки нон-стоп, ж. «Новый мир», 1976, № 8; Стальная птица, ж. ««Глагол», Ann Arbor, № 1, 1977; Поиски жанра, ж. «Новый мир», 1978, №1; Золотая наша железка, Ann Ar6or, 1980 и ж. «Юность», 1989, № 6-7; Ожог, Ann Arbor, 1980; Остров Крым, Ann Arbor, 1981 и ж. «Юность», 1990, № 1-5; Аристофаниана с лягушками. Пьеса, Ann Arbor, 1981; Бумажный пейзаж, Ann Arbor, 1983; Право на остров, Ann Arbor, 1983; М.,1992; Скажи изюм, Ann Arbor, 1985; Блюз с рус. акцентом, ж. «Грани», № 139, 1986; В поисках грустного беби, New York, 1987; Интервью, ж. «Юность», 1989, № 4; Право на остров, ««Лит. газ.», 1991, 27. 2. Лит.: Ю. Бондарев, «Лит. газ.» 1961, 29. 7 и 1962, 24. 11; КЧуковск&й, ««Лит. газ.», 1961, 12. 8; A. Борщаговский, ж. ««Знамя», 1966, № 7-9; Ст. Рассадин, ж. «Вопросы лит-ры», 1968, №10; РСПП, т. 7, 1971; P. Meyer. Diss, Princeton Univ., 1971 и ж. «Russian Literature TriquarterCy», №6, 1973 (с подробной библиографией) и в кн.: MERSL, № 1, (1977);Л. Зак, ««Лит. газ.», 1973, 25. 4.; А. Громова, ж. ««Лит. обозрение», 1978, № 7; Л. Аннинский и Е. Евтушенко, ж. ««Лит. обозрение», 1978, № 7; Ю. Жедилягин, ж. «Грани», №>124, 1982; V, Tarsis, ж. ««Zeit6iCd» № 8-9, 1982; А. Гладилин, B. Некрасов, С. Юрьенен, «Новое рус. слово» 1982, 22. 8., P DaCgard, Arkona, 1982; V. TiCipp, ж. «Новый журн.» № 151, 1983; Е. Гессен, ж. ««Грани», № 140, 1986;В. Johnson, сб. ««Scando-SCavica», 33,1987; Сидоров, ж. «Юность», 1989, № 7; В. Малухин, ж. ««Знамя», 1991, № 2, К Kusta- novic, CoCum6us, О., 1992. 129 Таинственная страсть Между тем приближался ключевой момент всей кампании, секретариат Московского отделения, за которым должны последовать административные меры. — Ну и чем все это кончится? — спросил Кукуш. Он шел по аллее и разминал в пальцах свою привычную сигарету «Прима» без фильтра. Советские сигареты приходилось всегда разминать, чтобы через табак проходил дым, или сразу выбрасывать, если табак выпадал. — Боюсь, что плохо кончится, — произнес Роберт. Он шел, слегка пружиня медленный шаг, засунув руки за пояс джинсов; сущий ковбой. — Не исключено, что даже очень плохо, — сказал замминистра Королев. Он смотрел в светлое вечернее небо над Переделкино, в котором уже появлялись светлейшие светляки. Иногда подставлял ладонь под снижающийся крохотный геликоптер. Свет выключался еще до посадки. Трое уже целый час гуляли по отдаленным аллеям писательского поселка и обсуждали «эту историю». Ребята прут напролом, отрицают все компромиссы. Говоря «ребята», кого ты имеешь в виду? Охотникова, Проббера, Режистана, Битофта, ну и конечно Вакса. Это он все затеял, Кукуш? Не думаю. Скорее, это молодые ребята затеяли, а Ваксу выдвинули вперед как слона. А вы не думаете, Роб, Кукуш, что это все задумано, чтобы разбежаться за бугор? Исключено, народ хочет жить в своем языке, в конце концов... Кукуш рассказал об одной любопытной встрече. Едва он кое-как уладил проблемы беспутного Шуры, отослав того к тетке в Ереван, как его пригласили к генсеку Большого Союза Мокею Егоровичу Шаркову. В обширном кабинете, чуть в стороне от генсекского стола, рядом с бюстом Анри Барбюса сидел третий участник беседы, средних лет вельможа в костюме с иголочки и с брильянтами в запонках и галстучной заколке. Кукуш сразу сообразил, откуда прилетела роскошная птица. Речь, разумеется, зашла о «МетрОполе». Третья фигура благосклонно поблагодарила Кукуша за нежелание присоединиться к сомнительной группе. Вы поступили как коммунист. Мокей Егорович сказал, что приближается финал всей этой вздорной кампании. Намечено заседание правления Московского союза. Пятьдесят наших надежных товарищей встретятся с пятью главарями-экстремистами. А ведь они, эти пятеро, считаются вашими друзьями, Кукуш. Хорошо было бы как-то повлиять на эту гоп-компанию. Предостеречь их от резких высказываний. Это дало бы нам возможность свести к минимуму намеченные административные акции. Королев, который во время этого рассказа ограничивался только короткими вопросительными репликами, приостановился и сказал, что не верит в минимальные административные акции. Скорее всего, в высших инстанциях... Он продолжал говорить что- то резкое, не замечая, что его голос заглушается ревом идущего на посадку во Внуково пассажирского лайнера. Когда самолет пролетел, Роберт попросил своего старого друга: — Можешь, старый, повторить про эти акции? Поэт-дипломат безнадежно махнул рукой: — Да что там говорить, в определенных кругах готовится погром неформальной литературы. Произойдут обыски, конфискация книг и аресты, да-да, аресты заводил, отправки в Потьму или на поселение в Сибирь. Кукуш, не верь этому Шаркову, он лицемер. А уж чем наша служба за рубежом будет запудривать новый позор, ума не приложу... Эр положил руки на затылок и в этой его излюбленной позе, свидетельствующей о раздумье, пошел дальше по Серафимовичу в сторону пересечения с Горьким. Он уже улавливал намеки на драконовские меры в том случае, если метрОпольцы не забздят, не покаются, не отдадут альманах в заботливые руки цензуры. Не раз говорил на секретариатах, что мы вступаем в новую эру, что старые методы больше не применимы, что мы развалимся, если вернемся к сталинщине... Однажды Юрченко его спросил: — Вот ты все время говоришь «мы вступаем... мы развалимся, если...», скажи, кого ты имеешь в виду под «мы»? — Под «мы» я имею в виду Советский Союз, — ответил он. Юрченко прицелился своим чекистским прищуром: — Ты, значит, допускаешь, что Советский Союз может развалиться? Роберт отвернулся к окну, чтобы не видеть противной заплывшей морды. Пробормотал: — Все может когда-нибудь развалиться, и Советский Союз не исключение. — Ну, ты даешь! — возмущенно воскликнул оргсекретарь. — Да как ты можешь так... Роберт не дослушал идиотских восклицаний, пошел в другую комнату и там стал стоять с ладонями, сцепленными на затылке. <...> После смерти Юстаса он стал ощущать дефицит дружбы. Приближалось полсотни возраста, и с каждым годом он ощущал, как распадается их молодой союз. Янк все реже появляется для «душеспасительных толковищ», все с большим рвением колесит по всему миру, превращаясь в какого- то конягу утопического социализма. После того как они расплевались с Танькой Фалькон, распались и наши межсемейные узы. А Глад? Наш развеселый Гладиолус? Ну как можно в это поверить — из «Московского комсомольца» перепрыгнуть в парижское бюро Радио Свобода? Вообрази, вот он своим бодрейшим шагом идет к тебе, повторяет свои неизменные хохмочки: «Боба-Роба, пойдем по бабам или в пинг-понг перекинемся?» Невообразимо! Антоша со своей замкнутой кольцеобразной видеомой «Мать-матьмаТь-ма-Тьма...» примкнул к «МетрОполю». Увел орду своих поклонников, отделил их от прежних восторженных лужниковцев, от нас, застрявших в Шестидесятых апофеозах. В другую сторону ушла Нэлка, вернее, ее увел туда Гриша Мессерсмит — на чердаки художников. Вот там, на чердаках, очевидно, и возникла идея «МетрОполя», где же еще... Вот поэтому она и сама присоединилась к бунтарям. 130 А почему же ты не вспоминаешь о себе, полностью Роберт и не совсем Эр? Ведь ты и сам от них ушел, от прежних, признайся, Роб! Ты в партию ушел от них, от беспартийной богемы, от фронды, которую грязной шваброй отхлестал Хрущев. Ты потащился совсем в другую сторону, почти столь же немыслимую для всех, сколь и Радио Свобода. Разве так судьбу берут за лацканы? Неужели ты всерьез хочешь перестроить партию? Она тебе не уступит. У нее могут быть только два статуса: статус убийств и статус лжи. Она исторгнет тебя. Мы не договорили этого до конца, стали отмахиваться. Пропустили тот миг, когда «хорошие парни» стали качаться, когда наша дружба пошла наперекосяк. И это был 1968-й. Коктебель. Что- то было не так. Как Влад орет в своей песне: «Эх, ребята, все не так, все не так, ребята!» Ваксон как-то точнее держался, чем ты. Он орал на каждом углу о партийных преступниках. И так ты стал дрейфовать в сторону от Вакса. Ты не успел опомниться, как оказался полностью в другой компании. Тебя стали раскладывать на ноты. Твой слог оказался нотным — как будто ты всегда, еще с детских времен военно-музыкального училища, держал в голове популярную музыку этого времени. Не надо печалиться, Вся жизнь впереди! Вся жизнь впереди! Надейся и жди! А Ваксон тут же в рассказе об утке прицепил к последней строчке утиный хвост: «Вся жизнь впереди, только хвост позади». Итак, ты среди других, спокойных, материально преуспевающих. У тебя и у самого немало накапливается лишних деньжат. Тебе вообще-то больше нравятся композиторы: уравновешенный народ. Певцы чуть- чуть сдвинуты в сторону, ну, скажем, Ваксона или, скажем, в сторону Барлахского. Конечно, вегетативка и у певцов подчас играет, однако у них все-таки нет противоречий с государством. Вот это тебя и гнетет, Роб. Как можно быть в полном согласии с таким государством? В последнее время он стал записывать в блокноты различные строчки — «на будущее»: ... Сними нагар с души, нагар пустых,обид... ...Дрожал от странного озноба, протестовал... ...Жаль, не хватило малости какой-то, минут каких-то... ...Кто-нибудь другой пускай провоет то, что я не смог... ... Он заканчивается, долгий, совесть продавший век... ...И лежала Сибирь, как вселенская плаха... ...Над Россией сквозь годы-века шли кровавые облака... ...Помогитемне, стихи.. Слышать больно. Думать больно... ...Дым от всего, что когда-то называлось моей судьбой... ...Из того, что довелось мне сделать, может, наберется строчек десять... ... Останьтесь, прошу вас, побудьте еще молодыми... ...Все мы гарнир к,основному блюду, которое жарится где-то там... Кто знает, может быть, из этого блокнота взрастет когда-нибудь новая книга стихов. За это время власть может снова стать каменной, и его поставят к позорному столбу под надписью: «Поэт, предавший свой собственный оптимизм!» Быть может, для того, чтобы не дать им окончательно окаменеть, надо сейчас выйти из партии и вступить в «МетрОполь»? На это у него не хватит сил. Но что еще можно сделать, чтобы уберечь всех этих наших безумцев — Битофта, Режистана, друга Ваксона, девушку нашу Аххо, Чавчавадзе, Листовскую, молодого Охотникова, молодого Проббера, молодого Штурмина, всех остальных? Он не может ничего сделать, только лишь не участвовать в удушении. <...> 1980, июнь. КрАЗ Однажды летней ночью по пустынному Володимирскому тракту спешила на запад ярко- желтая «Лада»... За рулем сидел « непрозрачный» мужик, рядом с ним дремала очаровательная бабенция. Они возвращались из городища Булгары, где посещали Савелия Терентьевича Ваксонова, ветерана ГУЛАГа и орденоносца имени Ленина. Так получилось, что эта давно запланированная поездка через гущу почти непроходимой Руси (отсутствие бензина и почти полное отсутствие дорог) совпала с некоторыми событиями международного масштаба. Однажды на дачу в Красной Вохре приехал итальянец Джанни Кальдофони, большой жуир и гурман, в общем, эпикуреец. Кроме этих черт характера, у него была и другая характеристика — профессор русской литературы. Когда-то он принимал Ваксика и Ралика в своем доме в Милане, а теперь и сам пожаловал. Бьенвеню, или как ее там — бьенвентуда? Черт тебя принес, Джанни, сердилась Ралисса. Теперь мне целую неделю от плиты не отойти. Сама тем временем готовила свое коронное блюдо — маслята с грудинкой и с припущенными овощами. Вакс и Джанни тем временем за кухонным столом распивали бутылку тосканского вина и говорили о русских книгах в Италии. «Книга твоей покойной мамочки, нашей дорогой Евгении, идет нарасхват», — сказал итальянец. И обвел указательным пальцем кухонный потолок. Потом вынул из кармана пиджака маленькую табличку и написал на ней лиловатым мелком: «Мондадори» готовит «Вкус огня». И тут же салфеточкой стер написанное. Потом стали болтать, перепрыгивая с темы на тему: ливанская война, европейский футбол, новый фильм Феллини, очередная премия Процкого, папаша Ваксона Савелий Терентьевич... и вот на нем немного задержались. Мне нравится твой Савелли, сказал Джанни, с ним очень здорово говорить о Бухарине. Подумать только, он лично знал Николая! Вакс улыбнулся. Воображаешь, теперь уже и он стал что-то записывать из своего прошлого. Как интересно! — вскричал Джанни. Опомнившись, тут же очертил пальцем кухонный потолок. Да пошли бы они все в жопу, так откликнулся Вакс на этот сигнал предосторожности. <...> По прошествии трех дней из Булгар позвонила племянница. Она сказала, что Дед Савелий впал в меланхолию. Очень хочет тебя видеть. Сможешь приехать? Они плюхнулись в «Ладу» и за ночь, меняя друг друга за рулем, одолели семисоткилометровое расстояние. Увидев их в Булгарах, Савелий просиял. Казалось, что черная меланхолия быстрыми спиральками улетучивается из его ноздрей и ушных раковин. Взяли удочки и пошли на берег Волги. Там бывший боевик эсеровского отряда, а затем красноармеец коммунистического батальона, а потом строитель социализма, выдвинутый в правящую номенклатуру, а потом осужденный на 131 смерть шпион и вредитель, а потом помилованный, но осужденный на пятнадцать лет лагерей и три года ссылки, а потом, по прошествии этих годков, реабилитированный ветеран партии и кавалер ордена Ленина, там он рассказал, что с ним произошло за последние дни. Через день после встречи Вакса и Джанни, о которой он ничего не знал, ему позвонил первый секретарь Булгарского обкома и попросил срочно приехать; машина послана. У персека ждал его прибытия еще один немаловажный человек, глава республиканского КГБ генерал Шуралиев. — Савелий Терентьевич, за вашими мемуарами охотится империалистическая печать, — печально указал генерал. Персек покивал своей густокурчавой головой. — Принеси-ка ты, Савелий Терентьевич, свое произведение к нам и передай это мне прямо в руки, которые, обещаю, тебя не подведут. Они, руки мои, руки бойца и нефтяника, баяниста и садовода, а главное, руки коммуниста и депутата Верховного Совета СССР, положат твой опус вот в этот сейф, в который ни один агент империализма не сумеет пробраться; что скажешь? Савелий некоторое время сидел молча и без движения; так он когда-то сидел в НКВД перед началом избиений. Потом поднял голову и ошарашил двух булгарских шишек упорной голубизной своих глаз; кивнул. Шишки вздохнули, явно не без облегчения. — А сколько экземпляров вы произвели? — спросил Шуралиев. — Один, — твердо сказал Савелий. — Пишу от руки, без копирки. — Ну вот и тащи его сюда, — сказал персек. — Мы тебе верим. Ведь ты наша гордость, Савелий Терентьевич. Ты Перекоп штурмовал, лично встречался с великим Лениным и с... ммм... с другими вождями нашей партии. Савелий встал. Шишкам показалось, что старик жаждет поскорее завершить это презренное интервью, что его слегка мутит от презрения к ним. И есть за что, подумали оба, но не поделились своими мыслями. Старик тоже старался не разглагольствовать. Он спешил домой, чтобы перепрятать второй экземпляр. На прощание Шуралиев все-таки постарался завершить этот разговор на более выигрышной для себя и для своей организации ноте. — Как же так получилось, Савелий Терентьевич, что вы такой преданный ленинец, а воспитали такого антисоветского сына? Савелий не удостоил его и взглядом, а только лишь проговорил: — Я своего сына не воспитывал, поскольку в лагерях сидел. Это вы его воспитывали, гражданин начальник. Едва он завершил свой рассказ, как поплавок задергался. Похоже было, что попалась щука. Он вскочил и, шлепая босыми ногами, повел ее по отмели, аккуратно подкручивая катушку спиннинга. «Ну, все, — сказала Ралисса. — Этот акт завершен. Нужно сматывать удочки». Через три дня печеную щуку добрали за завтраком. К концу завтрака подоспели родственники с пирогами и старые друзья с коньяками. Завтрак плавно перешел в обед. Только после этого Ваксик и Ралик отправились восвояси, в «Столицу Счастья». Ночью проезжали через Владимирскую область. Ралисса часто меняла кассеты, чтобы водитель не задремал. В тот ключевой момент Луи Армстронг как раз пел «Dream, A Little Dream Of Me». Впереди на пустынном шоссе появилась огромная темная глыба. Она приближалась. <...> *** С каждой минутой в сумерках летней ночи на Владимирском шоссе приближающаяся темная глыба приобретала конкретные черты: грузовик- тягач КрАЗ; громада с еле заметными подфарниками. Он ехал медленно, а за ним на той же низкой скорости следовали три мотоциклиста. — Что за странная процессия, — успел произнести Ваксон. Когда их разделяло не более чем метров сто, КрАЗ пересек осевую, скатился на полосу встречного движения и включил колоссальный свет. В тот же момент оставшиеся на своей полосе мотоциклы включили свой колоссальный свет, и таким образом водитель ярко-желтой «Лады» был полностью ослеплен. — Это конец! — успела воскликнуть Ралисса. Описывая мгновенные, пролетающие клик-клик события, писатель, как нам кажется, не должен торопиться. Наоборот, он должен полностью использовать ОПОЯЗовский, а точнее, изобретенный В.Б. Шкловским «метод замедления». Так и сейчас, за долю мгновения от гибели, мы попытаемся рассказать, как это все развивалось. Ваксон, полное имя Аксён Савельевич Ваксонов, полурусский, полуеврей, человек с небольшими советскими данными, не обладал также и какими- нибудь исключительными автомобильными качествами. Он не знал, что в таких предгибельных случаях делать. Столкновение с тяжелым советским металлом было неизбежно, а при попытке отвернуть его ждал глубокий кювет и серия беспомощных кульбитов с ударом о сосны и взрывом бака. И вдруг словно кто-то другой взял его руль. Он мощно выкрутил до отказа направо. Вслед за этим мгновенно выкрутил руль налево и до конца утопил педаль газа. С неистовым ревом по самой кромке кювета «Лада» проскочила мимо КрАЗа. Не менее километра его машина неслась на своей максимальной, если не сверхмаксимальной, скорости. Потом он стал тормозить, выехал на асфальт и остановился. Ралисса, почти без сознания, висела на его плече. Они обернулись. То ли сумрак успел за эти секунды основательно рассеяться, то ли зрение их обострилось, но они отчетливо увидели далеко позади, как КрАЗ с его эскортом без всяких огней уходят за поворот. После этого обоих стала трясти адреналиновая буря. Вот тут их можно было бы кончить без всякого сопротивления, однако никто из убийц не появился. Быть может, буря захватила и эту сволочь. Прошло еще 132 несколько минут. Трясущимися руками Ралисса вытащила из сумочки упаковку седуксена. Они проглотили по две таблетки. Буря затихала. «Съезжай с шоссе при первой возможности», — прошептала она. И вытащила из сумочки еще кое- что успокаивающее, а именно револьвер «Глок», который ей удалось в свое время вывезти из Лондона. Он двинулся. Она, не выпуская револьвера, все время смотрела назад. Вскоре они свернули на мягкую от пыли проселочную дорогу. Через час въехали на территорию большого колхоза. Занималась заря. Молча летела над окрестными поймами стая египетских гусей. Ваксон остановился на задах колхозного клуба, где, казалось, незадолго прошел Мамай. Все было беспредельно засрано скотом и людьми. Они задернули шторки и разложили сиденья. Тесно прижавшись, заняли горизонтальную позицию. Стали целоваться; никогда так сладко не целовались, а ведь целовались немало! Весь адреналин переместился теперь в их нижние этажи. Действие адреналина совместно с седуксеном на фоне колоссальной любви вдруг вознесло их на небеса, где какой- то знакомый голос с тихой печалью произнес: «Берегите ваши лица, Собирайтесь за границу! Be careful, pleaSe, Я защитник Ралисс» 1994 год. Финал Роберт сидел в старом плетеном кресле в густой тени своего самого старого дуба. Сидел, положив ногу на ногу, держа в одной руке сигарету, в другой зажигалку. Иногда он забывал про сигарету, и она оставалась нетронутой между пальцами правой руки. Хватившись, он чиркал зажигалкой и некоторое время держал ее перед собой: ему нравился щедрый язык огня, трепещущий над его левым кулаком. Наконец прикуривал; дым «Голуаза» наполнял его гортань и бронхи, напоминая о прошлом. <... > В последние месяцы болезни Роб сильно исхудал и издалека в тени старого дуба мог показаться молодым человеком. Волосы до сих пор не поседели, двумя черными крылышками они свешивались по обе стороны пробора. Никаких намеков на плешь не наблюдалось. Губы как были сочными африканскими пришлепками, так и остались. <...> — Ну вот видишь, вот так он и сидит здесь день- деньской. Сидит, молчит. Временами кажется, что спит с открытыми глазами. — Анка шла от калитки к дому с неожиданным гостем, Яном Тушинским, только что прилетевшим из Оклахомы, где вдруг из громо-вержца «мира во всем мире» заделался скромным учителем квакерского колледжа. — Он меня-то помнит? — спросил Ян с некоторым излишком трагизма в голосе. Впрочем, что может быть трагичнее, чем забвенье Яна? — Он всех помнит, — сказала Анка и, помолчав, добавила: — Но не всегда. Подхватив по дороге с газона два «режиссерских» стула, они приблизились к спящему и уселись напротив. <...> Он открыл глаза и увидел Яна, курящего «Риттенмайстер. — Пойдемте в дом, мальчики, — предложила Анка. - Роба, давай я тебе помогу. — Не надо, Анка. Я сам. Янк, пошли засадим шампанского! Пошарил рукой у ствола, нащупал свое оружие, тяжелую трость, которую мог иногда заводить за голову и напрягать, как копье. Приподнялся. Не смог. Еще раз приподнялся. Наполовину смог. Встал с третьей попытки. Опираясь на трость, двинулся к дому. Временами подгибалась правая нога. Анка шла чуть сзади, готовая во всякую минуту его подхватить. Тушинский встал, но некоторое время не двигался, глядя им вслед. Когда Роберт вскарабкался по крыльцу, он быстро подошел и по привычке прыгнул через четыре ступени. Роберт юмористически хмыкнул: дескать, когда-то и я так мог. Тушинский слегка устыдился и чуть- чуть подсел. Подставил Робу свое левое плечо. — Ты отлично топаешь, дружище; лучше, чем я думал. Опять бестактность. Роберт шагнул было через порог, но тут какая-то неведомая сила <...> швырнула его вниз, затылком в сад, вернее, в черную дыру Апокалипсиса... Его уложили на первом этаже, в гостиной, на твердой скамье. Вся вновь потрясенная семья двигалась вокруг, то ровно, то стаккато — Анка, старческая Ритка, младшая двадцатидвухлетняя дочка Марина-Былина и старшая красавица Полина, и примчавшийся из города Тимофей, а вместе с отцом три внука Роберта: Гор, Афоня и Емельян. Телефон на длиннющем проводе был вынесен на крыльцо. Он беспрерывно звонил: переполошились друзья. Ян, сидящий на крыльце, прерывал звонки и накручивал медицинские номера в Москве, особенно часто в Склиф. Он кричал: «С вами говорит поэт Ян Тушинский! Мой друг поэт Роберт Эр — без сознания! Высылайте «скорую»! В Переделкино — срочно!» Узнав про Переделкино, московские телефоны отсылали его в Одинцово, а там телефоны «скорой» категорически не отвечали. Полина взяла у него аппарат и отошла с ним к дубу, под которым еще недавно сидел Роберт. У нее были какие-то особые номера, по которым надо звонить, когда ваш отец теряет сознание. Увы, и по этим телефонам трудно было чего-то добиться: шел уже третий час, а «скорая » не появлялась. Калитку дачного участка, равно как и ворота, держали настежь. То и дело появлялись люди, пытающиеся помочь. Среди них случались и врачи, но что они могли поделать без капельницы и респиратора? Вообще, что можно было сделать с этой полуразвалившейся советской медициной? Все, однако, надеялись, что в конце концов что-нибудь получится. Роберт далеко не первый раз собирался отдавать концы, но всякий раз его как-то вытаскивали. Первые признаки болезни у него появились пять лет назад. Вернее будет сказать, что пять лет назад он впервые пожаловался на тошноту, головные боли и кратковременные затемнения сознания. В поликлинике Литфонда ему тут же записали в карточке классический писательский диагноз: «игра сосудов». Роберт все чаще падал в обмороки то на заседании, то в ресторане, на улице, в такси, в самых неожиданных местах. 133 Невропатологи говорили, что нужна томография, но надежного аппарата тогда в России было. Различные другие исследования давали врачам возможность предположить, что в лобной части головы нарастает доброкачественная опухоль; в настоящий момент она достигает размеров куриного яйца. Именно она давит ему на мозг и пережимает сосуды. В один из светлых периодов он написал о ней стихи «Неотправленное письмо хирургу». .. Однако не слишком печальтесь, доктор. Не надо. Вы ведь не виноваты. Давайте вместе с вами считать, Что во всем виновата странная курица, Которую кто-то когда-то вывел Лишь для того, чтоб она в человечий мозг Несла эти яйца-опухоли... Полина, а за ней и все домашние заметили, что у отца изменился взгляд. Он стал вопросительным; постоянный вопросительный ужас. В это время в городе появился их старый друг-француз, Алан Московит. Он сказал, что обеспечит и оплатит пребывание и операцию Роберта в самой лучшей парижской клинике. Семья приободрилась: начали собирать документы и покупать валюту. Пока что отца положили в лучшую московскую клинику, в реанимационную палату. Он лежал среди умирающих. Не мог есть. Полинка от него не отходила. Позднее она вспоминала: «...Он лежал высохший и беспомощный... Эта реанимационная палата была прямым путем на кладбище... Тяжелые диагнозы, тяжелый запах... » Наконец все было готово: документы, визы и билеты. Роберта одели в пальто и вязаную кепку. В короткие моменты погрузок и переносок он дышал воздухом Москвы, и всем было понятно, что он прощается навсегда. Однако произошло не совсем так. В парижском госпитале в первый же день он прошел обследование на всех имеющихся тогда в мире аппаратах. Перед операцией его посадили на укрепляющие средства и специальную диету. Он окреп так быстро, как будто его организм жаждал окрепнуть. Операция, как сейчас говорят, «прошла в штатном режиме». Анка и Полинка сидели сбоку от кровати в его боксе. «Откуда такая качка? Меня так качает», — говорил он обычным шепотом. Через несколько месяцев они вернулись в Москву, увы, чтобы через несколько недель вернуться в Париж. Нужно устранить осложнения, в частности поставить дренаж, чтобы предотвратить повышение внутричерепного давления. На этот раз, опять же стараниями месье Московита, его устроили в один из лучших военных госпиталей; решающим другом тут уже оказался министр иностранных дел. И вдруг в один из счастливейших дней в ее жизни Полинка увидела, как по коридору госпиталя ковыляет на костылях, но в полный рост ее худющий, бритый наголо, со шрамом поперек этого бритого пространства папочка, и никакого Алена Делона нельзя было поставить с ним рядом! Господи, как я была счастлива, вспоминает она. С каждым днем шаг его становился тверже, он стал выходить на улицу и бродить по маленьким базарчикам. Все понимал и отвечал на вопросы. Снова вернулись в Москву, на этот раз навсегда. Женщинам казалось, что они победили смерть. Ему так не казалось. Он начал снова писать стихи, но в каждом стихотворении прощался с видимой жизнью. Эти его стихи считались лучшими, потому что они были лишены его прежней счастливой патетики, но исполнены трагизма. Какжиивешь ты, великая Родина Страха? Сколько раз ты на страхе возрождалась из праха! Мы учились бояться еще до рожденья. Страх державный выращивался, как растенье. <....> Мы о нем даже в собственных мыслях молчали И таскали его, будто горб, за плечами. Был он в наших мечтах и надеждахдалеких. В доме вместо тепла. Вместо воздуха — в легких! Он хозяином был, он жирел, сатанея... Страшно то, что без страха мне гораздо страшнее. Иные читатели, увидев в суматошных газетах начала девяностых новые стихи Роберта, хмыкали: вот как перестроился товарищ Эр, больше уж радужных лучей не видит, больше на чернуху тянет, клеймит прошлое. Они не знали, что о конъюнктуре тут стыдно говорить, что развал Совдепа просто совпал с трагическим концом поэта, что поэт прозрел посреди собственных затмений, он понял, что если «человек рожден для счастья, как птица для полета», то только уж не в пределах земного чириканья. Образы ада шли за ним по пятам, и не было Вергилия, чтобы дать руку. <... > Когда в крематории мое мертвое тело начнет гореть, Вздрогну я напоследок в гробу нелюдимом. А потом успокоюсь и молча буду смотреть, Как моя неуверенность становится уверенным дымом. Дым над трубой крематория, дым над трубой. Дым от сгоревшей памяти, от сгоревшей лени. Дым от всего, что когда-то называлось моей судьбой и выражалось буковками лирических отступлений... Усталые кости мои, треща, превратятся в прах. И нервы, напрягшись, лопнут. И кровь испарится. Сгорят мои прежние страхи и нынешний 134 страшный страх. И стихи, которые снились и перестали сниться. Дым из высокой трубы будет плыть и плыть. Вроде бы мой, а по сути вовсе ничей... Считайте, что я так и не бросил курить, Вопреки запретам жены и советам врачей. Сгорит потаенная радость. Уйдет ежедневная боль. Останутся те, кто заплакал, те, кто останутся рядом... Дым над трубой крематория, дым над трубой... Представляю, какая труба над адом! Больничные образы юдоли людской соединялись в его воображении с образами разваливающегося СССР. Колыхался меж дверей Страх от крика воющего: «Няня! Нянечка, скорей! Дайте обезболивающего!» <....> Делают ученый вид Депутаты спорящие... А вокруг страна вопит: «Дайте обезболивающего!» В литературных журналах стали иногда появляться статьи о «новом периоде» Роберта Эра. О периоде раскаяния и мудрости. Старая интеллигенция обсуждала этот феномен. Постмодернисты-чернушники только хмыкали и отмахивались. «Новым русским» до всех этих дел вообще не было никакого дела. А он все писал свои прощальные стихи и читал их по вечерам родным и близким. Тихо летят паутинные нити. Солнце горит на оконном стекле... Что-то я делал не так? Извините: Жил я впервые на этой Земле. Я ее только теперь ощущаю. К ней припадаю и ею клянусь. И по-другому прожить обещаю, Если вернусь... Но ведь я не вернусь. — Перестань, Робка, ну перестань себя до срока отпевать! — покрикивала на него Анка. — Ты посмотри, какой ты снова стал красивый, прямо как киногерой! Я в тебя снова влюблена! Полинка сидела потупив глаза и прикусив губу. Она ненавидела «новые стихи»: видно было, что Роберт не поверил в свое выздоровление — в каждом стихе он прощался с живыми. — Это вовсе не заупокойная, — возражала умная Марина-Былина. — Это просто новая фаза трагической поэзии. У всех поэтов бывали такие периоды и длились годами. Полинка молчала. Она ненавидела «новую фазу». Когда отец окончательно грянул в обморок, младшая прибежала к старшей: «Пойдем, Робе плохо!» Они сидели вокруг него, держали пульс, умоляли глотать какие-то таблетки, но он явно уходил все дальше от них и только иногда вздрагивал, произнося: «А?.. А?..» Лишь одна отчетливая фраза слетела с его уст в эти часы ожидания «скорой»: «Девочки, я вас люблю...» «Скорая» наконец приехала. Врачом на ней оказалась внучка Брежнева. Несмотря на такое родство, она оказалась настоящим профессионалом: выгнала всех из гостиной, поставила Роберту «подключичный катетер», полчаса применяла всякие реанимационные меры, и только после этого покатили в Склиф. И вся семья помчалась следом, одержимая только одной страстной идеей: «лишь бы довезли!» Казалось, что если вовремя довезут, он снова уйдет от смерти. Этого не случилось. Семь раз склифовские врачи «заводили» останавливающееся сердце, но на восьмой не смогли: Роберт Эр отчалил. Через восемнадцать лет после Юстаса Юстинаускаса. Через четырнадцать лет после Влада Вертикалова. Поэзия притихла. За день до этого грустного дня в Москву из Калифорнии прилетели Ваксоны. После развала «великого-могучего» они стали здесь бывать ежегодно, а то и чаще. Исторические треволнения, похоже, предлагали им какой-то новый поворот, не менее крутой, чем эмиграция 1980 года в Америку. Все книгиАксёна Ваксонова стали теперь издаваться в Российской Федерации; пусть на паршивой бумаге, с аляповатыми обложками, но все- таки именно С теми текстами, из-за которых у него были недора-зумения с государственной безопасностью СССР. Супруга его, неувядающая Ралисса, произвела еще большую сенсацию на родине, чем ваксоновские прежде запретные публикации. В первоклассном переводе с английского стали один за другим выходить сборники рассказов некого Джона Аксельбанта. Всех поражало удивительное знание советского быта и психологии совка. Псевдоним был вскоре раскрыт на программе «Взгляд». Джон оказался хорошо известной в Москве красавицей Ралиссой. С тех пор она стала печататься на родине под именем Ралисса (Джон) Аксельбант. В Шереметьево она по обыкновению набрала кипу московских газет. Дома за ужином, устроенным Вероникой, она вытащила из кипы «Коммерсантъ» и сразу наткнулась на ужасную новость: «После продолжительной тяжелой болезни скончался знаменитый советский поэт Роберт Эр. На протяжении нескольких десятилетий он считался одним из лидеров поэтического поколения шестидесятников... Гражданская панихида состоится завтра в Доме радио на Малой Никитской...» Охнув, она закрыла лицо руками. «Что с тобой?» — вскричал Ваксон. Она перебросила ему газету. «Боже мой», — прошептал он, глядя на маленький портрет старого друга с незнакомым удивленным взглядом. В тяжеловесном сером доме сталинского стиля был великолепный обширный холл, стены которого до потолка были покрыты панелями красного дерена; студия звукозаписи. В центре его возвышался гроб, покрытый горой цветов. Толпа скорбящих стояла в молчании. Звучала траурная музыка. Ваксон и Ралисса вошли в зал и сразу стали частицами толпы. Несколько минут стояли у стены, пока не увидели поблизости от возвышения группу стульев, на которых сидели с измученными лицами женщины эровской семьи — Анка, старуха Ритка, Полинка, Маринка и вместе с ними ближайшие подруги наших дней — 135 Любка Октава, Фоска Теофилова, Танька Фалькон- Тушинская, Нэлка Аххо, Юнга Гориц, новая жена Тушинского юная Даша и прилетевшие на прощальную церемонию Милка Колокольцева из Женевы и Катька Человекова из Нью-Йорка. Ралисса, быстро лавируя в толпе, приблизилась к ним и поцеловала Анку. Кто-то из женщин подвинулся и уступил ей полстула, где она и притулилась. Ваксон начал медленно дрейфовать по направлению к замеченным в толпе Кукушу и Барлахскому. Издалека ему кивал Антоша Андреотис. Вспомнилась обложка «Огонька» трехгодичной давности. На ней среди белоснежных сугробов стояли четыре лидера поэзии: Ян, Антон, Кукуш и Роберт. Мороз явно зашкаливал за тридцать, и все четверо были в огромных меховых шапках и туго закрученных ярких шарфах. Внутри журнала была напечатана направляющая пылкая статья Тушинского. Ваксон прочел ее в университетской столовой, и его малость затошнило. Со своей фирменной велеречивостью автор гвоздил тех писателей и художников, кто бросил родину, кто прельщен был «джинсами и долларами». Они выбрали Радио Свобода в то время, когда мы дрались на баррикадах за настоящую свободу для нашей родины. Каждый из нас сражался до конца, потому что слышал, как рядом стучит поэтический автомат его товарища. И мы одерживали победы. Одну за другой. Это верно, подумал тогда Ваксон, одну за другой: то государственную премию, то орден к советскому празднику. Ладно, сейчас об этом надо забыть, вымести все слежавшееся в закоулках прошедшего. Окна открыть и сильным движением все вымести вон. Ради Робы, ради его светлой памяти. Он жил в окружении всяких, но сам был всегда чист. <...> Пять лет назад, в конце 1989-го, Ваксон и Ралисса впервые после изгнания приехали в Москву. Никто их тогда сюда не звал, они оставались персонами нон грата, лишенными советского гражданства, предателями, укрывшимися на замаскированных под университетские кампусы базах ЦРУ. Только один человек дерзнул — посол США Джек Матлок, проживающий с женой Ребеккой в великолепном особняке Спасо-хаус Арбатском околотке, возле Собачьей площадки. Там и поселили его личных гостей, в комнатах наверху, где ванные были в полтора раза больше спальни. Там они и прожили десять дней под двойной охраной — спецслужбистов СССР и морпехов США. Старый друг драматург Юлиан Греку устроил вечеринку в честь подозрительной четы. Позвонил Роберту, который в то время занимал следующие посты: Секретарь Союза писателей СССР, Председатель иностранной комиссии Союза писателей СССР, Председатель правления Центрального дома литераторов, депутат Моссовета, член Бюро МГК КПСС, ну и так далее. — Послушай, старый, — сказал ему Юлиан, — у меня будут гости, Ваксон с Ралиссой. Если придешь, будем рады. Ну, а если не сможешь, все пойму. — Да ты что, ЮЛ? — возмутился Эр. — Чтобы я не пришел повидать Ваксу? Гори все огнем, обязательно придем вместе с Анкой! Всю шумную вечеринку Ваксоны просидели рядом с Эрами на продавленных греческих диванах. Роберт, как всегда, много курил. Политические хохмы не подхватывал, но смеялся вместе со всеми. Фотографировались с Ваксой, обняв друг друга за плечи. <...> В целом, Роберт выглядел очень грустным; задним числом можно подумать, что он уже тогда чувствовал приближающуюся грозу. Вел панихиду Ян Тушинский, и делал он это с безупречным тактом и с подлинной глубочайшей грустью. Он приглашал людей сказать слова прощания, а в промежутках читал стихи Роберта. <...> Играл рояль. На возвышение поднимались друзья Роберта композиторы-песенники. К микрофону один за другим подходили певцы: Бокзон, Эль-Муслим, Балуев, Эдита, Валентина... Звучало то, что можно было бы назвать «массовой лирикой» умирающего Советского Союза, то, что сделало Роберта Эра народным поэтом. «Луна над городом взошла опять... » «А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала... » «Сладка ягода в лес поманит...» «Покроется небо пылинками звезд, И выгнутся ветки упруго. Тебя я увижу за тысячи верст. Мы — эхо, Мы — эхо. Мы долгое эхо друг друга...» «Не думай о секундах свысока... » «Я прошу, хоть ненадолго, Грусть моя, ты покинь меня!» «Такие старые слова, а каккружится голова...» ««Светло и торжественно смотрит на нихогромное небо, одно на двою,..» «Не только груз мои года, мои года — мое богатство...» «Дайте до детства плацкартный билет... » Ваксон медленно передвигался в толпе, чтобы увидеть профиль Роба. Он ловил на себе странные взгляды. Многие при виде него обменивались шепотками; что-нибудь, по всей вероятности, вроде: «Смотрите, Ваксон пришел. Ну и ну, вот это да». Здесь было много «гвардейцев» развалившейся Империи: космонавты, например, творцы различных секретных «изделий», бонзы агитпропа и дезинформации, лауреаты Сталинских и Ленинских премий, солисты Большого балета и чародеи фигурного катания... ну, в общем, читатель, припомни сам, на ком держался в пучинах времени коммунистический кашалот. Все они привыкли считать Роберта Эра одним из основных «преторианцев», и увидеть среди скорбящих «антисоветчика» Ваксона было для них курьезом. Некоторые протягивали ему руку — например летчик-испыгатель, дважды Герой СовСоюза Захар Гуллай — и он ее пожимал. Иных он не узнавал, но все-таки пожимал руки, хотя прекрасно отдавал себе отчет в том, что персона может оказаться «нерукопожатнои». Так, не узнав, он пожал руку журналисту-международнику Эдуарду Микелия и только потом вспомнил некоторые эпизоды, связанные с временами «холодной войны ». Однажды, в период наведения телемостов, он увидел Микелия на talk-show Тэда Копола. Шел разговор о свободе слова и распространения печати. Кто-то спросил Микелия, продаются ли в Москве основные органы западной печати. Тот, ничтоже сумняшеся, ответствовал, что на каждом углу. К сожалению, они успехом не пользуются среди населения. Он как-то упустил из виду, что среди диспутантов находится многолетний 136 московский корреспондент «Вашингтон Пост» Боб Хайзер. Глядя ему прямо в глаза, Боб сказал: «Shame on you, Edward». И вдруг — о чудо из чудес! — лицо профессионального брехуна стало заливаться краской стыда. Итак, пожимаем лапу профессионального брехуна. Они, кажется, дружили. Во всяком случае, дружили детьми. Помнится, он говорил про этого: «Эдька, конечно, работает на государство, но все-таки он хороший парень». А самое главное состоит в том, что он все-таки покраснел, когда его пристыдили на TV. Ради Роба отпустим ему грехи. Здравствуй, старик. Хуже обстоит дело с другой персоной, которая издалека то и дело бросает на Ваксона эдакие свойские взгляды. Одутловатый толстяк, жидкие волосы зачесаны плотно назад, подстриженные усики и баки — полностью неузнаваем! Единственная что-то напоминающая деталь его обличья — это светло-серый костюм. На лацкане какая-то золоченая медалька. Из нагрудного кармана поглядывают очочки на цепочке; чтобы не потерялись. <...> Тот начал медленно дрейфовать к Ваксону. По дороге останавливался переброситься репликами с кем-нибудь, улыбался, иногда вроде даже похохатывал; вообще вел себя скорее как на коктейле, чем на панихиде поэта. Наконец сблизились. — Приветствую вас, — сказал незнакомец, и гут Ваксон узнал его по голосу: да ведь это же не кто иной, как Юрий Юрченко, многолетний оргсекретарь Союза писателей СССР! Чем сейчас занимается этот человек, некогда клеймивший его за диссидентские взгляды? Уже и союзов этих не существует, ни социалистического, ни писательского; из мощной организации, руководимой верным сыном партии Юрием Онуфриевичем Юрченко, произросло несколько хилых союзиков, склочничающих друг с другом из-за предметов офисной мебели. <...> — Вы надолго к нам? — спросил он Ваксона. В это время выступал Олжас Сулейменов. В микрофоны шла его речь: «Роберт как никто другой из своего поколения был поэтом Великого Государства. Поэтому, наверное, и не перенес его гибели». — Вы к нам надолго? — повторил вопрос Юрченко. — Надолго, — ответил Ваксон. — Вот это хорошо, — Юрченко одобрительно притронулся к его локтю. — Вы знаете, Аксён Савельевич, мы тут устраиваем широкомасштабное мероприятие, Сахаровские чтения. Не хотели бы принять участие? Раньше на этом круглом лике при помощи прищура глаз и брюзгливо откляченной губы всегда торжествовала маска еще не до конца высказанной мощи, в том смысле, что все еще впереди и мало вам не покажется. Теперь обалдевший Ваксон в новой юрченковской мимике улавливал подобострастие. В течение нескольких минут молчания звучал Шопен. — Так что скажете, Аксён Савельевич? — напомнил ему свой вопрос Юрченко. Ничего, — только и ответил он и стал отдаляться в сторону тех стульев, где сидели их женщины, чтобы поцеловать Анку, Ритку, дочерей и взять за руку Ралиссу: приближался час окончательного прощания. Тушинский стоял над гробом, закрыв лицо своими длинными ладонями. Потом опустил ладони и стал читать стихи Роберта из «трагического цикла»: Ах, как мы привыкли шагать от несчастья к несчастью... Мои дорогие, мои бесконечно родные, прощайте! Родные мои, дорогие мои, золотые, останьтесь, Прошу вас, побудьте опять молодыми! Не каньте беззвучно в бездонной российской общаге. Живите. Прощайте... Тот край, где я нехотя скроюсь, отсюда не виден. Простите меня, если я хоть кого-то обидел. Целую глаза ваши. Тихо молю о пощаде. Мои дорогие. Мои золотые. Прощайте! Постичь я пытался безумныхсобытий причинность. В душе угадал... Да не все на бумаге случилось. Волга-река. И совсем по-домашнему: Истра-река.. Только что было поле с ромашками... Быстро-то как!.. Радуют не журавли в небесах, а синицы в руках... Быстро-то как!.. Да за что жэто, Господи?! Быстро-то как... Только что, вроде, с судьбой расплатился, — Снова в долгах! Вечер в озябшую ночь превратился. Быстро-то как... Я озираюсь. Кого-то упрашиваю, как на торгах... Молча подходит Это. Нестрашное... Быстро-то как.. Может быть, что-то успел я в самыхпоследних, строках?! Быстро-то как! Быстро-то как... Быстро... Люди поднимались к возвышению, медленно обходили гроб, целовали покойника — мужчины в скрещенные на груди руки, женщины в лоб. Ваксоны все еще двигались в низинах, приближались: Ваксон впереди, Ралисса за ним. И вдруг он почувствовал Присутствие Роберта. Оно, Присутствие, раскрывалось навстречу ему с удивительным дружеским чувством, словно объятие. Как будто бы оно, обнаружив его в этой толпе, открылось 137 навстречу ему с радостным удивлением и любовью. Оно, Присутствие, при всей его невидимости, почти физически соприкос-нулось с ним, словно говорило: старик, оставь хоть на миг эту внешнюю физику, просто почувствуй, как радостно видеть тебя в этой толпе прощания и прощения, хоть все это может и испариться в следующий миг, старик. На выходе из Дома радио, на ступенях, он привлек к себе Ралиссу: — Скажи, ты почувствовала его Присутствие? — Да, — еле слышно прошептала она и уткнулась ему в плечо. Москва, 2007 Эрнст Неизвестный О друзьях - товарищах Размышления после прочтения книги Василия Аксенова «Таинственная страсть» — В веселых игрищах и поэтических посиделках в Коктебеле вы участвовали? — Нет. Я туда, конечно, ездил, но, как одинокий волк, старался держаться от гоп-компании подальше. — Чем же вы занимались? — Камни срисовывал. Многие мои скульптуры родились гам. Жил абсолютно отдельно. У меня никогда не было денег, чтобы что-то приличное снять. — И где вы жили? — На даче у «сталинского сокола» — Сан Саныча Микулина. Грандиозный человек! Академик, конструктор авиационных двигателей, Герой Соцтруда, генерал, любимец Сталина, ненавистник Хрущева. Изумительно талантливейший человек. У него был передничек, как у домохозяйки, на котором было ну такое количество орденов — даже у Буденного меньше. Дом его стоял на Карадаге. Он его называл «Ебаторий» (смеется). — Почему? — Этот, под восемьдесят лет, крепкий старец утверждал, что он невероятный еб...рь. На моих глазах никого домой не водил, но когда знакомился с женщинами, требовал, чтобы его называли Сашей. Здоровый был как черт. Заземлялся, какая-то своя диета... Когда кто-то из его врагов умирал, он его вычеркивал из списка и танцевал индейский танец. Евтушенко он вызывал на соревнование по бегу. Ну, конечно, молодой длинноногий Женя его перегонял, но Сан Саныч очень недалеко отставал и не задыхался. Он меня любил, потому что я с огромным интересом выслушивал его всем надоевшие хохмы и рассказы. — Ну а Высоцкого, Окуджаву в общ^их^комп^ан^ияхслуш^а^и^? — Конечно... Это все было и в моей мастерской в Москве. — Замечу, что Аксенов описывает не вашу мастерскую, а мастерскую художников Силиса и Лемпорта. Вы наверняка их знали. — Это были мои друзья. Меня иногда немножко беспокоило, что они у меня прямо заимствовали. Шустрые были ребята, увидят что- нибудь у тебя, и завтра целая бригада вылепит нечто подобное. С другой стороны, оно, конечно, лестно. Они очень хотели успеха. Я тоже хотел, не буду кокетничать, но не с такой силой. Ну и пил я, кроме того, смертельно. Они же были острокарьерные, интеллектуальные конструкторы, светские ребята. Они всех принимали. С Шукшиным я познакомился у них в мастерской. — Вам понравилось, как Аксенов описывает Коктебель, крымские красоты, радость общения единомышленников, веселую суету вечеринок? — Я плохо помню тот Коктебель. Мой отдых абсолютно исключал какие бы то ни было коллективные сборища. Я не могу смотреть на закат коллективно. Я вообще не могу получать запланированное удовольствие. Терпеть не могу праздники, будь они советские или антисоветские. Ненавижу массовый туризм, ненавижу экскурсоводов. Мне просто дурно становится в музее, когда какая-то дамочка с палочкой объясняет мне Гойю. Я не могу воспринимать Гойю через эти примитивные очки. Поэтому я уклонялся от вечерних радений и называл всю нашу гоп-компанию «взбесившиеся пионеры». Но стихи иногда слушал с удовольствием, песни Булата Окуджавы. Это, в принципе, религиозное действо, как литургия, скажем. Я любил уединение. Слушая шум морской волны, рассматривать красоты, в блокнот зарисовывать камни. Через эти камни я понял древнее искусство, понял Генри Мура, и очень много у меня работ того периода навеяны камнями Коктебеля. Я уклонялся от массовых камланий, как всегда уклонялся от всяких собраний, вечеринок. Ну. с буфетчицей Машей и с местными хулиганами мне было весело, а вот с интеллигенцией... (смеется). — В Коктебеле появляется и Влад Вертикалов, он же, конечно, Владимир Высоцкий.. — Володю Высоцкого считаю величайшим поэтом этого времени. Именно не песенником и безобразником, а поэтом. Исключительно интересный феномен российской культуры вообще. Даже рокмузыка не может сравниться с феноменом Высоцкого. Он стал абсолютно всеобщим. Скажем, его фраза: «Если я чего решил, выпью обязательно». Неважно, кто пьет: физики, лирики, чекисты или заключенные. Его песни, отдельные фразы стали гораздо более популярными, чем афоризмы русской классической литературы. — А Октава в книге похож на Булата Окуджаву, которого вы знали? — Очень похож. Как портрет: «Булат и Арбат». Булата я очень любил. Мудрость была в сердцевине его видения действительности: «Я друзей позову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу». Булату несвойственно было делать неприятные замечания. Ну, например, есть люди, которые тебя встретят и скажут: «Что это у тебя нос красный?» или «Что-то ты сегодня плохо, старик, выглядишь», или «Что- то на тебе мятый пиджачок». Булат был всегда интеллигентен и мягок, но не мягкотел, и если надо было 138 что-то сказать жестко или остро, не уклонялся. Кроме того, он был комфортным человеком. Я у него когда дома бывал, у меня слюнки текли. Все так удобно, уютно: кресло, чашечки, рюмочки, альбомы с бумагами, ручки. Упоение нераздражающим, милым бытом. Русской старины преданье... — Эпизод с массовой облавой на отдыхающих, в шортах вам памятен? Вы их носили тогда? — Да, носил. Ко мне тоже придирались, но не грубо. Я далеко от пляжа не отходил. Много было нелепого. Ловили, например, людей в кавказских шапочках из каракульчи «пирожком». Избивали по всему Советскому Союзу. И вдруг наступило облегчение: Никита Сергеич вышел па Мавзолей, сияющий, как масленичный блин, именно в такой шапочке. — А как^вам понравилось совершенно хулиганское стихотворение «<Ах что за чудная колхозыi, бля, совхозы...»? — Эта песня была нашим гимном: «И шорты, бля, и шорты, бля...» Скажем, появляется человек с блатной чекистской походкой. Походка у блатных и у «органов» одна и та же. Такая, знаете, походочка. И сразу, для того чтобы было всем понятно, говорили не «стукач», а «и шорты, бля, и шорты, бля». Таких песен было много. Даже моя помощница Лена Елагина сочиняла но поводу, например, открытой слежки за мной. Машина меня сопровождала повсюду, стояла подолгу у мастерской. Я стал даже здороваться со шпиком. — А что за песня? — Что-то вроде: «Осень будет скоро, улетят грачи; видим, у забора мокнут стукачи. Им, наверно, худо, дождик льет и льет, видишь, как от стужи бедных их трясет. Кончится, конечно, время суеты, ведь ничто не вечно, отдохнешь и ты». — Эрнст, как. вы понимаете название романа? Что это за страсть? И почему она таинственная? — Мне это название очень близко. Существа прагматичного склада верили, что все дело в конкретных людях на конкретных этажах власти. И все, мол, зависит от того, кто сидит в Политбюро, в ЦК, в Союзе писателей. Сменить плохого на хорошего — и правда восторжествует. Но жизнь и отдельного человека, и всего народа носит мистический характер. Искусство прежде всего мистическая вещь. Как форма деятельности оно тождественно религии. Коммунистические лидеры и аппаратчики, которых так живо описывает Аксенов, очень боялись стихотворений Вознесенского, песен Окуджавы и моих скульптур не потому, что те реставрировали веру и религиозность, а потому, что они в них чувствовали неуправляемую таинственность. Вася Аксенов описал основной мой тезис, что все главные вещи в мире не управляемы светской властью. А следовательно, и коммунистической партией. Главное — и искусство, и секс — управляется и охраняется «Пролетающим, медленно тающим». — Каково общее впечатление о книге? — Роман мне читала Аня (Анна Грэм — супруга Э.И. Неизвестного.). В целом ощущение животрепещущего чувства и правды. «Таинственная страсть» — это про нас про всех. Книга завораживающе мистическая. — Один из главных нервов книги — цена компромисса. Кто из творцов шел на компромисс с властью? Кто не шел? Меня интересует ваша личная оптика. В частности, точно ли описана ваша знаменитая стычка с Хрущевым? — Вася не претендовал на документальную точность, он передал общую атмосферу. Хрущева настроили против нас его враги в руководстве, чтобы его дискредитировать, показать всем, что он ни черта не понимает в искусстве и, соответственно, станет посмешищем во всем мире. Антихрущевский заговор зрел давно, и "встречи с интеллигенцией» были его составной частью. Аксенов пишет, что глава КГБ Шешелин, в реальности Шелепин, пригрозил отправить меня в урановую шахту, когда я стал огрызаться на ругань Хрущева. Да, пригрозил, и я ему на это сказал: «Или ваши информаторы обманывают вас из своих соображений, или вы обманываете главу партии из своих соображений. Я тебя не боюсь. Ты имеешь дело с человеком. который в любой момент может себя шлепнуть». Посте этого я увидел влюбленный взгляд Хрущева. — УАксенова вы говорите Шешелину: «Не мешайте нашей беседе с главой правительства!» — Это первое, что я ему сказал. Мне подчеркивание моего геройства претит. Но Васе надо было меня выписать но стереотипу, который давно сложился в головах многих людей. Меня даже обижает, что на первое место ставят мою задиристость, а не то, чем дорожу я сам: например то, что я проиллюстрировал Данте, что выиграл международные конкурсы у таких корифеев, как Сальвадор Дали. Ренато Гуттузо. Это мало кого интересует. А какая-то моя драка описана почти всеми, кто писал об этом времени. Вот Юрий Карякин пишет в своих мемуарах, что я, пьяный, влез в вагон- ресторан поезда и кричал, что ЦК захватил вагон-ресторан и никого туда не пускает. Я сам такого, ей-богу, не помню. Хрущев был двойственной натурой. То он меня обвинял в участии в империалистическом заговоре, утверждал, что я глава тайного Клуба Петефи, а то обнимал, ласково смотрел в глаза, чуть ли не целовал. Я пришел к выводу, что, отменив сталинский страх, он вдруг понял, что управлять этой разнродной многонациональной страной, управлять аппаратом, даже самыми близкими людьми, без страха невозможно. Он был весь соткан из неожиданностей: мог человека сделать Героем Советского Союза, а потом посадить в тюрьму. Окружение Хрущева, аппаратчики его страшно боялись. Помню, сказал ему: «Вас же эти люди обманывают! А ну, скажите, кто из них внушил вам, что вы разбираетесь в искусстве?» Вдруг все попятились, чтобы не попасть ему на глаза. Я видел, как они дрожали, тряслись. А он такое мог отмочить! Как- то говорит: «Мне доложили, что Майю Плисецкую не выпускают за границу. Я сказал товарищам: что же это такое?! И вот ее выпустили. Она там попала в капиталистические страны и, представьте себе, товарищи, вернулась! Чем прославила советское искусство!» (смеется). Но к 1964 году все были охвачены каким-то предчувствием, если еще и не краха, то уж точно ясным ощущением, что «все не так, ребята». Все референты и советники Хрущева, а впоследствии команда Горбачева и Яковлева, были читателями и тайными поклонниками либерально- оппозиционной литературы. Они 139 наизусть шпарили Евтушенко, Окуджаву, Галича. Интеллигентные люди. Не нужно забывать, что это были ребята, которые окончили философские и исторические факультеты. Не просто выдвиженцы из деревни. Знали по нескольку языков. Такой антисоветчины, как у них, я не встречал даже у диссидентов. Конечно, высказывались они так только в частных разговорах. На квартире у одного из личных референтов Брежнева я слушал запрещенного Галича и Окуджаву, и он в такт дирижировал. Эти люди, как сейсмографы, чувствовали скорое пришествие перемен. — Под псевдонимом Килькичев выведен секретарь ЦК Леонид Федорович Ильичев, тогдашний главный идеолог партии, серый кардинал. Вы его лично знали? — Я с ним встречался, и не один раз. Человек непростой, тертый калач. В те годы, в силу обостренной ситуации, у меня был волчий нюх и воинский дух. Потом, правда, растерял бойцовские качества. Но тогда шел ва-банк, был абсолютно беспределен, мог говорить партийным бонзам в глаза жуткие вещи. И Ильичеву говорил. Вроде бы нарывался, но часто после таких дерзостей вдруг видел доброжелательный взгляд. Как надгробие Хрущева я сделал из черно-белых глыб, так и все те люди состояли из разных слоев. Они были противоречивы и непоследовательны как само время. Они были услужливы и трусливы. Все бл...ди с эпохи Вавилона пользуются одними и теми же приемчиками. У них нет инструкций, просто они знают, как кокетничать. Все ребята из ЦК были раздвоены, жили двойной жизнью. Тот же Ильичев. Мой главный и всех главный враг. Но он, кляня меня, установил со мной почти заговорщические отношения. На встрече с Хрущевым в Манеже подошел, укоризненно подергал за курточку: «Что это вы в таком виде?» — «Мы готовились к выставке всю ночь, а мне не дали переодеться. Одежду принесли, но охрана сюда не впустила... — и еще не сдержался: — Как вам не стыдно меня попрекать курточкой в стране трудящихся?!» Однажды, как карточный шулер, он бросил через стол в мою сторону пачку писем. «У меня нет времени читать анонимки», — сказал я. «А что это у вас за татуировка на левой руке?» — спросил он. «Я был десантником и веселым мальчиком. Чтобы было понятно, у нас в Кушке мы пели песенку: «Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, где замполит не проползет, туда наш взвод ходил мочиться». Ильичев задрал рукав и весело на меня посмотрел. От кисти до локтя его левую руку украшала татуировка голой бабы, обвитой змеей. Он меня вызывал к себе в ЦК и частенько мариновал долгим ожиданием. А мне хоть бы хны. Я написал пособие «Медитация до допроса, во время и после», этот справочник ходил но рукам. Цсковские референты зачитывались, просто чуть не зацеловывали меня от удовольствия. Там были полезные советы про подстройку сверху и снизу, по системе Станиславского. Ну вот например: начальство любило начинать с тобой разговаривать полушепотом. Мне это очень трудно, потому что я был контуженый, у меня со слухом давно дела плохи. Значит, начинает разговаривать так... (бормочет). Если ты поддаешься на эту уловку и отвечаешь внятно, он подстроился сверху. А если ты отвечаешь тем же... (бормочет), собеседник начинает наклоняться к тебе и прислушиваться. Значит, ты подстроился снизу. Или он начинал орать: «А что это вы!.. Вы забыли, где вы живете?!» Чтобы тебя морально раздавить, расплющить. Надо было ошеломлять дерзостью, заорав: «А ты что сам распустился, сука?! Я такого, как ты, в свое время у параши на четыре кости ставил, пошел вон!» И начальство пугалось! А почему? Рабская натура. Он сразу думал, что если я на него, старшего лейтенанта, так ору, значит, у меня знакомый полковник, а то и генерал в корешах. Вот он на тебя смотрит, значит, очами «сталинского сокола». Всезнающими, водянистыми гляделками. Причем не было ни одного ясного взгляда, голубого или карего, а какие- то такие мутные... моча помойная. Гак он смотрит на тебя пристально, а ты ему смотри в переносицу, между бровями. И никак не реагируй. Он что-то говорит, а ты делай таю «Угу» (мычит). И он обмякает. У него партийный задор, как мой папа называл, «пролетарский чух», мгновенно выходит. Вот такие рекомендации. Но они оказывались действенными в кабинетных разговорах, а на больших партийных сборищах Хрущев меня полоскал, и не только меня, причем страшно. Он говорил, что я руководитель Клуба Петефи, и пальцем показывал, как я его хочу застрелить: «Сюда, сюда, сюда!..» Справа от меня сидела Фурцева, которая держалась за мое правое колено, а слева — Евтушенко, он схватился за левое. И оба шептали: «Эрнст, не озлобляйся, не озлобляйся...» Они боялись, что я могу что-нибудь сделать страшное. А Фурцева и за себя боялась, потому что ей сильно доставалось из-за меня. Эта дамочка говорила: «Слушайте, ну перестаньте, ну сделайте что- нибудь красивое! Сейчас с вами говорит не министр культуры, а женщина. Пожалейте женщину! Если бы вы знали, сколько у меня неприятностей из-за вас... Товарищи так сердятся!» Так вот, я сидел на многочасовых собраниях. Если бы они знали, чем я занимался. Я очень много видел обнаженных людей, натурщиц и натурщиков, поэтому развлекался тем, что раздевал весь президиум, все Политбюро, всех докладчиков. Сидел и рассматривал: «Ну вот у этого точно старческая жопка в виде мешочка и торчит кость копчика». Значит... вот, я сижу. И раздеваю их. И спасаюсь. И эти чудовища хтонические не кажутся мне страшными, а кажутся жалкими. Кроме того, все-таки не забывайте — я не хвастаюсь, но медициной установлено — люди, которые пережили клиническую смерть, а я два раза умирал и был реанимирован, вытащен из морга и оживлен, конечно, обладают не совсем нормальной психикой. Это не бесстрашие, а нечто другое, какая-то отстраненность. Мне всегда было непонятно: поэты шумят, бл...дь, ах, не напечатали какое- то стихотворение... Ну что это такое в сравнении с жизнью, со смертью, с Богом, с бесконечностью, с историей... — На одном из снимков с Хрущевым вы в официальном костюме. Все-таки заставили отказаться от легкомысленной курточки? — Да, мне сшили костюм, возможно, у упомянутого Аксеновым московского мужского портного Запеканека. Я называл это произведение портняжного искусства " костюмом имени ЦК». Меня поначалу смутило, что у брюк мотня была, как на украинских шароварах. Я и так невысокий, а с этой мотней просто какой-то веласкесовский карлик. Таня Харламова, моя тогдашняя подруга, объяснила: «Эрнст, как ты не 140 понимаешь? Он шьет для старых людей, им жмет мошонку...» Я говорю: «А я-то думал, что они там автомат Калашникова держат» (смеется). — Интересный эпизод, когда на встрече в Кремле Хрущев вызывает на трибуну для общественной «порки» одного писателя за другим. — Улизнуть было никак невозможно. Все ходили на встречи как миленькие — скульпторы, поэты, балетмейстеры, бедный Шостакович... Не по департаментам приглашали, там, Союз композиторов или писателей, МОСХ, нет, всех скопом, гуртом, как скот на заклание гнали в Кремль. И попробуй не прийти. — Очевидно, Хрущев вас уважал. Иначе не стала бы семья Никиты Сергеевича заказывать именно вам памятник^ему на Новодевичьем — В день, когда сняли Хрущева, с этой ошеломляющей новостью мне позвонила та же Таня Харламова, референт президиума Академии наук. Я тут же набрал телефон Лебедева, первого помощника Хрущева. Произнес: «Здравствуйте, — и он меня сразу узнал. — Вы все время добивались, чтобы я написал Никите Сергеевичу письмо, в котором бы сказал, как его глубоко уважаю. а я все отказывался. Но сейчас прошу передать Никите Сергеевичу, что я его действительно глубоко уважаю за то, что он разоблачил «культ личности» и выпустил сотни тысяч людей из тюрем и лагерей. А наши эстетические разногласия перед лицом этого подвига я считаю несущественными. Передайте, что я ему желаю большого здоровья, долгих лет жизни и спокойствия ». Голос Лебедева дрогнул. Он сказал: «Эрнст Иосифович, я от вас другого не ожидал ». Я знаю, что мое надгробие Хрущеву родилось именно из этого разговора. Польская коммунистка во время открытия памятника сказала: «Никита Сергеевич был прав, когда просил, чтобы именно вы сделали ему надгробие после его смерти». Нина Петровна присылала мне выдержки из мемуаров мужа, где были теплые слова обо мне, где он как бы косвенно извинялся. — Под сурдинку, вторым планом, но достаточно прозрачно Аксенов намекает, что именно Хрущев, не простив Кеннеди унижения в связи с Карибским кризисом, организовал его убийство. — «Таинственная страсть» — это отчасти фантастический роман. В реальности такая мысль абсурдна. Хотя этого мы никогда не узнаем. Версия про «длинные руки» Хрущева гуляла тогда по Москве, будоражила воображение. Но я в это не верю. Потому что Хрущев не наивный мальчик. Не было бы Кеннеди, был бы кто-то другой, Америка воспроизвела бы его подобие. — Аксенов описывает переживания Андреотиса-Вознесенского по поводу того, что он стерпел хамство на трибуне. — Почитайте мемуары Андрона Кончаловского, где он описывает, как ночь не мог уснуть, гулял по Москве и думал: «Какой я трус, какой я жалкий... Ведь Эрнст Неизвестный мог, а я что?» Он страдал, оказывается. Я глубоко убежден, что жуткая ненависть ко мне, например, Союза художников была совершенно не связана с тем, что я лепил все, что они не лепили: кресты, каких-то кентавров... Я был свободным человеком, но не они. Я не скрывал ничего: что пью, матерюсь... Мог подраться. Ну да, я очень много пил. Два раза лечился и зашивался. Удивительно, что совсем не спился. За свою свободу я и платил, просто не мог жить иначе. Помню, как Женя Евтушенко пришел ко мне в мастерскую, где было восемьсот работ в бронзе, малой формы. И ни одна из них не выставлялась! И тысячи рисунков и гравюр. И вот он с пафосом рассказывал мне, что у него не напечатали двадцать стихотворений. Напечатали пятьсот, а двадцать нет. Лишили русский народ такого духовного богатства. Причем говорил Женя об этом чуть ли не со слезами на глазах. Я слушал и думал: «Как тебе хорошо живется. А меня вот совсем не выставляют...» Я без этого просто задыхался. Говорю ему: «Я тебя не понимаю, Женя. Ты что, не знаешь, что я уже двадцать лет выкинут из жизни?!» — Помните эпизод, как, Эр Рождественский приходит к, оргсекретарю Союза писателей Юрию Верченко, а там сидит большой чин КГБ? — Да, мы жили очень странной жизнью. ХОДИЛ у меня в приятелях очень известный сценарист, я бы сказал, чекистский писатель вроде Юлиана Семенова. В большом чине. В Доме литераторов за одним столом могли сидеть душитель и диссидент и выпивать. Душитель даже любил сидеть с диссидентом, это было модно! Как-то этот знакомый чекист подсел ко мне. Я ему: «Слушай, Коля, вон свободный столик... Отсядь от меня! » — «Что, я тебе неприятен?» — «Да пи в коем случае! Просто если я буду сидеть с тобой, публика подумает, что я работаю на вас, а я никогда не работал и не буду работать на вас и не хочу сплетен». А он говорит: «Эрнст, так подумают только дураки. Если бы ты работал на нас, во-первых, я бы к тебе не подошел, чтобы не раскрываться, нас за это наказывают. Во-вторых, умные люди поймут, что ты точно не работаешь на нас, потому что я открыто подсел к тебе». Потом злобно оглянулся и говорит: «Ух, если бы мог, я бы тебе сказал, сколько вокруг сидит «товарищей», которые делают вид, что меня не узнают, а ведь не раз стояли чуть не на коленях у меня на ковре и топили ближайших друзей, сволочи!» — Что вы можете сказать о Ваксоне-Аксенове? — Прекрасная фигура героя! Во многом соответствует живому Аксенову. Я Васю как друга очень люблю. Но его экстремизм, который здесь явлен в спорах со всеми, несколько непривычен, не очень вписывается в сложившееся у меня представление о нем. В том безумном мире он был вменяемым человеком. По крайней мере, я держал его за вменяемого. Например, себя я за вменяемого не держал. Высоцкого не держал. Любимова. Хотя Любимов был достаточно дипломатичен и ловок, старый лис. — А Тушинский-Евтушенко? Аксенов дает понять, что у него были какие-то тайные рычаги воздействия на власть. — Я лично не верю в тайные рычаги, а в явные верю. Я верю, что Женя мог быть «секретом короля», передатчиком важных конфиденциальных посланий. Ну, скажем, перед тем, как он отправлялся в 141 очередной вояж за океан, его мог вызвать Суслов или другой партийный бонза и сказать в ходе неформальной, светской беседы: «Будьте любезны, если вы встретитесь с Кеннеди или Аидайком, скажите им, что у нас и мыслей не было причинить вреда Америке, сделан то- то и то-то». И я понимаю, почему Женя за такие вещи вполне мог ухватываться. Ему это не могло не льстить: я не последний человек в своей стране, смотрите, как со мной верховная власть обращается. А раз так — дайте лучший отель, дайте переводчика, дайте медаль. Ничего в этом зазорного нет. Человек разумный всегда стремится для себя создать благоприятные условия существования. Но в чем я абсолютно уверен: Женя никогда не был стукачом по отношению к своим друзьям. Если перед Женей возникала дилемма сделать добро или зло для товарища, он всегда выбирал добро. Он был невероятно щедрым. Идешь куда-нибудь с Женей, и даже если договаривались вскладчину, всегда за стол платил он. В мою защиту Женя выступал смело. Когда Хрущев на одной из встреч с интеллигенцией сказал, что Неизвестный протаскивает чуждые идеи в искусстве, он ему возразил: «Ну что вы, Никита Сергеевич! Он же фронтовик, его ранили, и вообще он исправится». На что Хрущев сказал, что горбатого могила исправит. Тогда Женя ответил очень решительно: «Никита Сергеевич, вы же сами нам сказали, что прошло время исправлять могилами». И демонстративно ушел с трибуны, что было неслыханно. Мы с Женей дружили больше, чем с остальными ребятами, потому что он подвижный человек, залетал с вытаращенными голубыми глазами и читал мне Окуджаву, Рождественского, Беллочку Ахмадулину, пел Гхтича. У него грандиозная память, все шпарил наизусть! Иногда, хоть и было неловко, я вынужден был этот поток затыкать, потому что мне надо было работать. — Правда, что Евтушенко помог вашей матери,, поэтессе Белле Дижуур, выехать за границу? — Моя мама восемь лет была «в отказе». Я уже жил в Нью-Йорке, когда в очередной раз сюда приехал Женя. Я его попросил помочь ей выехать. Он сказал: «А я тебе не ОВИР». — «Женя, ты больше, чем ОВИР». Тогда он написал письмо Андропову. Очень человечное письмо. У меня есть копия. «За что вы травите старую женщину? Не пускаете ее к сыну. Она гак тоскует по нему». Смилостивились, выпустили маму и мою сестру. И таких проявлений добра и помощи со стороны Евтушенко я видел много. — И все-таки отношение кЕвтушенко было неоднозначным.. Очень комично описывает Аксенов примеры хлестаковщины, свойственные Тушинскому, например насчет дружбы с Кастро. — Признаюсь, Женя и меня смешил своими заграничными историями. Когда он выступал на встрече с Хрущевым, уверял, что хорошо знает испанский и по душам не раз беседовал с Фиделем. Правда, мои знакомые испанисты уверяют, что Женя не мог без переводчика общаться с кубинским лидером из-за недостаточного знания этого языка. Но в той же речи он с блеском использовал психологический момент, чтобы надавить на Хрущева. Сказал, мол, Кастро очень удивлен, что Никита Сергеевич, бесстрашный человек, так ополчился на абстракционистов. Не побоялся разоблачить культ личности Сталина и почему-то испугался художников. У меня была маленькая скульптурка — солдат-инвалид без руки и без ноги стоит, опершись на костыль. Женя отвез ее Фиделю Кастро в подарок. Кубинский лидер собрал, как Женя рассказывал мне, большой митинг, долго и пламенно говорил об этой скульптуре, о стойкости русских. Если, конечно, Женя это не выдумал. — Но почему все-таки Аксенов так наезжает на Тушинского- Евтушенко? По логике событий его должен был больше раздражать Эр Рождественский, ведь именно он занимал видные посты в структуре власти. — Потому что Роберт был чистый, благородный и красивый человек. Когда он приходил ко мне в мастерскую, то приносил ощущение человеческого здоровья, красоты, даже гармонии. Всегда выглядел так, как будто только что выскочил из бассейна. Красивый, плечистый, губастый. Действительно, соглашусь с Аксеновым, Эр походил на негра. Загорелый, толстые губы. Прежде чем что-то сказать, он их выпячивал. В нем была мужская сила, сила альпиниста, лыжника, возможно, несколько простоватая комсомольская мужская сила. Когда он волновался, поднимал ворот плаща или пиджака. Он был очень открытым, искренним, а людей больше всего раздражает то, что Ленин называл двоежопством, характеризуя двойственность меньшевиков. Я Евтушенко прямо говорил: «Женечка, быть официальным поэтом совершенно не стыдно, будь им! Были же официальные поэты: Державин, Жуковский... Быть отщепенцем, изгоем вроде Франсуа Вийо на или Артюра Рембо гоже не стыдно. Но у тебя, Женя, длинные ноги. Ты стоишь на двух стульях, и они едут из- под тебя в разные стороны. Переступи уже на какой-то один». Женька мог невероятно раздражать самых разных людей, в том числе из властных структур. Аксенов видел ловкость Жени в таких делах, видел, как тот не вылезал из загранки и одновременно жаловался на притеснения, и испытывал к нему сложное чувство — восхищение его недюжинным талантом вместе с отвращением к его стилю жизни. Женя раздражал еще и потому, что он постоянно непонятно в чем оправдывался. До сих пор оправдывается, что не стукач. — А какие отношения бъли у вас с Бродским? — В России мы с ним больше были дружны, чем здесь. В конце шестидесятых Иосиф появлялся у меня в мастерской в Москве. Приглашал в Ленинград. Я ездил, и мы часто общались. В Нью-Йорке мы тоже встречались. Я и мой круг в эмиграции сделали многое для получения Иосифом Нобелевской премии. Я узнал о его победе прежде всех, ночью. Мне позвонили из Швеции. Послал ему телеграмму: «И на нашей улице праздник». Я воспринял его победу как нашу общую. Впрочем, замечу, что Бродский считал себя вправе использовать в своих целях крупных американцев, как творцов, так и чиновников. Я ему говорил: «Слушай, ну что ты ходишь к этой даме, к этому, понимаешь, пижону из «Вога»... Скучнейшие люди!» А он: «Ну, ебать же их нужно, туземцев!» То есть относился к ним чисто потребительски. — Очень много места Аксенов уделяет личной жизни поэтов. Вас это увлекло? — Я очень благодарен Васе за женщин «Таинственной страсти». Эротические сцены невероятно светлые. Страсть, свет, желание; Пролетающий, медленно тающий, который предупреждает: «Я защитник Ралисс». Что я 142 могу добавить вслед за моим другом к этой теме? Если бы я писал, лучше бы не сделал. Я считаю, что Аксенов поступил совершенно правильно, подробно описав жен и любовниц. Аксеновские описания карнавалов, пьяных неистовств в Коктебеле великолепны. Я одновременно влюблен во все его женские персонажи, потому что угадываю в них дух Маргариты. Он описал и прославил целое поколение женщин, которых я знал и тоже любил. — Вы всехпрекрасныхдам опознали? — Ну да, Ралисса — это же Майя, которую Аксенов отбил у знаменитого режиссера-до-кументалиста Романа Карме на. В «Ожоге» ее звали лиса Алиса. Алиса-Ралисса. — А Кочевой он потому что много по свету ездил, да? — Кармен все время был в пути. Как Ян Тушинский. — А кто такая Человекова, подруга Андреотиса, родившая ему сына? Похоже, это собирательный образ, соединивший актрису Татьяну Лаврову и некую художницу, родившую ему ребенка? — Я этого не знаю. Вознесенский интеллектуально абсолютно бесстрашен, это видно по его стихам, но в разговорах на личные темы он был сдержан. С Лавровой я дружил отдельно от них. Она приходила ко мне в студию, смотрела работы. У меня с ней не было романа. — Камп, скорее всего, Борис Полевой,, настоящая фамилия которого Кампов. Он же выведен в романе и под фамилией Луговой. А что это за дама, которая с вами, Эрнст, уехала в Америку, а потом сбежала в Голливуд с режиссером, в котором угадываются черты1 Андрона Кончаловского и Андрея Тарковского? — Да-да. У Аксенова я прочитал, что с кем-то уехал в эмиграцию. Аню это, естественно, страшно заинтересовало. Но ничего такого не было, я эмигрировал один. Первые мои женщины за границей — немка, швейцарка, француженка, кто угодно, только не русские эмигрантки. Я просто как чумы их боялся, наших эмигранток. Я сам от них сбегал. Потому что не выберешься из приключений, причем неаппетитных. Что касается Кончаловского, мне нравились его нервность, рефлексия. Он был исключительно страдающим существом. Но быть в СССР золотой молодежью и не быть сволочью — это надо было иметь особый дар. — Девицы, облеплявшие кумиров, — реальность или придумка Аксенова? Признайтесь, вас тоже они донимали? — К скульптору, художнику, даже известному, пробраться довольно несложно. Была такая организация, «модельный цех», обслуживала членов МОСХа. Натурщиков и натурщиц присылали. Однажды прислали девушку Любу. Я приказал красавице стереть косметику и как можно скромнее одеться. Она из Ленинграда, бывшая барменша. Бродский приводил всю свою гопкомпанию в ее бар. Она из уважения к стихам всю эту банду поила за свой счет, накопилась жуткая недостача, и она от страха тюрьмы рванула в Москву. Таким образом, через друзей-поэтов, появилась у меня. Подработать. Очень статная, красивая. Я се рисовал. У меня много рисунков с нее. — Вам кидались на шею девочки? — Мне — нет. Евтушенко и Вознесенскому — да. — У них что, другой статус был, да? — Ну конечно. Я же работяга, грубый, в грязной куртке. — А кто это Милка Колокольцева? — Не знаю. Думаю, собирательный образ. — В споре между Ваксоном и Эром пролегала линия принципиальных разногласий. Рождественский считал, что Сталин плохой, но Ленин-то был хороший. Аксенов был, как, выясняется, твердый антикоммунист и говорил, что это два черта, мазанные одной черной краской. Вы в те годы какому были ближе по взглядам — кАксенову или к,Рождественскому? — К папе моему. К папе-белогвардейцу. — Поговорим, о вашем отъезде в эмиграцию. Глад, Гладиолус Подгурский, это, скорее всего, Анатолий Гладилин, который уехал раньше других. Вот Известное говорит: «Нет, Глад, тебе не удастся уехать первым,, потому что первым,уеду я...» Что вас подталкивало к,отъезду? — Алкоголь и дурной характер (смеется). В романе Александра Зиновьева «Зияющие высоты» Мазиле, прототипом которого был я, задавали вопрос: «А если тебе дадут все оформлять в этой стране, ты останешься?» «Нет, — говорил Мазила, — не останусь, я больше не хочу». Меня несколько раз пытались вербануть, но не получилось. В МОСХе сказали: «Вы должны зайти туда-то», я не знал зачем. Пришел, оказалось: гостиница, и там какой-то лейтенантик начал предлагать работать. На что я сказал: «Я вас не понимаю». — «Что, у вас отвращение к нам?» Я сказал: «Нет, у меня нет отвращения. Во всех государствах есть такие институты, как во всех организмах есть почки. Но у меня возражение: глаз не может стать жопой, а жопа — глазом. Я гений! Дайте мне служить Родине моим гением!» И ушел. — Но вы же уезжали какполитический эмигрант? — Меня выталкивали. Вызывали и говорили: «Если не уедешь, мы тебя либо в тюрьму, либо в психиатричку...» В семьдесят пятом году мне популярно объяснили: либо гуда, либо сюда. И несколько раз ломали ребра, пальцы, в общем, выталкивали. Я даже попадал после избиений в Склифосовского. На мастерской малевали фашистские знаки и писали «Убирайся вон, бракодел!». Поломали работы, которые я сделал за тридцать лет, молотками разбили почти все! — Чем для вас сегодня является оттепель, столь ностальгически щемяще описанная Аксеновым? — В шестидесятые годы советские люди как бы очнулись от магического сна. Мы были загипнотизированы адовыми, языческими идолами. Поэзия первой освобождалась от власти демонов. Поэт-медиум становился проводником таинственных инспираций, и чем случайнее, тем вернее слагались 143 стихи навзрыд. Я считаю всю эту группу заме нательных поэтов и писателей моими друзьями. Я всегда жил как ведьма на метле. Живы? Ну и живите. Большего я от вас не требую. Или как водолаз, который выныривает из-под воды и говорит: «Ах, войны нет? Ну, тогда все в порядке!» И — обратно. Александр Солженицын Солженицын Александр Исаевич, прозаик,(11.12.1918 Кисловодск). Окончил Ростовский университетт (физико-математический ф-т) параллельно заочно учился в МИФЛИ. С 1941 г. - солдат на фронте второй мировой войны, в 1945г. арестован в звании капитана, до 1953 г. в лагерях, общего и особого типа, до 1956 г. на «вечном поселении» в Средней Азии. В это время Солженицын начинает писать. В 1956 г. реабилитирован, был учителем в Рязани. С прямого разрешения Хрущева повесть Солженицына «Юдин день Ивана Денисовича» (1962) была напечатана А. Твардовским в журнале «Новый мир». В 1964 г. он был выдвинут на Ленинскую премию, но не получил ее вследствие изменения политического курса. В 1966 г. Солженицын в последний раз удалось опубликовать один рассказ в советской печати. Сенсацией, привлекшей внимание всего мира, стало его письмо к делегатам 4-го съезда СП СССР в мае 1967 г., где он говорит об ущербе, который причиняет советской литературе цензура, и о насилии над его собственными произведениями. Два больших, романа Солженицына, написанные между 1955 и 1967 гг. и отражающие опыт ссылки и лагеря, «Раковый корпус» (1968) и «В круге первом» (1968) — распространялись в самиздате. Напечатанные на Западе, они принесли Солженицыну мировую славу. За ними были опубликованы вызвавшие меньшее внимание две пьесы Солженицына (из 4-х написанных им между 1951 и 1960): «Свеча на ветру» (1968, позднее — под названием «Свет, который в тебе») и «Олень и талановка» (1968, позднее — под названием «Республика труда»). Непримиримая позиция Солженицына по отношению к требованиям Союза Писателей, его нежелание приспосабливаться, привели к его исключению 5.11.1969. В 1970 г. ему была присуждена Нобелевская премия, которую он не смог получить лично. В то время в СССР усилилась кампания против Солженицына. В 1971 г. он дал разрешение на публикацию в Париже книги «Август четырнадцатого» — первого тома своей эпопеи «Красное колесо»; по замыслу она состоит из многихчастей («узлов»), отражающих события Первой Мировой войны и до 1922 г. Когда было выслежено местонахождение сохранявшейся в тайне рукописи его книги «Архипелаг ГУЛАГ» (1973-75) в документально-литературной форме, излагающей истсрию репрессий в СССР начиная с 1918 г., Солженицын решил опубликовать ее в Париже. В феврале 1974 г. Солженицын был выслан из СССР и поселился вместе с семьей в Цюрихе. Находясь здесь, он публикует сначала произведения, написанные прежде: «Письмо вождям Советского Союза» (1974) с предостережениями и советами относительно будущего России, и автобиографическую книгу «Бодался теленок с дубом» (1975), рассказывающую о советской литературно- политической ситуации 1961-74 гг. Здесь же отдельной книжкой опубликовал 11 глав из его эпопеи «Красное колесо», названные «Ленин в Цюрихе» (1975). В 1976 г. Солженицын переселился в США (Кавендиш, штат Вермонт). Там он переработал все свои прежние произведения для включения их в полное собрание сочинений и после необходимых исторических, исследований написал до 1991 г. эпопею «Красное колесо» в 4 ««узлах» (10 томов): «Август четырнадцатого», расширенный вдвое (1983) ««Октябрь шестнадцатого» 0984), состоящий также из двух томов, «Март семнадцатого» (1986), 4 тт.; «Апрель семнадцатого» в 2-х тт., роман о конце царской эпохи, о февральской революции и неизбежности большевистского переворота, заканчивает весь цикл. Время от времени Солженицын высказывается по вопросам международного политического положения. Перестройка привела к, тому, что в июле 1989 г. исключение Солженицына из Союза Писателей было отменено, и с конца 1989 г. началась широкая публикация его произведений в советских журналах. В 1990 г. ему было возвращено советское гражданство, которого он лишился в 1974 г. Госпрокуратура 17.9.1991 признала свою ошибку и принесла Солженицыну публичные извинения («Известия», 18.9.1991). В связи с запретом КПСС и КГБ после провалившегося путча в 1991 г., он увидел для себя возможность возвращения на родину, что и осуществил в конце мая 1994 г. Солженицын, как,это поначалу официально признавалось в СССР один из наиболее значительных эпических талантов советской русской литературы. Считая своим долгом только истинное изображение жизни, в трех первых своих больших прозаических произведениях он обращается в сталинским временам, в первую очередь — к принудительно-трудовым лагерям техвремен и специальным лагерям с программой научных, исследований.. Следуя этому долгу, в романе ««Август четырнадцатого» он показывает поражение царской армии во время Первой Мировой войны в битве под Танненбергом и говорит о всеобщей международной опасности злоупотребления научными открытиями в пьесе ««Свет, который в тебе». «Архипелаг ГУЛАГ» — наиболее полное изображение организованного насилия на протяжении всей советской эпохи (лагеря, процессы, административные меры). Документ, соединяется с лично пережитым или сообщенным бывшими заключенными. «Бодался теленоксдубом» дает подробное представление о судьбе Солженицына от начала литературной деятельности до второго ареста и высылки за границу, и вместе с тем это — поэтическое отражение времени, когда возникли его произведения. Композиция его произведений, в том числе и драм, определяется следованием за тем, как складываются события (аддитивно-эпическая), количество действующих лиц велико, главы и эпизоды обладают большой самостоятельностью. Основные линии действия в прозаических произведениях Солженицына ограничены несколькими днями (в романе «Раковый корпус» — несколькими неделями). В произведениях, обличающих сталинизм во всех проявлениях, экскурсы в прошлое позволяют понять эпоху в целом. На первом плане действие содержит в себе элементы драматического напряжения, обеспечивающие художественное единство произведений Солженицына. Максимум объективности достигается в них благодаря частым сменам перспективы повествования, очень во многих случаях — благодаря отказу от 144 авторского комментария и (в эпопее «Красное колесо») — благодаря структурной многослойности, здесь — вымысел, исторический очерк, документ, импрессионистски-лирические пассажи. Художественным и публицистическим произведениям Солженицына свойственны сознательная уплотненность языка, доводимая до пропусков (эллипс), и языьковые преобразования, создаваемые на древнерусской корневой основе. Соч./ Один день Ивана Денисовича, 1963, перераб. изд. — Paris, 1973 (содерж. также: Матренин двор); Матренин двор, ж. «Новый мир», 1963, №1; Захар Калита, там же, 1966, №1; Раковый корпус. В 2-х кн., Tranfurt/M., 1968, перераб. изд. — Paris, 1978; В круге первом, Tranfurt/M, 1968; Олень и шала- шовка, London, 1968 и (под назв. «Республика труда», ж «Театр», 1989, №«12; Свеча на ветру, London, 1968 (ж. ««Студент», №11-12) и ж «Грани», №71, 1969; Август четырнадцатого, Paris, 1971, перераб изд. — Paris, 1983; Архипелаг ГУЛАГ. В 3-х W, Paris, 1973-75; Письмо вождям Сов. Союза, Paris, 1974; На возврате дыхания и сознания. Статья в сб.: «Из-под глыб», Paris, 1974; Бодался теленокс дубом, Paris, 1975; Ленин в Цюрихе, (главы из романа), Paris, 1975; Красное колесо, Paris, 1983-91 Узел 1. Август четырнадцатого, перераб. изд. — 1983; Узел 2. Октябрь шестнадцатого, 1984; Узел 3. Март семнадцатого, 1986-88; Узел 4. Апрель семнадцатого, 1991); Казнам обустроить Россию, «Лит. газ.», 1990, 18.9., «Рус. мысль», 1990, 21.9. — Собр. соч. В 6-ти тт., Frankfurt/M., 1969-70; Собр. соч.., Paris, 1978 — (до 1991 появилось 20 тт.). Лит.: Q. Lukacs, Neuwied, 1970; A. RRoth6erg, Ithaca, 1971; Л. Ржевский, Творец и подвиг, Franfurt/M, 1972; Р Плетнев, Paris, 2-е изд. — 1973; P. Daix, Paris, 1973; Н Bjorkegren, Nuffield, 1973; U6er Solschenizyn, Darmstadt, 1973 (с библиографией); у.В. Dunlop, Diss., Yale Univ., 1973; V. Carpovich, New York, 1976; F. Barker, New York, 1977; Q. Nivat, Paris, 1980; M. Шнеерсон, Frankfurt/M., 1984; M. Scammell, London, 1985; Solzenitsyn in exje. Сост. J. Dunlop и др., Stanford, 1985; ф. Воронов, «Лит. Россия», 1989, 7.7.; Akte Solschenizyn: 1965-1977, Berlin, 1994; П. Паламарчук, ж «Кубань», 1989, №2-5 и ж ««Москва», 1989, №9,10 (Александр С.: Путеводитель). А. Немзер, «Лит. обозрение», 1990, №6. Александр Солженицин «Как нам обустроить Россию» Часы коммунизма — свое отбили. Но бетонная постройка его еще не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами. МЫ-НА ПОСЛЕДНЕМ ДОКАТЕ Кто из нас теперь не знает наших бед, хотя и покрытых лживой статистикой? Семьдесят лет влачась за слепородной и злокачественной марксо-ленинской утопией, мы положили на плахи или спустили под откос бездарно проведенной, даже самоистребительной, «Отечественной» войны — треть своего населения. Мы лишились своего былого изобилия, уничтожили класс крестьянства и его селения, мы отшибли самый смысл выращивать хлеб, а землю отучили давать урожаи, да еще заливали ее морями-болотами. Отходами первобытной промышленности мы испакостили окружности городов, отравили реки, озера, рыбу, сегодня уже доконечно губим последнюю воду, воздух и землю, еще и с добавкой атомной смерти, еще и прикупая на хранение радиоактивные отходы с Запада. Разоряя себя для будущих великих захватов под обезумелым руководством, мы вырубили свои богатые леса, выграбили свои несравненные недра, невосполнимое достояние наших правнуков, безжалостно распродали их за границу. Изнурили наших женщин на ломовых неподымных работах, оторвали их от детей, самих детей пустили в болезни, в дикость и в подделку образования. В полной запущи у нас здоровье, и нет лекарств, да даже еду здоровую мы уже забыли, и миллионы без жилья, и беспомощное личное бесправие разлито по всем глубинам страны, — а мы за одно только держимся: чтоб не лишили нас безуёмного пьянства. Но так устроен человек, что всю эту бессмыслицу и губление нам посильно сносить хоть и всю нашу жизнь насквозь — а только бы кто не посягнул обидеть, затронуть нашу нацию! Тут — уже нас ничто не удержит в извечном смирении, тут мы с гневной смелостью хватаем камни, палки, пики, ружья и кидаемся на соседей поджигать их дома и убивать. Таков человек: ничто нас не убедит, что наш голод, нищета, ранние смерти, вырождение детей — что какая-то из этих бед первей нашей национальной гордости! И вот почему, берясь предположить какие-то шаги по нашему выздоровлению и устройству, мы вынуждены начинать не со сверлящих язв, не с изводящих страданий — но с ответа: а как будет с нациями? в каких географических границах мы будем лечиться или умирать? А уже потом — о лечении. А ЧТО ЕСТЬ РОССИЯ? Эту «Россию» уже затрепали-затрепали, всякий ее прикликает ни к ляду, ни к месту И когда чудовище СССР лез захватывать куски Азии или Африки — тоже во всем мире твердили: «Россия, русские»... А ч т о же именно есть Россия? Сегодня. И — завтра (еще важней). Кто сегодня относит себя к будущей России? И г д е видят границы России сами русские? За три четверти века — при вдолбляемой нам и прогрохоченной «социалистической дружбе народов» — коммунистическая власть столько запустила, запутала и намерзила в отношениях между этими народами, что уже и путей не видно, как нам бы вернуться к тому, с прискорбным исключением, спокойному сожитию наций, тому даже дремотному неразличению наций, какое было почти достигнуто в последние десятилетия предреволюционной России. Еще б, может, и не упущено разобраться и уладить — да не в той лихой беде, как буре, завертевшей нас теперь. Сегодня видится так, что мирней и открытей для будущего: кому надо бы разойтись на отдельную жизнь, так и разойтись.. И именно при этом всеместном национальном изводе, 145 заслоняющем нам остальную жизнь, хоть пропади она, при этой страсти, от которой сегодня мало кто в нашей стране свободен. Увы, многие мы знаем, что в коммунальной квартире порой и жить не хочется. Вот — так сейчас у нас накалено и с нациями. Да уже во многих окраинных республиках центробежные силы так разогнаны, что не остановить их без насилия и крови — да и не надо удерживать такой ценой! Как у нас все теперь поколесилось — так все равно «Советский Социалистический» развалится, все равно! — и выбора настоящего у нас нет, и размышлять-то не над чем, а только поворачиваться проворней, чтоб упредить беды, чтобы раскол прошел без лишних страданий людских, и только тот, который уже действительно неизбежен. И так я вижу надо безотложно, громко, четко объявить: три приба лтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать—да!— непременно и бесповоротно будут отделены. (А о процессе отделения — страницами ниже.) О Казахстане. Сегодняшняя огромная его территория нарезана была коммунистами без разума, как попадя: если где кочевые стада раз в год проходят — то и Казахстан. Да ведь в те годы считалось: это совсем неважно, где границы проводить, — еще немножко, вот-вот, и все нации сольются в одну. Проницательный Ильич-первый называл вопрос границ «даже десятистепенным». (Так — и Карабах отрезали к Азербайджану, какая разница — куда, в тот момент надо было угодить сердечному другу Советов — Турции.) Да до 1936 года Казахстан еще считался автономной республикой в РСФСР, потом возвели его в союзную. А составлен-то он из южной Сибири, южного Приуралья да пустынных центральных просторов, с тех пор преображенных и восстроенных — русскими, зэками да ссыльными народами. И сегодня во всем раздутом Казахстане казахов — заметно меньше половины. Их сплотка, их устойчивая отечественная часть — это большая южная дуга областей, охватывающая с крайнего востока на запад почти до Каспия, действительно населенная преимущественно казахами. И коли в этом охвате они захотят отделиться — то и с Богом. И вот за вычетом этих двенадцати — только и останется то, что можно назвать Русь, как называли издавна (слово «русский» веками обнимало малороссов, великороссов и белорусов), или — Россия (название с XVIII века) или, по верному смыслу теперь: Российский Союз. И все равно — еще останется в нем сто народов и народностей, от вовсе немалых до вовсе малых. И вот тут-то, с этого порога — можно и надо проявить нам всем великую мудрость и доброту, только от этого момента можно и надо приложить все силы разумности и сердечности, чтоб утвердить плодотворную содружность наций, и цельность каждой в ней культуры, и сохранность каждого в ней языка. СЛОВО К ВЕЛИКОРОССАМ Еще в начале века наш крупный государственный ум С. Е. Крыжановский предвидел: «Коренная Россия не располагает запасом культурных и нравственных сил для ассимиляции всех окраин. Это истощает русское национальное ядро.» А ведь то сказано было — в богатой, цветущей стране, и прежде всех миллионных истреблений нашего народа, да не слепо подряд, а уцеленно выбивавших самый русский отбор. А уж сегодня это звучит с тысячекратным смыслом: нет у нас сил на окраины, ни хозяйственных сил, ни духовных. Нет унас сил на Империю! — и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель. Я с тревогой вижу, что пробуждающееся русское национальное самосознание во многой доле своей никак не может освободиться от пространнодержавного мышления, от имперского дурмана, переняло от коммунистов никогда не существовавший дутый «советский патриотизм» и гордится той «великой советской державой», которая в эпоху чушки Ильича-второго только изглодала последнюю производительность наших десятилетий на бескрайние и никому не нужные (и теперь вхолостую уничтожаемые) вооружения, опозорила нас, представила всей планете как лютого жадного безмерного захватчика — когда наши колени уже дрожат, вот-вот мы свалимся от бессилия. Это вреднейшее искривление нашего сознания: «зато большая страна, с нами везде считаются», — это и есть, уже при нашем умирании, беззаветная поддержка коммунизма. Могла же Япония примириться, отказаться и от международной миссии и от заманчивых политических авантюр — и сразу расцвела. Надо теперь жестко выбрать: между Империей, губящей прежде всего нас самих, — и духовным и телесным спасением нашего же народа. Все знают: растет наша смертность, и превышает рождения, — мы так исчезнем с Земли! Держать великую Империю — значит вымертвлять свой собственный народ. Зачем этот разнопестрый сплав? — чтобы русским потерять свое неповторимое лицо? Не к широте Державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке ее. Отделением двенадцати республик, этой кажущейся жертвой — Россия, напротив, освободит сама себя для драгоценного внутреннего развития, наконец обратит внимание и прилежание на саму себя. Да в нынешнем смешении — какая надежда и на сохранение, развитие русской культуры? все меньшая, все идет — в перемес и в перемол. К сожалению, этот мираж «единонеделимства» 70 лет несла через свою нищету и беды и наша стойкая, достойная русская эмиграция. Да ведь для «единонеделимца» 1914 года — и Польша «наша» (взбалмошная фантазия Александра I «осчастливить» ее своим попечительством), и никак «отдать» ее нельзя. Но кто возьмется настаивать на этом сегодня? Неужели Россия обеднилась от отделения Польши и Финляндии? Да только распрямилась. И так — еще больше распрямимся от давящего груза «среднеазиатского подбрюшья», столь же необдуманного завоевания Александра II, — лучше б эти силы он потратил на недостроенное здание своих реформ, на рождение подлинно народного земства. 146 Наш философ этого века Ив. А. Ильин писал, что духовная жизнь народа важней охвата его территории или даже хозяйственного богатства; выздоровление и благоденствие народа несравненно дороже всяких внешних престижных целей. Да окраины уже реально отпадают. Не ждать же нам, когда наши беженцы беспорядочно хлынут оттуда уже миллионами. Надо перестать попугайски повторять: «мы гордимся, что мы русские», «мы гордимся своей необъятной родиной», «мы гордимся...». Надо понять, что после всего того, чем мы заслуженно гордились, наш народ отдался духовной катастрофе Семнадцатого года (шире: 1915-1932), и с тех пор мы — до жалкости не прежние, и уже нельзя в наших планах на будущее заноситься: как бы восстановить государственную мощь и внешнее величие прежней России. Наши деды и отцы, «втыкая штык землю» во время смертной войны, дезертируя, чтобы пограбить соседей у себя дома, — уже тогда сделали выбор за нас — пока на одно столетие, а то, смотри, и на два. Не гордиться нам и советско-германской войной, на которой мы уложили за 30 миллионов, вдесятеро гуще, чем враг, и только утвердили над собой деспотию. Не «гордиться» нам, не протягивать лапы к чужим жизням — а осознать свой народ в провале измождающей болезни, и молиться, чтобы послал нам Бог выздороветь, и разум действий для того. А если верно, что Россия эти десятилетия отдавала свои жизненные соки республикам, — так и хозяйственных потерь мы от этого не понесем, только экономия физических сил. СЛОВО К УКРАИНЦАМ И БЕЛОРУСАМ Сам я — едва не на половину украинец, и в ранние годы рос при звуках украинской речи. А в скорбной Белоруссии я провел большую часть своих фронтовых лет, и до пронзительности полюбил ее печальную скудость и ее кроткий народ. К тем и другим я обращаюсь не извне, а как свой. Да народ наш и раздепяпся на три вётви лишь по грозной беде монгольского нашествия да польской колонизации. Это все — придуманная невдавне фальшь, что чуть не с IX века существовал особый украинский народ с особым не русским языком. Мы все вместе истекли из драгоценного Киева, «откуду русская земля стала есть», по летописи Нестора, откуда и засветило нам христианство. Одни и те же князья правили нами: Ярослав Мудрый разделял между сыновьями Киев, Новгород и все протяжение от Чернигова до Рязани, Мурома и Белоозера; Владимир Мономах был одновременно и киевский князь и ростово-суздальский; и такое же единство в служении митрополитов. Народ Киевской Руси и создал Московское государство. В Литве и Польше белорусы и малороссы сознавали себя русскими и боролись против ополяченья и окатоличенья. Возврат этих земель в Россию был всеми тогда осознаваем как Воссоединение. Да, больно и позорно вспомнить указы времен Александра II (1863, 1876) о запрете украинского языка в публицистике, а затем и в литературе, но это не продержалось долго, и это было из тех умопомрачных окостенений и в управительной, и в церковной политике, которые подготовляли падение российского государственного строя. Однако и суетно-социалистическая Рада 1917 года составилась соглашением политиков, а не была народно избрана. И когда, переступив от федерации, объявила выход Украины из России — она не опрашивала всенародного мнения. Мне уже пришлось отвечать эмигрантским украинским националистам, которые втверживают Америке, что «коммунизм — это миф, весь мир хотят захватить не коммунисты, а русские» (и вот — «русские» уже захватили Китай и Тибет, так и стоит, уже 30 лет в законе американского Сената). Коммунизм — это такой миф, который и русские, и украинцы испытали на своей шее в застенках ЧК с 1918 года. Такой миф. что выгреб в Поволжьи даже семенное зерно, и отдал 29 русских губерний засухе и вымирательному голоду 1921-22 года. И тот же самый миф предательски затолкал Украину в такой же беспощадный голод 1932-33. И вместе перенеся от коммунистов общую кнуто-расстрельную коллективизацию, неужели мы этими кровными страданиями не соединены? В Австрии и в 1848 галичане еще называли свой национальный совет — «Головна Русска Рада». Но затем в отторгнутой Галиции, при австрийской подтравке, были выращены искаженный украинский ненародный язык, нашпигованный немецкими и польскими словами, и соблазн отучить карпатороссов от русской речи, и соблазн полного всеукраинского сепаратизма, который у вождей нынешней эмиграции прорывается то лубочным невежеством, что Владимир Святой «был украинец», то уже невменяемым накалом: нехай живе коммунизм, абы сгубились москали! Еще бы нам не разделить боль за смертные муки Украины в советское время. Но откуда этот замах: по живому отрубить Украину (и ту, где сроду старой Украины не было, как «Дикое Поле» кочевников — Новороссия, или Крым, Донбасс и чуть не до Каспийского моря). И если «самоопределение нации» — так нация и должна свою судьбу определять сама. Без всенародного голосования — этого не решить. Сегодня отделять Украину — значит резать через миллионы семей и людей: какая перемесь населения; целые области с русским перевесом: сколько людей, затрудняющихся выбрать себе национальность из двух; сколькие — смешанного происхождения; сколько смешанных браков да их никто «смешанными» до их пор не считал. В толще основного населения нет и тени не терпимости между украинцами и русскими. Братья! Не надо этого жестокого раздела! — это помрачение коммунистических лет. Мы вместе перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован — вместе и выберемся. И за два века — какое множество выдающихся имен на пересечении наших двух культур. Как формулировал М. П. Драгоманов: «Неразделимо, но и не смесимо.» С дружелюбием и радостью должен быть 147 распахнут путь украинской и белорусской культуре не только на территории Украины и Белоруссии, но и Великороссии. Никакой насильственной русификации (но и никакой насильственной украинизации, как с конца 20-х годов), кием не стесненное развитие параллельных, культур, и школьные классы на обоих языках, по выбору родителей. Конечно, если б украинский народ действительно пожелал отделиться никто не посмеет удерживать его силой. Но — разнообразна эта обширность, и только местное население может решать судьбу своей местности, своей области, — а каждое новообразуемое при том национальное меньшинство в этой местности — должно встретить такое же ненасилие к себе. Все сказанное полностью относится и к Белоруссии, кроме того, что там не распаляли безоглядного сепаратизма. И еще: поклониться Белоруссии иУкраине мы должны за чернобыльское бедовище, учиненное карьеристами и дураками советской системы, — и исправлять его, чем сможем. СЛОВО К МАЛЫМ НАРОДАМ И НАРОДНОСТЯМ И после всех отделений наше государство все равно, неизбежно, останется многонародным, хотя мы не гонимся за тем. Для некоторых, даже и крупных, наций, как татары, башкиры, удмурты, коми, чуваши, мордва, марийцы, якуты, — почти что и выбора нет: непрактично существовать государству, вкруговую хваченному другим. У иных национальных областей — будет внешняя граница, и если они захотят отделяться — запрета не может быть и здесь. (Да еще и не во всех автономных республиках коренная народность составляет большинство.) Но при сохранении всей их национальной самобытности в культуре, религии, экономике — есть им смысл и остаться в Союзе. Как показало в XX веке создание многих малых государственных образований — это непосильно обременяет их избытком учреждений, представительства, армией, отсекает от пространных территорий разворота торговли и общественной деятельности. Так горские кавказские народы, пред революцией столь отличавшие- я в верности российскому трону, вероятно еще поразмыслят, есть ли расчет им отделяться. Не крупный Российский Союз нуждается в примыкании малых окраинных народов, но они нуждаются в том больше. И — исполать им, если хотят с нами. В советской показной илживой государственной системе присутствуют, однако, и верные, если честно их исполнять, элементы. Таков — Совет Национальностей, палата, где должен быть услышан, не потерян голос и самой наималейшей народности. И вместе с тем справедлива нынешняя иерархия: «союзных республик» — автономных республик — автономных областей — и национальных округов. Численный вес народа не должен быть в пренебрежении, отказываться от этой пропорциональности путь к хаосу; так может прозябать ООН, но не жизнеспособное государство. Крымским татарам, разумеется, надо открыть полный возврат в Крым. Но при плотности населения XXI века Крым вместителен для 8—10 миллионов населения — и стотысячный татарский народ не может себе требовать владения им. И наконец — наималейшие народности: ненцы, пермяки, эвенки, манси, хакасцы, чукчи, коряки... и не перечислить всю дробность. Все они благополучно жили в царской «тюрьме народов», а к вымиранию поволокли их мы, коммунистический Советский Союз. Сколько зла причинила им окаянщина нашей администрации и наша хищная и безмозглая индустрия, неся гибель и отраву их краям, выбивая из-под этих народностей последнюю жизненную основу, особенно тех, чей объем так угрожающе мал, что не дает им бороться за выживание. Надо успеть — подкрепить, оживить и спасти их! Еще не вовсе поздно. Каждый, и самый малый, народ — есть неповторимая грань Божьего замысла. Перелагая христианский завет, Владимир Соловьев написал: «Люби все другие народы, как свой собственный.» XX век содрогается, развращается от политики, освободившей себя от всякой нравственности. Что требуется от любого порядочного человека, от того .освобождены государства и государственные мужи. Пришел крайний час искать более высокие формы государственности, основанные не только на эгоизме, но и на сочувствии. ПРОЦЕСС РАЗДЕЛЕНИЯ Итак, объявить о несомненное праве на полное отделение тех двенадцати республик — надо безотлагательно и твердо. А если какие- то из них заколеблются, отделяться ли им? С той же несомненностью вынуждены объявить о нашем отделении от них — мы, оставшиеся. Это — уже слишком назрело, это необратимо, будет взрываться то там, то сям; все уже видят, что вместе нам не жить. Так не тянуть взаимное обременение. Еще этот мучительный и затратный процесс разделения отяжелит первый переходный период для всех нас, первую пору нового развития: сколько еще нужно средств, средств, когда их и так нет. Однако лишь это разделение прояснит нам прозор будущего. Но самого реального отделения нельзя произвести никакой одноминутной декларацией. Всякое одностороннее резкое действие — это повреждение множества человеческих судеб и взаимный развал хозяйства. И это не должно быть похоже, как бежали португальцы из Анголы, отдав ее беспорядку и многолетней гражданской войне. С этого момента должны засесть за работу комиссии экспертов всех сторон. Не забудем и: как безответственно-небрежна была советская прометка границ. В каких-то местах может понадобиться уточненная, по истинному расселению в каких-то — и местные плебисциты под беспристрастным контролем. 148 Конечно, вся эта разборка может занять несколько лет. Перед миллионами людей встанет тяжелый вопрос: оставаться, где они живут, или уезжать? — а это связано с разорением всей их жизни, быта и нуждою в значительной помощи. (И не только для русских с окраин, но и окраинных уроженцев, живущих ныне в России.) Куда ехать? где новый кров? как дожить до новой работы? Это должно стать не личной бедой, а заботой вот этих комиссий экспертов и государственных компенсаций. И каждое новосозданное государство должно дать четкие гарантии прав меньшинств. И еще сложней: как наладится безболезненная разъемка народных хозяйств или установление торгового обмена и промышленного сотрудничества на независимой основе. И вот только в ходе этой работы и даже лишь по окончании ее перед каждым государственным образованием подымутся его подлинные Проблемы, а не тот заядлый «национальный вопрос», который так натер шею нам теперь, что перекосил все чувства и всю действительность. Из того будущего разительные неожиданности проступают нам и сейчас. Так нетерпеливо жаждет национальной независимости Грузия! (Впрочем, Россия не завоевывала ее насильственно, а только Ленин в 1921.) А вот уже сегодня: притеснение абхазцев, притеснение осетин и недопуск на исконную родину высланных Сталиным месхов, — неужели это и есть желанная национальная свобода? За что б мы ни взялись, над чем бы ни задумались в современной политической жизни — никому из нас не ждать добра, пока наша жестокая воля гонится лишь за нашими интересами, упуская не то что Божью справедливость, но самую умеренную нравственность. НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ РОССИЙСКОГО СОЮЗА За три четверти века так выбедняли мы, засквернели, так устали, так отчаялись, что у многих опускаются руки, и уже кажется: только вмешательство Неба может нас спасти. Но не посылается Чудо тем, кто не силится ему навстречу. И судьба наших детей, и наша воля к жизни, и наше тысячелетнее прошлое, и дух наших предков, перелившийся же как-то в нас, — помогут найти силы преодолеть и это, и это все. И хоть не отпущено нам времени размышлять о лучших путях развития и составлять размеренную программу, и обречены мы колотиться, метаться, затыкать пробоины, обтесняют нас первосущные нужды, вопиющие каждая о своем, о своем, — не должны мы терять хладнокровия и предусмотрительной мудрости в выборе первых мер. Я не берусь в одиночку перечислять их: должны сойтись на совет здравые практические умы, на сотрудничество — лучшие энергии. Рыдает все в нашем сегодняшнем хозяйстве, и надо искать ему путь, без этого жить нельзя. И надо же скорей открыть людям трудовой смысл, ведь уже полвека никому нет никакого расчета работать! и некому хлеб выращивать, и некому за скотом ходить. И миллионы обитают так, что и жилищами назвать нельзя, или по двадцать лет в гнойных общежитиях. И нищенствуют все старики и инвалиды. И загажены наши дивные когда-то просторы промышленными свалками, изрыты чудовищным бездорожьем. И мстит природа, неблагодарно презренная нами, и расползаются радиоактивные пятна Чернобыля, да не только его. "И ко всему теперь вот — готовить переселение соотечественникам, теряющим жительство? Да, неизбежно. И — откуда же набрать средств? А до каких же пор мы будем снабжать и крепить — неспособные держаться тиранические режимы, насаженные нами в разных концах Земли, — этих бездонных расхитчиков нашего достояния? — Кубу, Вьетнам, Эфиопию, Анголу, Северную Корею, нам же — до всего дело! и это еще не все названы еще тысячами околачиваются наши «советники», где ни поп столько крови пролито в Афганистане — жалко и его упускать? гони деньги и туда?.. Это все — десятки миллиардов в год. Вот кто на это даст отрубный единомгновенный отказ - вот это будет государственный муж и патриот. А до каких пор и зачем нам выдувать все новые, новы наступательного оружия? да всеокеанский военный флот нету захватывать? А это все — уже сотни миллиардов. И это тоже надо отрубить — в одночас. Может подожди Космос. А еще—льготное снабжение Восточной Европы наш все страдательным сырьем. Пожили «социалистическим лагерем — и хватит. За страны Восточной Европы — радуемся, и пусть живут и цветут свободно, — а платят за все по мировым. И этого мало? Так пресечь безоглядные капитальные вложения в промышленность, не успевающие ожить. Наконец — необозримое имущество КПСС, об этом уже все говорят. Награбили народного добра за 70 лет, попользовались. Конечно, уже не вернут ничего растраченного, разброс расхищенного, — но отдайте хоть что осталось: здания, санатории, и специальные фермы, и издательства, — и живите на свои членские взносы. (И за чисто партийный стаж — платите и пенсии сами, не от государства.) И всю номенклатурную бюрократию, многомиллионный тунеядный управительный аппарат, костенящий всю народную жизнь, — с их высокими зарплатами, поблажками да специальными магазинами, — кончаем кормить! Пусть идут на полезный труд, и сколько выручат. При новом порядке жизни четыре пятых министерств и комитетов тоже не станут нужны. Вот отовсюду от этого — и деньги. А на что ушло пять, скоро шесть лет многошумной « перестройки»? На жалкие внутрицекашные перестановки. На склепку уродливой искусственной избирательной системы, чтобы только компартии не упустить власть. На оплошные, путаные и нерешительные законы. 149 Нет, не откроется народного пути даже к самому неотложному, и ничего дельного мы не достигнем, пока коммунистическая ленинская партия не просто уступит пункт конституции но полностью устранится от всякого влияния на экономическую и государственную жизнь, полностью уйдет от управления нами, даже какой-то отраслью нашей жизни или местностью. Хотелось бы, чтоб это произошло не силовым выжиманием вышибанием ее — но ее собственным публичным раскаянием что цепью преступлений, жестокостей и бессмыслия она завела страну в пропасть и не знает путей выхода. Вот чему пора а не состраивать теперь для позорной преемственности новую РКП, принимать всю кровь и грязь на русское имя и волочиться против хода истории. Такое публичное признание партией своей вины, преступности и беспомощности стало бы хоть первым разрежением нашей густо-гнетущей моральной атмосферы. А еще высится над нами — гранитная громада КГБ, и тоже не пускает нас в будущее. Прозрачны их уловки, что именно сейчас они особенно нужны — для международной разведи. Все видят, что как раз наоборот. Вся цель их — существовать для себя, и подавлять всякое движение в народе. Этому ЧКГБ с его кровавой 70-летней злодейской историей — нет уже ни оправдания, ни права на существование. ЗЕМЛЯ Для чего-то же дано земле — чудесное, благословенное свойство плодоносить. И — потеряны те скопления людей, кто не способен взять от нее это свойство. Земля для человека содержит в себе не только хозяйственное значение, но и нравственное. Об этом убедительно писали у нас Глеб Успенский, Достоевский, да не только они. Ослабление тяги к земле — большая опасность для народного характера. А ныне крестьянское чувство так забито и вытравлено в нашем народе, что, может быть, его уже и не воскресить, опоздано-перепоздано. Как вводится сегодняшняя аренда — больше обман и издевательство, ни толку ни ряду, только хуже погубят охоту у людей, потянувшихся к земле. Арендаторы остаются в гнущей зависимости от колхозносовхозных властей, и те могут вволю беззаконствовать. Под аренду выделяются часто худшие, заброшенные земли, и подороже берут за них, и инвентарь по завышенной цене, а продукцию вынуждают сдавать подешевле; то не дают обещанных кормов, то отбирают взятых на откорм животных, пропали и труд, и деньги; и «сельхозтехника» может внезапно нарушить договор. Да участок земли — это еще не свобода крестьянина, нужен же и свободный рынок, и доступный транспорт, и кредит, и ремонт техники, и строительный материал. За все реформы мы беремся как похуже — так и тут. Только рубят дело и отбивают у людей последнюю веру в обещания власти. Вообще по сравнению с колхозами — личная аренда (и не от колхозов, а от местного самоуправления) несомненный шаг к улучшению нашего сельского хозяйства. В норме, установленной для данной местности (в соответствии с кадастром), — аренда пожизненная и с неограниченной передачей по наследству; с отобранием участка лишь в случае небрежного землеуходства, но не от болезни семьи арендатора; с правом добровольного отказа от участка — и в этом случае оплатой арендатору того, что он вложил в землю и возвел на ней. (И для всего этого. совсем не нужен специальный административный аппарат над арендаторами: подобные случаи не будут многочисленны, и с ними управится местное земство.) Однако при нынешней нашей отвычке от земли (и оправданном недоверии к властям, уже столько раз обманывавшим) — арендой, может быть, уже людей и не привлечь. К тому ж, земельная аренда и не выдерживает экономической конкуренции с частной собственностью на землю, при которой и гарантировано длительное улучшение земли, а не истощение, и только при ней мы можем рассчитывать, что наше сельское хозяйство не будет уступать западному. И предвидя и требуя самодеятельности во всех областях жизни — как же не допустить ее с землей? Отказать деревне в частной собственности — значит закрыть ее уже навсегда. Но введение ее должно идти с осторожностью. Уже при Столыпине были строгие ограничения, чтобы земля попадала именно в руки крестьян- земледельцев, а не крупных спекулянтов или на подставные имена, через «акционерные общества». А сегодня искоренено наше крестьянское сословие, вымерло; и больше развязанной ловкости у анонимных спекулянтов из теневой экономики, уже накопивших первичные капиталы; и нынешняя подкупная администрация не способна на четкий контроль, — сегодня, под маркой же «акционерных обществ», «организаций», «кооперативов», могли бы скупать едва ли не латифундии и затем сажать арендаторов уже от себя. (Не говоря уже о покупке земли иностранцами.) Такие покупки во всяком случае не должны быть допущены. Если земля окажется расхватана крупными владельцами — это сильно стеснит жизнь остальных. (Да и не можем мы такое допустить в предвидении близкого перенаселения всей планеты, тогда и нашей страны.) Покупка земли должна производиться со льготами многолетней рассрочки, и в налогах тоже. Ограничение земельного участка предельными (для данной местности) размерами — само по себе никак не стесняет трудового смысла и трудовой свободы. Напротив: усилия каждого хозяина будут направлены не на широту владения, а на улучшение обработки, интенсивность методов. Что наши люди могут при этом — и в самых изнудительно-враждебных стеснениях от власти творить чудеса, уже показано на крохотных приусадебных клочках, кормивших страну при дутой колхозной системе. Ограничение размеров оставляет земельные резервы для раздачи малых участков земли — и рабочим, желающим иметь свой огородный урожай, и горожанам, ищущим отдушину от закупоренной жизни. И эта раздача — должна быть бесплатной (только бы обрабатывали!); этот же размер входил бы бесплатной частью и земледельцам, покупающим землю. И для всех них — земля должна найтись. 150 ХОЗЯЙСТВО Столыпин говорил: нельзя создать правового государства, не имея прежде независимого гражданина: социальный порядок первичней и раньше всяких политических программ. А — независимого гражданина не может быть без частной собственности. За 70 лет в наши мозги втравили бояться собственности и чураться наемного труда как нечистой силы — это большая победа Идеологии над нашей человеческой сущностью. (Как и весь облик западной экономики внедряли в наши мозги карикатурно.) Но обладание умеренной собственностью, не подавляющей других, — входит в понятие личности, дает ей устояние. А добросовестно выполненный и справедливо оплаченный наемный труд — есть форма взаимопомощи людей и ведет к доброжелательности между ними. И зачем нам еще цепляться за централизованную холостую, идеологически «регулируемую» экономику, приведшую всю страну к нищете? — только чтобы содержать паразитический аппарат, иначе ему не останется и последнего оправдания? Конечно, тот удар, который испытают миллионы неготовых непривычных людей от перехода к рыночной экономике, должен быть предельно смягчен. К счастью (к несчастью!) у нас есть для этого тот многомногомиллиардный валютный отток бюджета, только что перечислено, на что мы его распропащаем. Скоро шесть лет — а шумливая «перестройка» еще ведь и не коснулась целебным движением ни сельского хозяйства, ни промышленности. А ведь эта растяжка — это годы страданья людей, вычеркиваемые из жизни. Но и перенимать бездумным перехватом чужой тип экономики, складывавшийся там веками и по стадиям, — тоже разрушительно. Я не имею экономических знаний и менее всего отваживаюсь тут на точные предложения. Какой именно процедурой возможен переход от сплошь государственных предприятий к частным и кооперативным; какие тут финансовые условия должны быть предусмотрены; что именно из нынешнего государственного имущества останется в руках государства, в том числе из транспорта, флота, лесов, вод, земель, недр, а в какой доле они должны быть уступлены ведению областному и местному; на чьем бюджете будет социальное обеспечение, образование, жилищное строительство; какие потребуются новые трудовые законы, — о том есть уже много конкретных разработок у экономистов, хотя друг с другом и сильно несогласных. Но в общем виде мне кажется ясным, что надо дать простор здоровой частной инициативе и поддерживать и защищать все виды мелких предприятий, на них-то скорей всего и расцветут местности, — однако твердо ограничить законами возможность безудержной концентрации капитала, ни в какой отрасли не дать создаваться монополиям, контролю одних предприятий над другими. Монополизация грозит ухудшением товаров фирма может позволить себе, чтобы спрос не угасал, выпускать изделия недолговечные. Веками гордость фирм и владельцев вещей была неизносность товаров, ныне (на Западе) — оглушающая вереница все новых, новых кричащих моделей, а здоровое понятие ремонта — исчезает: едва подпорченная вещь вынужденно выбрасывается и покупается новая, — прямо напротив человеческому чувству самоограничения, прямой разврат. К этому надо добавить еще и психологическую чуму роста цен — это в развитых-то странах: при росте производительности труда — цены не падают, а растут! пожирающее экономическое пламя, а не прогресс. (Старая Россия по веку жила с неизменными ценами.) Нельзя допустить напор собственности и корысти — до социального зла, разрушающего здоровье общества. Противомонопольным законодательством необходимо в пределах любого вида производства регулировать непомерный рост сильно укрупненными налогами. Банки — нужны как оперативные центры финансовой жизни, но — не дать им превратиться в ростовщические наросты и стать негласными хозяевами всей жизни. Так же в общем виде кажется ясным, что ценою нашего выхода из коммунизма не должна быть кабальная раздача иностранным капиталистам ни наших недр, ни поверхности нашей земли, ни, особенно, — лесов. Это опаснейшая идея: что загублено нашим внутренним беспорядьем — теперь пытаться спасать через иностранный капитал. Он будет литься к нам тогда, когда обнаружит у нас для себя высокую прибыльность. Но не заманивать к нам западный капитал на условиях, льготных для него и унизительных для нас, только придите и володейте нами, — этой расторговли потом не исправить, обратимся в колонию. (Хотя: за советские три четверти века мы и скатились на уровень колонии, а какой же иной?..) Допускать его — в твердом русле: чтобы вносимое им экономическое оживление не превышалось ни уносимой прибылью, ни разорением нашей природной среды. Тогда и мы ускорим наше качественное выравнивание с развитыми странами. Но — не окончательно же забиты и забыты трудовые свойства нашего народа. Видим мы, как японцы вышли из падения и даже взнеслись не иностранными вливаниями, а своей высокой трудовой моралью. Как только снимется государственный гнет над каждым нашим действием и оплата станет справедливой — сразу поднимется качество труда и повсюду засверкают наши умельцы. Если и нескоро мы достигнем такого уровня, чтоб наши товары имели международный спрос, — то для страны нашего размера и богатства возможно немалое время обходиться и внутренним рынком. Однако никакая нормальная хозяйственная жизнь, разумеется, несовместима с нынешней рабской милицейской «пропиской». Надо нам научиться уважать (и отличать от хищничества, на взятках, в обокрад управленческой рухляди) — здоровую, честную, умную частную торговлю: она — живит и скрепляет общество, она нужна нам из первых. Я вовсе не берусь высказывать предположений по вопросам финансовым, бюджетным и налоговым. Но ясно, что наряду со строгим природоохранным надзором и ощутимыми штрафами за порчу окружающей 151 среды — должны финансово поощряться все природоустроительные усилия и восстановление традиционных производственных ремесел. ПРОВИНЦИЯ Станет или не станет когда-нибудь наша страна цветущей — решительно зависит не от Москвы, Петрограда, Киева, Минска,— а от провинции. Ключ к жизнеспособности страны и к живости ее культуры в том, чтоб освободить провинцию от давления столиц, и сами столицы, эти болезненные гиганты, освободились бы от искусственного переотягощения своим объемом и необозримостью своих функций, что лишает и их нормальной жизни. Да они не сохранили и нравственных оснований подменять собой возрожденье страны, после того как провинция на 60 лет была отдана голоду, унижениям и ничтожности. Вся провинция, все просторы Российского Союза вдобавок к сильному (и все растущему по весу) самоуправлению должны получить полную свободу хозяйственного и культурного дыхания. Наша родина не может жить самоценно иначе, как если укрепятся, скажем, сорок таких рассеянных по ее раскинутости жизненных и световых центров для своих краев, каждый из них — средоточие экономической деятельности и культуры, образования, самодостаточных библиотек, издательств, так чтобы все окружное население могло бы получать полноценное культурное питание, и окружная молодежь для своего обучения и роста — все не ниже качеством, чем в столицах. Только так может соразмерно развиваться большая страна. Вокруг каждого из таких сорока городов — выникнет из обморока и самобытность окружного края. Только при таком рассредоточении жизни начнут повсюду восстанавливаться загубленные и строиться новые местные дороги, и городки, и села вокруг. И это особенно важно — для необъятной Великой Сибири, которую мы с первых же пятилеток ослепленно безумно калечили вместо благоденственного развития. И здесь, как и во многом, наш путь выздоровления — с низов. СЕМЬЯ И ШКОЛА Хотя неотложно все, откуда гибель сегодня, — а еще неотложней закладка долгорастущего: за эти годы нашего кругового наверстывания — что будет тем временем созревать в наших детях? от детской медицины, раннего выращивания детей — и до образования? Ведь если этого не поправить сейчас же, то и никакого будущего у нас не будет. О многобедственном положении женщины у нас — знают все, и все уже говорят, тут нет разнотолковщины, и нечего доказывать. И о падении рождаемости, о детской смертности, и о болезненности рожденных, об ужасающем состоянии родильных домов, ясель и детских садов. Нормальная семья — у нас почти перестает существовать. А болезнь семьи — это становая болезнь и для государства. Сегодня семья — основное звено спасения нашего будущего. Женщина — должна иметь возможность вернуться в семью для воспитания детей, таков должен быть мужской заработок. (Хотя при ожидаемой безработице первого времени это не удастся так прямо: иная семья и рада будет, что хоть женщина сохранила пока работу.) И такая ж неотсрочная наша забота — школа. Сколько мы выдуривались над ней за 70 лет! — но редко в какие годы она выпускала у нас знающих, и то лишь по доле предметов, да и таких-то — только в отобранных школах крупных городов, а Ломоносову провинциальному, а тем более деревенскому — сегодня никак бы не появиться, не пробиться, такому — нет путей (да прежде всего — «прописка»). Подъятие школ должно произойти не только в лучших столичных, но — упорным движением от нижайшего уровня и на всех просторах родины. Эта задача — никак не отложнее всех наших экономических. Школа наша давно плохо учит и дурно воспитывает. И недопустимо, чтобы должность классного воспитателя была почти не оплаченным добавочным бременем: она должна быть возмещена уменьшением требуемой с него учебной нагрузки. Нынешние программы и учебники по гуманитарным наукам все обречены если не на выброс, то на полнейшую переработку. И атеистическое вдалбливание должно быть прекращено немедленно. А начинать-то надо еще и не с детей — ас учителей, ведь мы их-то всех забросили за край прозябания, в нищету; из мужчин, кто мог, ушли с учительства на лучшие заработки. А ведь школьные учителя должны быть отборной частью нации, призванные к тому: им вручается все наше будущее. (А — в каких институтах мы учили нынешних, и какой идеологической дребедени? Начинать менять, спасать истинные знания надо с программ институтских.) В скором будущем надо ждать, очевидно, и частных платных школ, обгоняющих общий подъем всей школы, — для усиления отдельных предметов и сторон образования. Но в тех школах не должно быть безответственного самовольства программ, они должны находиться под наблюдением и контролем земских органов образования. Упущенная и семьей и школой, наша молодежь растет если не в сторону преступности, то в сторону неосмысленного варварского подражания чему-то, заманчивому исчужа. Исторический Железный Занавес отлично защищал нашу страну ото всего хорошего, что есть на Западе: от гражданской нестесненности, уважения к личности, разнообразия личной деятельности, от всеобщего благосостояния, от благотворительных движений, — но тот Занавес не доходил до самого- самого низу, и туда подтекала навозная жижа распущенной опустившейся «поп-масс- культуры», вульгарнейших мод и издержек публичности, — и вот эти отбросы жадно впитывала наша обделенная молодежь: западная — дурит от сытости, а наша в нищете бездумно перехватывает их забавы. И наше нынешнее телевидение услужливо разносит те нечистые потоки по всей стране. (Возражения против всего этого считаются у нас дремучим консерватизмом. Но поучительно 152 заметить, как о сходном явлении звучат тревожные голоса в Израиле: «Ивритская культурная революция была совершена не для того, чтобы наша страна капитулировала перед американским культурным империализмом и его побочными продуктами», «западным интеллектуальным мусором».) Уже все известно, писалось не раз: что гибнут книжные богатства наших библиотек, полупустуют читальни, в забросе музеи. Они-то все нуждаются в государственной помощи, они не могут жить за счет кассовых сборов, как театры, кино и художественные выставки. (А вот спорт, да в расчете на всемирную славу, никак не должен финансироваться государством, но сколько сами соберут; а рядовое гимнастико-атлетическое развитие дается в школе.) ВСЕ ЛИ ДЕЛО В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОЕ Приходится признать: весь XX век жестоко проигран нашей страной; достижения, о которых трубили, все — мнимые. Из цветущего состояния мы отброшены в полудикарство. Мы сидим на разорище. Сегодня у нас горячо обсуждается: какое государственное устройство нам отныне подходит, а какое нет, — а этим, мол, все и решится. И еще: какая б новая хлесткая партия или «фронт» нас бы теперь повели к успехам. Но сегодня воспрять — это не просто найти удобнейшую форму государственного строя и скороспешно сочинить к нему замечательную конституцию, параграф 1-й, параграф 45-й. Надо оказаться предусмотрительней наших незадачливых дедов- отцов Семнадцатого года, не повторить хаос исторического Февраля, не оказаться снова игрушкой заманных лозунгов и захлебчивых ораторов, не отдаться еще раз добровольно на посрамление. Решительная смена властей требует ответственности и обдуманья. Не всякая новозатейщина обязательно ведет прямо к добру. Наши несравненные в 1916 году критики государственной системы — через несколько месяцев, в 1917, получив власть, оказались совсем неготовы к ней и все загубили. Ни из чего не следует, что новоприходящие теперь руководители окажутся сразу трезвы и прозорливы. Вот, победительный критик гнусной Системы (как он назвал ее из обходливой осторожности), едва избравшись к практическому делу, тут же и проявил нечувствие по отношению к родине, питающей столицу. Москва уже 60 лет кормится за счет голодной страны, с начала 30-х годов она молчаливо пошла на подкуп от властей, разделить преимущества, и оттого стала как бы льготным островом, с другими материальными и культурными условиями, нежели остальная коренная Россия. Оттого переменилась и психология московской имеющей голос публики, она десятилетиями не выражала истинных болей страны. Вот, в кипении митингов и нарождающихся партиек мы не замечаем, как натянули на себя балаганные одежды Февраля — тех злоключных восьми месяцев Семнадцатого года. А иные как раз заметили и с незрячим упоением восклицают: «Новая Февральская революция!» (Для точности совпадения высунулись уже и черные знамена анархистов.) После людожорской полосы в три четверти века, если мы уже так дорого заплатили, если уж так сложилось, что мы оказались на том краю государственного спектра, где столь сильна центральная власть, — не следует нам спешить опрометчиво сдвигаться в хаос: анархия — это первая гибель, как нас научил 1917 год. Государству, если мы не жаждем революции, неизбежно быть плавно-преемственным и устойчивым. И вот уже созданный статут потенциально сильной президентской власти нам еще на немалые годы окажется полезным. При нынешнем скоплении наших бед, еще так осложненном и неизбежным разделением с окраинными республиками, невозможно нам сразу браться решать вместе с землей, питанием, жильем, собственностью, финансами, армией — еще и государственное устройство тут же. Что-то в нынешнем государственном строе приходится пока принять просто потому, что оно уже существует. Конечно, постепенно мы будем пересоставлять государственный организм. Это надо начинать не все сразу, а с какого-то краю. И ясно, что: снизу, с мест. При сильной центральной власти терпеливо и настойчиво расширять права местной жизни. Конечно, какая-то определенная политическая форма постепенно будет нами принята, — по нашей полной политической неопытности скорей всего не сразу удачная, не сразу наиболее приспособленная к потребностям именно нашей страны. Надо искать свой путь. Сейчас у нас самовнушение, что нам никакого собственного пути искать не надо, ни над чем задумываться, а только поскорей перенять, «как делается на Западе». Но на Западе делается — еще ой как по-разному! у каждой страны своя традиция. Только нам одним — не нужно ни оглядываться, ни прислушиваться, что говорили у нас умные люди еще до нашего рождения. А скажем и так: государственное устройство — второстепеннее самого воздуха человеческих отношений. При людском благородстве — допустим любой добропорядочный строй, при людском озлоблении и шкурничестве — невыносима и самая разливистая демократия. Если в самих людях нет справедливости и честности — то это проявится при любом строе. Источник силы или бессилия общества — духовный уровень жизни, а уже потом — уровень промышленности. Одна рыночная экономика и даже всеобщее изобилие — не могут быть венцом человечества. Чистота общественных отношений — основа. Политическая жизнь — совсем не главный вид жизни человека, политика — совсем не желанное занятие для большинства. Чем размашистей идет в стране политическая жизнь — тем более утрачивается душевная. Политика не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа. Кроме прав человек нуждается отстоять и душу, освободить ее для жизни ума и чувств. 153 А САМИ-ТО МЫ – КАКОВЫ? Источник силы или бессилия общества — духовный уровень жизни, а уже потом — уровень промышленности. Одна рыночная экономика и даже всеобщее изобилие — не могут быть венцом человечества. Чистота общественных отношений — основней, чем уровень изобилия. Если в нации иссякли духовные силы — никакое наилучшее государственное устройство и никакое промышленное развитие не спасет ее от смерти, с гнилым дуплом дерево не стоит. Среди всех возможных свобод — на первое место все равно выйдет свобода бессовестности: ее-то не запретишь, не предусмотришь никакими законами. Чистая атмосфера общества, увы, не может быть создана юридическими законами. Разрушение наших душ за три четверти столетия — вот что самое страшное. Страшно то, что развращенный правящий класс — многомиллионная партийно-государственная номенклатура — ведь не способна добровольно отказаться ни от какой из захваченных привилегий. Десятилетиями она бессовестно жила за счет народа — и хотела б и дальше так. А из бывших палачей и гонителей — кто хоть потеснен с должностей? с незаслуженного пенсионного достатка? До смерти кохали мы Молотова, еще и теперь Кагановича, и сколько неназванных. В Германии — всех таких, и куда мельче, судили, — у нас, напротив, они же сегодня грозят судами, а иным — сегодня! — ставят памятники, как злодею-чекисту Берзину. Да где уж нам наказывать государственных преступников? да не дождаться от них и самого малого раскаяния. Да хоть бы они прошли через публичный моральный суд. Нет, видно поползем и так... А — славные движущие силы гласности и перестройки? В ряду этих модных слов — нет слова очищение. И вот в новую гласность кинулись и все грязные уста, которые десятилетиями обслуживали тоталитаризм. Из каждых четырех трубадуров сегодняшней гласности — трое недавних угодников брежневщины, — и кто из них произнес слово собственного раскаяния вместо проклятий безликому «застою»? И с вузовских гуманитарных кафедр поныне самоуверенно вещают все те же, кто десятилетиями оморачивал студентам сознание. Десятки тысяч образованцев у нас огрязнены лицемерием, переметчивостью, — и мы ни от кого не ждем раскаяния, и весь этот душевный гной пусть так и тянется с нами в будущее? А — душетлительная казарменная «дедовщина» для наших сыновей? Разве это изгладится когда-нибудь с них? А всеобщая озлобленность наших людей друг ко другу? — просто так, ни за что. На тех, кто ни в чем не виноват. Да удивляться ли и взрыву уголовной преступности — среди тех, кому всю их молодую жизнь были закрыты честные пути? У прежних русских купцов было купеческое слово (сделки заключались без письменных контрактов), христианские представления, исторически известная размашная благотворительность, — дождемся ли мы такого от акул, взращенных в мутном советском подводьи? Западную Германию наполнило облако раскаяния — прежде, чем там наступил экономический расцвет. У нас — и не начали раскаиваться. У нас надо всею гласностью нависают гирляндами — прежние тяжелые жирные гроздья лжи. А мы их — как будто не замечаем. Криво ж будет наше развитие. Хотелось бы подбодриться благодетельными возможностями Церкви. Увы, даже сегодня, когда уже все в. стране пришло в движение — оживление смелости мало коснулось православной иерархии. (И во дни всеобщей нищеты надо же отказаться от признаков богатства, которыми соблазняет власть.) Только тогда Церковь поможет нам в общественном оздоровлении, когда найдет в себе силы полностью освободиться от ига государства и восстановить ту живую связь с общенародным чувством, какая так ярко светилась даже и в разгаре Семнадцатого года при выборах митрополитов Тихона и Вениамина, при созыве Церковного Собора. Явить бы и теперь, по завету Христа, пример бесстрашия — и не только к государству, но и к обществу, и к жгучим бедам дня, и к себе самой. Воскресительные движения и тут, как во всей остальной жизни, ожидаются — и уже начались — снизу, от рядового священства, от сплоченных приходов, от самоотверженных прихожан. САМООГРАНИЧЕНИЕ Самый модный лозунг теперь, и мы все охотно повторяем: «права человека». (Хотя очень разное все имеем в виду. Столичная интеллигенция понимает: свобода слова, печати, собраний и эмиграции, но многие возмущены были бы и требовали бы запретить «права», как их понимает чернонародье: право иметь жилище и работать в том месте, где кормят, — отчего хлынули бы миллионы в столичные города.) «Права человека» — это очень хорошо, но как бы нам самим следить, чтобы наши права не поширялись за счет прав других? Общество необузданных прав не может устоять в испытаниях. Если мы не хотим над собой насильственной власти — каждый должен обуздывать и сам себя. Никакие конституции, законы и голосования сами по себе не сбалансируют общества, ибо людям свойственно настойчиво преследовать свои интересы. Большинство, если имеет власть расширяться и хватать — то именно так и делает. (Это и губило все правящие классы и группы истории.) Устойчивое общество может быть достигнуто не на равенстве сопротивлений — но на сознательном самоограничении: на том, что мы всегда обязаны уступать нравственной справедливости. Только при самоограничении сможет дальше существовать все умножающееся и уплотняющееся человечество. И ни к чему было все долгое развитие его, если не проникнуться духом самоограничения: свобода хватать и насыщаться есть и у животных. Человеческая же свобода включает добровольное самоограничение в пользу других. Наши обязательства всегда должны превышать предоставленную нам свободу. 154 Только бы удалось — освоить нам дух самоограничения и, главное, уметь передать его своим детям. Больше-то всего самоограничение и нужно для самого человека, для равновесия и невзмутности его души. И тут — много внутренних возможностей. Например, после нашего долгого глухого неведения — естественен голод: узнавать и узнавать правду, что же именно было с нами. Но иные уже сейчас замечают, другие заметят вскоре, что сверх того непосильный современный поток уже избыточной и мелочной информации расхищает нашу душу в ничтожность, и на каком-то рубеже надо самоограничиться от него. В сегодняшнем мире — все больше разных газет, и каждая из них все пухлей, и все наперебой лезут перегрузить нас. Все больше каналов телепередач, да еще и днем (а вот в Исландии — отказались от всякого телевидения хоть раз в неделю): все больше пропагандистского, коммерческого и развлекательного звука (нашу страну еще и поселе измождают долбящие радиодинамики над просторами), — да как же защитить право наших ушей на тишину, право наших глаз — на внутреннее видение? Размеренный выход из полосы наших несчастий, который Россия сумеет или не сумеет теперь осуществить, — трудней, чем было встряхнуться от татарского ига: тогда не был сокрушен самый хребет народа, и не была подорвана в нем христианская вера. В 1754 году, при Елизавете, Петр Иванович Шувалов предложил такой удивительный — Проект сбережения народа. Вот чудак? А ведь — вот где государственная мудрость. ПОДАЛЬШЕ ВПЕРЕД Нельзя надеяться, что после нынешнего смутного времени наступит некое «спокойное», когда мы «сядем и подумаем», как устраивать будущее. Исторический процесс — непрерывен, и таких льготных передышек нам никто «потом» не даст, как не дали «сесть и подумать» Учредительному Собранию. И как ни жжет сегодняшнее — о нашем будущем устройстве все же надо думать загодя. (Мне же — и возраст мой не дает уверенности, что я еще буду участвовать в обсуждении этих вопросов.) До революции народ наш в массе не имел политических представлений — а то, что за тем пропагандно вбивали в нас 70 лет, вело лишь к одурению. Сейчас, когда мы двинулись к развитию у нас политической жизни, уже обсуждаются и формы будущей власти, — полезно, чтоб избежать возможных ошибок, уточнить содержание некоторых терминов (власть каждого сильного над каждым слабым); и не попасться снова в капкан тоталитаризма, изобретенного в XX веке; то нельзя сказать, чтоб у нас был широкий выбор: по всему потоку современности мы изберем несомненно демократию. О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ Освальд Шпенглер верно указывал, что в разных культурах даже сам смысл государства разный и нет определившихся «лучших» государственных форм, которые следовало бы заимствовать из одной великой культуры в другую. А Монтескье: что каждому пространственному размеру государства соответствует определенная форма правления и нельзя безнаказанно переносить форму, не сообразуясь с размерами страны. Для данного народа, с его географией, с его прожитой историей, традициями, психологическим обликом, — установить такой строй, который вел бы его не к вырождению, а к расцвету. Государственная структура должна непременно учитывать традиции народа. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему.» (Иерем. 6, 16). Народ имеет несомненное право на власть, но хочет народ — не власти (жажда ее свойственна лишь процентам двум), а хочет прежде всего устойчивого порядка. Даже христианский социалист Г. П. Федотов после опыта 1917 года настаивал, что власть должна быть сильной и даже, писал он: не зависеть от совета законодателей и отчитываться перед ним лишь после достаточного срока. (Это, пожалуй, уже и слишком.) Если избрать предлагаемый далее порядок построения институтов свободы снизу, при временном сохранении центральной власти в тех формальных чертах, как она уже существует, — то это займет у нас ряд лет, и еще будет время основательно обсудить здоровые правила государственного построения. О будущем сегодня можно высказываться лишь предположительно, оставляя простор для нашего предстоящего опыта и новых размышлений. Окончательная государственная форма (если она вообще может быть окончательной) — дело последовательных приближений и проб. Платон, за ним Аристотель выделили и назвали три возможных вида государственного устройства. Это, в нормальном ряду: монархия, власть одного; аристократия, власть лучших или для лучших целей; и политейя, власть народа в малом государстве- полисе, осуществляемая в общем интересе (мы теперь говорим — демократия). Они же предупредили о формах деградации каждого из этих видов, соответственно: в тиранию; в олигархию; в демократию, власть толпы (мы теперь говорим — в охлократию). Все три формы могут быть хороши, если они правят для общественного блага, — и все три искажаются, когда преследуют частные интересы. С тех пор, кажется, никто и не создал практически ничего, что не вошло бы в эту схему, лишь дополняли ее формами конституций. И если обмануть еще полное безвластие – анархию… Но выбирая демократию — надо отчетливо понимать, что именно мы выбираем и за какую цену. И выбираем как средство, а не как цель. Современный философ Карл Поппер сказал: демократию мы выбираем не потому, что она изобилует добродетелями, а только чтоб избежать тирании. Выбираем — с сознанием ее недостатков и поиском, как их преодолевать. 155 Хотя в наше время многие молодые страны, едва вводя демократию, тут же испытывали и крах — именно в наше время демократия из формы государственного устройства возвысилась как бы в универсальный принцип человеческого существования, почти в культ. Постараемся все же уследить точный смысл термина. ЧТО ЕСТЬ ДЕМОКРАТИЯ И ЧТО НЕ ЕСТЬ Алексис Токвиль считал понятия демократии и свободы — противоположными. Он был пламенный сторонник свободы, но отнюдь не демократии. Дж. С. Милль видел в неограниченной демократии опасность «тирании большинства», а для личности нет разницы, подчинилась ли она одиночному тирану или множественному. Г. Федотов писал, что демократию исказил атеистический материализм XIX века, обезглавивший человечество. И австрийский государственный деятель нашего века Иозеф Шумпетер называл демократию — суррогатом веры для интеллектуала, лишенного религии. И предупреждал, что нельзя рассматривать демократию вне страны и времени применения. Русский философ С. А. Левицкий предлагал различать: дух демократии: 1) свобода личности; 2) правовое государство; и вторичные, необязательные признаки ее: 1) парламентский строй; 2) всеобщее избирательное право. Эти два последние принципа совсем не очевидны. Уважение к человеческой личности — более широкий принцип, чем демократия, и вот оно должно быть выдержано непременно. Но уважать человеческую личность не обязательно в форме только парламентаризма. Однако и права личности не должны быть взнесены так высоко, чтобы заслонить права общества. Папа Иоанн-Павел I! высказал (1981, речь на Филиппинах), что в случае конфликта национальной безопасности и прав человека приоритет должен бьггь отдан национальной безопасности, то есть целости более общей структуры, без которой развалится и жизнь личностей. А президент Рональд Рейган (1988, речь в Московском университете) выразил так: демократия — не столько способ правления, сколько способ ограничить правительство, чтоб оно не мешало развитию в человеке главных ценностей, которые дают семья и вера. У нас сегодня слово «демократия» — самое модное. Как его склоняют, как им не звенят, гремят (и спекулируют). Но не ощутимо, чтобы мы хорошо задумались над точным смыслом его. 318 После горького опыта Семнадцатого года, когда мы с размаху хлюпнулись в то, что считали демократией, — наш видный кадетский лидер В. А. Маклаков признал, и всем нам напомнил: «Для демократии нужна известная политическая дисциплина народа.» А у нас ее и в Семнадцатом не было — и нынче как бы того не меньше. ВСЕОБЩЕЕ – РАВНОЕ – ПРЯМОЕ – ТАЙНОЕ Когда в 1937 Сталин вводил наши мартышечьи «выборы» — вынужден был и он придать им вид всеобщего-равного-прямого-тайного голосования («четыреххвостки»), — порядок, который в сегодняшнем мире кажется несомненным как всеобщий закон природы. Между тем, и после первой Французской революции (конституция 1791 г.) голосование еще не было таковым: оставались ограничения и неравенства в разных цензах. Идея всеобщего избирательного права победила во Франции только в революцию 1848. В Англии весь XIX век находились видные борцы за «конституционный порядок» — такой, который бы обеспечивал, чтобы никакое большинство не было тираном над меньшинством, чтобы в парламенте было представлено все разнообразие слоев общества, кто пользуется уважением и сознает ответственность перед страной, — это была задача сохранить устои страны, на которых она выросла. С 1918 сползла ко всеобщему избирательному и Англия. Достоевский считал всеобщее-равное голосование «самым нелепым изобретением XIX века». Во всяком случае, оно — не закон Ньютона, и в свойствах его разрешительно и усумниться. «Всеобщее и равное» — при крайнем неравенстве личностей, их способностей, их вклада в общественную жизнь, разном возрасте, разном жизненном опыте, разной степени укорененности в этой местности и в этой стране? То есть — торжество бессодержательного количества над содержательным качеством. И еще, такие выборы («общегражданские») предполагают неструктурность нации: что она есть не живой организм, а механическая совокупность рассыпанных единиц. «Тайное» — тоже не украшение, оно облегчает душевную непрямоту или отвечает, увы, нуждам боязни. Но на Земле и сегодня есть места где голосуют открыто. «Прямое» (то есть депутаты любой высоты избираются прямо от нижних избирательных урн) особенно спорно в такой огромной стране, как наша. Оно обрекает избирателей не знать своих депутатов — и преимущество получают более ловкие на язык или имеющие сильную закулисную поддержку. Все особенности избирательной системы и способов подсчета голосов подробнейше обсуждались в России комиссиями, партийными комитетами весной и летом 1917, из-за чего Учредительное Собрание и упустило время. И все демократические партии высказались против выборов 4-х—3-х или даже 2-х-степенных: потому что при таких выборах тянется цепочка личного знания кандидатов, избираемые представители теснее связаны со своей исходной местностью, «с местной колокольней», а это лишало все партии возможности вставлять своих кандидатов из центра. Лидер кадетов П. Н. Милюков настаивал, что 156 только прямые выборы от больших подготовленного представителя». Кому что нужно. округов «обеспечат выбор интеллигентного и политически СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ Цель всеобщего голосования — выявить Волю Народа: ту истинную Волю, которая будет все направлять лучшим образом для народа. Существует ли такая единая Воля и какова она? — никто не знает. Но замечательно, что при разной системе подсчета голосов мы узнаем эту волю по-разному и даже противоположно. Большинству у нас сейчас не кажется важным, как именно устроена система голосования, а между тем она влияет существенно. Состязуются в мире по крайней мере три системы подсчета: пропорциональная, мажоритарная и абсолютного большинства. Пропорциональная система почти не проводится иначе, как по спискам (разумеется, партийным): в каждом округе (на несколько депутатских мест сразу, так партиям удобнее агитировать и контролировать) от каждой партии предлагается список кандидатов. И отдельный кандидат уже тем лишен личной ответственности перед избирателями, а только перед партией; избиратели же лишены выбрать сами определенного представителя, кому доверяют, а выбирают только партию. (Различают две под-системы: «связанных списков», когда избиратель не может переставлять порядок желательности в списке, партия сама отберет. Такой способ особенно применяется при малой грамотности населения; и под-система «свободных списков», где избиратель может отдать предпочтение кандидатам внутри списка или даже предложить свой список, что, и правда, очень затрудняет технику подсчета. Есть третий вариант, когда округа делятся на подокруга. лишь с одним именем в каждом, но все равно затем окружная комиссия производит подсчет по партиям и, по пропорции, предоставляет места именно партиям, а не лицам. Во всех случаях выбор лиц достается в основном партиям.) В 1917 все партии от кадетов до большевиков предпочитали именно этот способ, и при многокандидатных округах. Это усиленно одобрял влиятельный кадет И, В. Гессен: партиям так наиболее удобно организоваться и действовать, а «при системе единоличных выборов руководящая роль нередко ускользает из рук партий»; одобрял и всем нам известный В. И. Ульянов-Ленин: он назвал «одним из самых передовых способов выбирать», когда выбираются «не отдельные лица, а партийные представители». Видно, не зря этот способ ему нравился. Пропорциональные выборы по спискам чрезмерно усиливают власть партийных инстанций, составляющих списки кандидатов, и дают перевес большим и организованным партиям. И это особенно потому выгодно партиям, что они могут рассовать своих центральных активистов по дальним округам, где те не живут, и так обеспечить их избрание. На этом — чтобы не требовалось от кандидата жить в своем округе — особенно настаивал кадетский съезд летом 1917: это «дает возможность для ЦК централизовать производство выборов». Да и все другие партии — на том же. Так сказать, централизованная демократия. При пропорциональной системе малые меньшинства обычно могут получить какой-то голос в представительном собрании, но создается множество парламентских фракций, и силы распыляются в раздор. Или это толкает партии поправлять свое положение через беспринципные коалиции с изъянами для своей программы — но лишь бы набрать голосов и захватить правительство. В сегодняшнем мире есть разительные примеры такой государственной слабости и долгих правительственных кризисов. При мажоритарной системе тоже бывают такие противоестественные компромиссы между партиями, но в виде еще предвыборных блоков. При этой системе партия (или блок), едва опередившая других, получает подавляющее число мест, а едва позади — полный проигрыш: даже получить 49% голосов—бывает можно совсем не получить парламентских мест. А при неточном распределении избирательных округов может случиться и так, что мажоритарная система дает победу меньшинству. Так было, например, во Франции в 1893, 1898, 1902: некоторые победившие депутаты получили меньше голосов, чем побежденные; в двух последних случаях совсем не были представлены в палате депутатов — 53% избирателей. Зато при этой системе создается устойчивое правительство. Вводимая теперь у нас система выборов по абсолютному большинству (для чего возможен 2-й тур) также выталкивает мелкие партии, но дает возможность торговать голосами между 1-м и 2-м турами. При системе двух партий, как в Соединенных Штатах, независимые кандидаты ничего не решают, избиратель несет свой голос одной из двух партий (обе — с сильным партийным аппаратом и богатейшей поддержкой). Не сразу, не всегда в одну избирательную кампанию, но при этой системе общественное недовольство находит выход, однако негативный: только бы сменить вот эту, правящую, партию — без гарантии, что сделают сменщики. Итак, всего лишь от способа подсчета голосов может ошеломительно измениться и состав правительства и его программа, выражающая, разумеется, Волю Народа. Но вообще и всякое голосование, при любом способе подсчета , — не есть поиск истины. Здесь все сводится к численности, к упрощенной арифметической идее, к поглощению меньшинства большинством, а это опасный инструмент: меньшинство никак не менее важно для общества, чем большинство, а большинство — может впасть и в обман. «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды» (Исход, 23,2). К тому ж избирательные кампании при большой численности голосующих, среди незнакомых избирателей, бывают столь суетливы, визгливы, да при частом пристрастии массовых средств информации, что даже отвращают от себя значительную часть населения. Телевидение хотя и выявляет внешность кандидата, манеру держаться, но не государственные способности. Во всякой такой избирательной кампании происходит 157 вульгаризация государственной мысли. Для благоуспешной власти нужны талант и творчество — легко ли избрать их всеобщим голосованием на широких пространствах? Сама по себе — такая система не понуждает политических деятелей действовать выше своих политических интересов, и даже наоборот: кто будет исходить из нравственных принципов — легко может проиграть. А. Токвиль, изучая США в XIX веке, пришел к выводу, что демократия — это господство посредственности. (Хотя чрезвычайные обстоятельства страны выдвигают и в ней сильные личности.) НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО А уж пройдя избрание — кандидат становится народным представителем. Афинская демократия отвергала всякое «представительство» как вид олигархии. Но она могла себе это позволить при своей малообъемности. Напротив, французские Генеральные Штаты в 1789, едва собравшись, провели закон, что отныне каждый депутат есть лишь часть этого коллективного собрания, которое и есть воля народа. Тем самым каждый депутат отсекался от своих избирателей и от личной ответственности перед ними. Наши четыре последовательных Государственных Думы мало выражали собой глубины и пространства России, только узкие слои нескольких городов, большинство населения на самом деле не вникло в смысл тех выборов и тех партий. И наш блистательный думец В. Маклаков признал, что «воля народа» и при демократии фикция: за нее всего лишь принимается решение большинства парламента. Да и невозможны точные народные наказы своим депутатам на все будущие непредвидимые случаи. И — нет такого импульса, который заставлял бы нынешних избранцев стать выше своих будущих выборных интересов, выше партийных комбинаций и служить только основательно понятым интересам родины, пусть (и даже неизбежно) в ущерб себе и своей партии. Делается то, что поверхностно нравится избирателям, хотя бы по глубокому или дальнему смыслу это было для них зло. А в таком обширном государстве, как наше, тем меньше возможность проверять избранцев и тем большая возможность их злоупотреблений. Контрольного механизма над ними нет, есть только возможность попытки отказать в следующем переизбрании; иного влияния на ход государственного управления у народного большинства не остается. (А ведь ни при каком другом представительстве — гражданском, коммерческом, поверенные не могут иметь больше прав, чем доверители, и теряют мандат, если выполняют его нечестно.) Но и так, парадоксально: при той, частой, системе, когда правительство формируется на основе большинства в парламенте, члены этого большинства уже перестают быть независимыми народными представителями, противостоящими правительству,— но всеми силами услужают ему и подпирают его, чтобы только оно держалось любой ценой. То есть: законодатели подчинены исполнительной власти. (Впрочем, принцип полного разделения законодательной, исполнительной и судебной власти — не без спорности: не есть ли это распад живого государственного организма? Все три распавшиеся власти нуждаются в каком-то объединяющем контроле над собой — если не формальном, то этическом.) И еще: все приемы предвыборной борьбы требуют от человека одних качеств, а для государственного водительства — совершенно других, ничего общего с первыми. Редок случай, когда у человека есть и те и другие, вторые мешали бы ему в предвыборном состязании. А между тем, «представительство» становится как бы профессией человека, чуть не пожизненной. Образуется сословие «профессиональных политиков», для кого политика отныне — ремесло и средство дохода. Они лавируют в системе парламентских комбинаций — и где уж там «воля народа»... В большинстве парламентов поражает — перевес юристов адвокатов. «Юрократия». (Тем более, что законов такбе изобилие, их система и юридическая процедура так сложны, что рядовой человек становится не способен защитить себя перед законом и на каждом шагу нуждается в дорогостоящем покровительстве адвоката.) И ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ Конечно, демократическая система дает возможность острого наблюдения за действиями чиновников. Хотя, как ни удивительно, и современные демократии обросли грузной бюрократией. Однако: и во всеобщих выборах большинство далеко не всегда выражает себя. Голосование часто проявляется вяло. В ряде западных стран больше половины избирателей и даже до двух третей — порой вообще не являются голосовать, что делает всю процедуру как бы и бессмысленной. И числа голосующих иногда раскалываются так, что ничтожный перевес достигается довеском от крохотной малозначительной партии — она-то как бы и решает судьбу страны или курс ее. Как принцип это давно предвидел и С. А. Франк: И при демократии властвует меньшинство. И В. В. Розанов: «Демократия — это способ, с помощью которого хорошо организованное меньшинство управляет неорганизованным большинством.». В самом деле, гибкая, хорошо приработанная демократия умеет лишить силы протесты простых людей, не дать им звучного выхода. Несправедливости творятся и при демократии, и мошенники умеют ускользать от ответственности. Эти приемы — распыляются по учреждениям демократической бюрократии и становятся неуловимы. Сегодня и из самой старинной в мире демократии, швейцарской, раздается тревожное предупреждение (Ганс Штауб): что важные решения принимаются в анонимных и неконтролируемых местах, где-то за кулисами, под влиянием «групп давления», «лоббистов». И при всеобщем юридическом равенстве остается фактическое неравенство богатых и бедных, а значит более сильных и более слабых. (Хотя уровень «бедности», как его сегодня понимают на Западе, много, много выше наших представлений.) Наш государствовед Б. Н. Чичерин отмечал еще в XIX веке, что из аристократий 158 всех видов одна всплывает и при демократии: денежная. Что же отрицать, что при демократии деньги обеспечивают реальную власть, неизбежна концентрация власти у людей с большими деньгами. За годы гнилого социализма накопились такие и у нас в «теневой экономике», и срослись с чиновными тузами, и даже в годы «перестройки» обогатились в путанице неясных законов и теперь на старте ринуться в открытую, — и тем важней отначала строгое сдерживание любого вида монополий, чтоб не допустить их верховластья. А еще удручает, что рождаемая современной состязательной публичностью интеллектуальная псевдо-элита подвергает осмеянию абсолютность понятий Добра и Зла, прикрывает равнодушие к ним «плюрализмом идей» и поступков. Изначальная европейская демократия была напоена чувством » христианской ответственности, самодисциплины. Однако постепенно эти духовные основы выветриваются. Духовная независимость притесняется, пригибается диктатурой пошлости, моды и групповых интересов. Мы входим в демократию не в самую ее здоровую пору. ПАРТИИ Ныне пришло к тому, что мы так же не мыслим себе политическую жизнь без партий, как личную без семьи. Троцкий за месяц до октябрьского переворота возгласил: «Что такое партия? Это группа людей, которая добивается власти, чтобы иметь возможность выполнить свою программу. Партия, которая не хочет власти, недостойна называться партией.» Конечно, большевицкая партия — это образчик уникальный. Однако само явление партий — древнее, и уже настолько давно было понято, что еще Тит Ливий написал: «Борьба между партиями есть и всегда будет гораздо худшая беда для народа, чем война, голод, мор или любой другой гнев Бога,» «Партия» — значит часть. Разделиться нам на партии — значит разделиться на части. Партия как часть народа — кому же противостоит? Очевидно — остальному народу, не пошедшему за ней. Каждая партия старается прежде всего не для всей нации, а для себя и своих. Национальный интерес затмевается партийными целями: прежде всего — что нужно своей партии для следующего переизбрания; если нечто полезное для государства и народа проистекло от враждебной нам партии — то допустимо и не поддерживать его. Интересы партий да и само существование их — вовсе не тождественны с интересами избирателей. С. Крыжановский считал, что пороки и даже крушение парламентского строя происходят именно из-за партий, отрицающих единство нации и само понятие отечества. Партийная борьба заменяет где уж там поиск истины — она идет за партийный престиж и отвоевание кусков исполнительной власти. Верхушки политических партий неизбежно превращаются в олигархию. А перед кем отчитываются партии, кроме своих же комитетов?— такая инстанция не предусмотрена ни в какой конституции. Соперничество партий искажает народную волю. Принцип партийности уже подавляет личность и роль ее, всякая партия есть упрощение и огрубление личности. У человека — взгляды, а у партии — идеология. Что можно тут пожелать для будущего Российского Союза? Никакое коренное решение государственных судеб не лежит на партийных путях и не может быть отдано партиям. При буйстве партий — кончена будет наша провинция и вконец заморочена наша деревня. Не дать возможности «профессиональным политикам» подменять собою голоса страны. Для всех профессиональных знаний есть аппарат государственных служащих. Любые партии, как и всякие ассоциации и союзы, не более того, существуют свободно, выражают и отстаивают любые мнения, на свои средства могут иметь печать,—но должны быть открыты, зарегистрированы со своими программами. (Всякие тайные союзы, напротив, преследуются уголовно как заговор против общества.) Но недопустимо вмешательство партий в производственный, служебный, учебный процесс: это все — вне политики. Во всяких государственных выборах партии, наряду с любыми независимыми группами, имеют право выдвигать кандидатов агитировать за них, но — без составления партийных списков: баллотируются не партии, а отдельные лица. Однако выбранный кандидат должен на весь срок своего избрания выбыть из своей партии, если он в таковой состоит, и действовать под личную ответственность передо всей массой избирателей. Власть — это заповеданное служение и не может быть предметом конкуренции партий. Как следствие: во всех ступенях государственного представительства, снизу доверху, воспрещается образование партийных групп. И, само собой, перестает существовать понятие «правящей партии». ДЕМОКРАТИЯ МАЛЫХ ПРОСТРАНСТВ Из высказанных выше критических замечаний о современной демократии вовсе не следует, что будущему Российскому Союзу демократия не нужна. Очень нужна. Но при полной неготовности нашего народа к сложной демократической жизни — она должна постепенно, терпеливо и прочно строиться снизу, а не просто возглашаться громковещательно и стремительно сверху, сразу во всем объеме и шири. Все указанные недостатки почти никак не относятся к демократии малых пространств: небольшого города, поселка, станицы волости (группа деревень) и в пределе уезда (района). Только в таком объеме люди безошибочно смогут определить избранцев, хорошо известных им и по деловым способностям и по душевным качествам. Здесь — не удержатся ложные репутации, здесь не поможет обманное красноречие или партийные рекомендации. Это — именно такой объем, в каком может начать расти, укрепляться и сама себя осознавать новая российская демократия. И это — самое наше жизненное и самое наше верное, ибо отстоит в нашей местности: 159 неотравленные воздух и воду, наши дома, квартиры, наши больницы, ясли, школы, магазины, местное снабжение, и будет живо содействовать росту местной нестесненной экономической инициативы. Без правильно поставленного местного самоуправления не может быть добролрочной жизни, да само понятие «гражданской свободы» теряет смысл. Демократия малых пространств тем сильна, что она непосредственная. Демократия по-настоящему эффективна там, где применимы народные собрания, а не представительные. Такие повелись — еще с Афин и даже раньше. Такие — уверенно действуют сегодня в Соединенных Штатах и направляют местную жизнь. Такое посчастливилось мне наблюдадъ и в Швейцарии, в кантоне Аппенцель. Я писал уже об этом в другом ме з, не удержусь тут повторить кратко. На городской площади собраны, плотно друг ко другу стоят все имеющие право голо са («способные носить оружие», как предлагал и Аристотель). Голосование — открытое, поднятием рук. Главу своего кантонального правительства, ландамана, переизбрали очень охотно, с явной любовью, — но из предложенных им законопроектов тут же вслед проголосовали против трех: доверяем тебе! правь нами — но без этого! А ландаман Раймонд Брогер в программной речи сказал: Вот уже больше полутысячелетия наша община не меняет существенно форм, в которых она правит сама собою. Нас ведет убеждение, что свобода связана с нашими обязательствами и нашим самосдерживанием. Не может быть свободы ни у личности, ни у государства без дисциплины и честности. Народ — решающий судья во всех важных вопросах, но он не может ежедневно присутствовать, чтоб управлять государством. И поэтому в управлении неизбежна примесь аристократического или даже монархического элемента. (То же говорил и Аристотель.) Правительство, продолжал Брогер, не должно спешить за колеблющимся переменчивым народным голосованием, только бы переизбрали вновь, не должно произносить зазывных речей избирателям, но двигаться против течения. Задача правительства: действовать так, как действовало бы разумное народное большинство, если бы зна ло все во всех деталях, — а это становится все невозможнее при растущих государственных перегрузках. Именно демократическая система как раз и требует сильной руки, которая могла бы государственный руль направлять по ясному курсу. Демократия малых пространств веками существовала и в России. Это был сквозь все века русский деревенский Mip, а в иные поры — городские веча, казачье самоуправление. С конца прошлого века росла и проделала немалый путь еще одна форма его — земство, к сожалению, только уездное и губернское, без корня волостного земства и без обвершения всероссийским. Октябрьский переворот насильственно сломал всякое земство, заменив его советами, от самого начала подмятыми компартией. Всей историей с 1918 эти советы опорочены: они никогда не были реальным самоуправлением на каком-либо уровне. Вносимые сейчас робкие избирательные изменения тоже не могут эту форму спасти: она не обеспечивает местных интересов с их влиянием черезо всю структуру снизу вверх. Я полагаю, что «советы депутатов» надо, шаг за шагом, снизу вверх, заменить земской системой. Много лет занимавшись государственной историей предреволюционной России, я использую тут опыт наших лучших практических деятелей и умов, соединенный с моей посильной разработкой. Разумеется, тот опыт не может быть просто перенесен в сегодняшнюю растерзанную страну, где искажены самые основы жизни, но и без него вряд ли наш подъем произойдет здоровыми путями. Я использую тут и предреволюционные русские понятия и выражения, чтобы не строить еще третий ряд. Какие-то из них жизнь заменит, другие — приживутся. ЗЕМСТВО Будем различать четыре ступени его: — местное земство (некрупный город, район крупного, поселок, волость) — уездное земство (нынешний район, крупный город) — областное земство (область, автономная республика) — всероссийское (всесоюзное) земство. Нам, совершенно отученным от действительного самоуправления, надо постепенно осваивать этот ход, с низших ступеней его. От залетных политиканов храни нас Бог — но иметь политические навыки полезно многим и многим в населении. Голосование может производиться только за отдельных лиц. В объеме местного земства они, обычно, избирателям хорошо знакомы. Избирательные кампании желательны самые скромные и краткие: лишь деловое оповещение о личных программах, биографиях и убеждениях; на эту процедуру не должны тратиться никакие государственные средства, а местные — по усмотрению местных сил. Также и многие подробности процедуры должны решаться на местах, и они могут весьма разниться от местности к местности. Но всеобязательны должны быть: — Ценз возрастной. Какого возраста должен достичь избиратель, чтобы быть допущенным к решению народной судьбы? В наше время незрелая юность не получает устойчивого воспитания ни в семье, ни в школе, поверхностно нахватана в образовании и порой шатка к самым безответственным влияниям. Не следует ли повысить порог до 20 лет? (По суждению местностей или национальных областей этот возраст может быть установлен и выше.) А быть избранным — лишь с 30 лет? с 28? — Ценз оседлости. И избиратели, и тем более избираемые должны быть укоренены в данной местности, тесно связаны с ее интересами, основательно их понимать; недавние приезжие или вовсе случайные — не могут тут иметь ответственности суждения. Для избирателей оседлость не должна бы быть меньше трех последних полных, без существенного перерыва, лет. (Каждая местность может устанавливать у себя и выше.) 160 Для избираемых — не меньше пяти последних лет (или, допустим: три последних года непрерывно плюс пять лет в прежнее время). В местное земство избирается какое-то число законодателей («гласных»). Они утверждают административных лиц, постоянно ответственных перед ними в своей деятельности. В волости, малом поселке это может быть всего один человек. На уровне уезда это: уездная земская управа, которую выделяет из себя или набирает из специалистов уездное земское собрание. Новоизбранные — перенимают власть от существующих местных и районных советов депутатов, а те упраздняются. Выборы в местное земство — только прямые, выборы в уездное — зависят от размеров уезда и надежной всеизвестности кандидатов. При значительной территории и густоте населения — надежнее применить двухстепенные выборы: местные земства тотчас же заменяют собой местные советы, работают половину своего срока, а затем, сознакомясь в себе, выделяют из себя пропорциональную долю в уездное земское собрание до конца срока, до следующих выборов. (На эти полсрока продляется существование прежнего райсовета и райисполкома.) На первый избирательный срок (2 года?) ничто выше уездного земства не избирается. При нашей политической неумелости - местное и уездное земство в ходе практического управления своею местностью станут и школой управления, и в них начнут проявляться и формироваться деятели, способные к более широкому охвату. Убеждает и пример недавних шахтерских забастовочных комитетов и «союзов трудящихся», проявивших такое сознание и такую организованность. СТУПЕНИ ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ При географической обширности и бытовых условиях нашей страны прямые всегосударственные выборы законодателей в центральный парламент не могут быть плодотворны. Только выборы трех- четырехстепенные могут провести кандидатов и уже оправдавших себя и укорененных в своих местностях. Это будут выборы не отдаленных малознакомых людей, только и пофигурявших в избирательной кампании, но выборы по взаимному многолетнему узнаванию и доверию! В конце первого (или даже второго) избирательного срока проводятся выборы третьей ступени: областного земского собрания. Их производят уездные земские собрания (и земское собрание областного города): из своей изученной среды выделяют отведенную им для области пропорциональную долю на весь следующий срок; сами же после этого подвергаются очередному переизбранию. Составленное так областное земское собрание тут же заменяет собой облсовет, вместо облисполкома формирует для исполнительных действий областную земскую управу, само же, в долготу принятого избирательного срока, собирается только на очередные сессии, а в промежутках члены собрания живут в своих уездах. (После того как вся система станет работать устойчиво, сам избирательный срок может быть повсюду удлинен.) Тут следовало бы не опустить совета нашего выдающегося земца Д. Н. Шилова: дабы исправить возможные упущения от выборных случайностей, каждое собрание имеет право не голосованием, а при полном согласии приобщать в свой состав, не более пятой части от своего объема, всем известных полезных и необходимых местных деятелей. В предстоящих условиях это даст и путь некоторым успешным деятелям райсоветов, облсоветов, затем и Верховного Совета — быть плавно принятыми в состав новой власти. Чем авторитетнее будет областное земство — тем, соответственно, сильней самостоятельность и самопопечение автономных национальных республик и областей. Не берясь тут предугадывать роль и место нынешних Верховных Советов Российской Федерации, Украины и Белоруссии — естественно предложить, чтобы в конце следующего срока областные земские собрания выделили бы из себя делегатов в Палату Союза (заменяющую Совет Союза) Всеземского Собрания (заменяющего Верховный Совет депутатов), а сами были бы по тому же принципу переизбраны уездными собраниями. Нынешняя система равномочных палат Совета Союза и Совета Национальностей совсем не плоха, если бы выполнялась без показности и без мошенничества. Палата Национальностей могла бы остаться во Всеземском Собрании вообще без изменений — только с тем простором для каждой нации, что отведенные ей места она сама решает, каким порядком замещать: общими выборами или полномочиями по достоинству, и на какие сроки. Существующий сегодня Совет Союза составлен по смутному смешанному принципу: частью территориальным голосованием, частью делегированием от КПСС и от организаций. Это — неприемлемо даже и на переходный (4-х? 6-летний?) период и должно быть как-то исправлено. Кроме того, он неуклюж и огружен еще и Съездом депутатов, от чего законодательная работа только двоится и осложняется. Успешное построение земской системы, увершаемой Всеземским Собранием, требует, чтобы поработали и набрались опыта уездные и областные собрания, и областяне, хорошо узнав друг друга, могли бы выделять во Всеземское Собрание делегации (либо постоянные на долготу срока, либо посменные на часть его), в которых областной опыт сливался бы со всероссийским и всегда надежно был бы представлен в нем. Парламент не может быть отвлеченно «центральным»: он должен состоять из реальных и авторитетных представителей областей, да еще с непременным условием, чтобы они определенную заметную часть года жили в своей местности, не то теряют право представлять ее. (Это — и в Соединенных Штатах так.) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Имеется в виду разумное сочетание деятельности централизованной бюрократии и общественных сил. 161 Такое сочетание бывало периодами и в Московской Руси: местное самоуправление вело не только местные дела, но и часть общегосударственных, однако под надзором центральной власти. В 1899 С. Ю. Витте ложно-доказательным рассуждением, что самодержавие якобы несовместимо с широким местным самоуправлением, удержал Николая II от расширения прав земств. (Вскоре вослед Л. Тихомиров, народоволец, ставший монархистом, опроверг это рассуждение, но не был услышан.) Централизованная бюрократия инерционно старается ограничить области общественного самоуправления. Но это нужно лишь самой бюрократии, а никак не народу, да и не правительству. В здоровое время у местных сил — большая жажда деятельности, и ей должен быть открыт самый широкий простор. Как формулировал Тихомиров: во всем, где общественные силы и сами способны поддерживать общеобязательные нормы, действие правительственных учреждений излишне и даже вредно, так как без нужды расслабляет способность нации к самостоятельности. Повсюду, где допустимо прямое действие народных сил — в форме ли местного самоуправления или деятельности еще каких-то отдельных общественных ассоциаций, союзов, — это прямое действие должно быть им открыто. Кроме того, этот общественный подпор незаменим для контроля над государственно-бюрократической системой и заставляет любого там чиновника служить честно и поворотливо. Такую сочетанную систему, деловое взаимодействие администрации правительственной и администрации местных самоуправлений, Д. Шипов называл государственно-земским строем. Но особое соотношение сложится в нынешний переходный и может быть не столь краткий период. Пока общественные силы будут медленно нарастать снизу, набираться государственного опыта, растить свои кадры — существующая бюрократия, привыкшая к бесконтрольному всевластию, будет упираться и всячески не уступать своих прав. Однако неизбежно резкое сужение их от возникновения хозяйственной самостоятельности в стране. Кроме того, в нынешних свежеизбранных, переходных советах уже показывают себя конструктивные силы, которые помогут этому расширению общественной самостоятельности. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЯХ Сегодня президентская власть — никак не лишняя при обширности нашей страны и обилии ее проблем. Но и все права Главы Государства, и все возможные конфликтные ситуации должны быть строго предусмотрены законом, а тем более — порядок выбора президента. Подлинный авторитет он будет иметь только после всенародного избрания (на 5 лет? 7 лет?). Однако для этого избрания не следует растрачивать народные силы жгучей и пристрастной избирательной кампанией в несколько недель или даже месяцев, когда главная цель — опорочить конкурента. Достаточно, если Всеземское Собрание выдвигает и тщательно обсуждает несколько кандидатур из числа урожденных граждан государства и постоянно живших в нем последние 7—10 лет. В результате обсуждений Всеземское Собрание дает по поводу всех кандидатов единожды и в равных объемах публичное обоснование и сводку выдвинутых возражений. Затем всенародное голосование (в одиндва тура, по способу абсолютного большинства) могло бы производиться без напряженной изнурительной избирательной кампании. (Очевидно разумно, по американскому образцу, предусмотреть и должность вицепрезидента: его кандидатуру называет для себя кандидат в президенты, и они выбираются вместе.) Если в течение срока избрания Всеземское Собрание тремя четвертями в каждой палате признает, что президент исполняет свои обязанности неудовлетворительно, оно должно опубликовать доказательные соображения о том — и они выносятся на народное голосование, как и возможные новые кандидаты. Напротив, если по истечении срока президентства Всеземское Собрание двутретным большинством в каждой палате продолжает поддерживать этого президента — нет видимых причин не оставить его на следующий срок без нового народного голосования. Если президент умрет во второй половине своего срока вице-президент заступает его пост до конца срока; если в первой половине — всенародные выборы проводятся заново. Президент назначает совет министров по своему усмотрению, предпочтительней — из специалистов, принятых на основании конкурса и в качестве государственных служащих; не желательно — из членов законодательных палат. Министры отчитываются как перед президентом, так и перед обеими палатами, но ими не могут быть сменены. (Можно не упустить из предсмертной программы П. А. Столыпина: двух-трехлетняя Академия для занятия высших государственных должностей из наиболее способных, отлично окончивших институты, с открытыми мотивированными общественными или персональными рекомендациями; в Академии — факультеты по профилю министерств. Среди министерств Столыпин выделял министерство местных самоуправлений — в помощь им.) По определению нашего правоведа В. В. Леонтовича: правительство отличается от администрации (бюрократии) тем, что решает новые задачи, а администрация — старые, установившиеся. Соответственно и требуемый высокий ранг квалификации министров; если же правительство само отдастся бюрократизации, то оно потеряет способность вести страну. Но и вся работа в административной системе должна никак не быть ни наградой, ни привилегией, не приносить никаких личных преимуществ. «Плодотворно только то правительство, которое видит в себе не что иное, как обязанность»,— писал М. Н. Катков. А после всего, пережитого нами, всякая власть как понятие — уже в неизбывном долгу перед народом. Чтобы теперь исправлять и нагонять все разваленное — правительственные учреждения должны отдавать все силы, возможно иметь удлиненный рабочий день. Мы—почти ни в чем не можем копировать Швейцарию: и по размеру ее, и оттого что она создалась как союз независимых кантонов. Но несомненно можем перенять у нее: при определенном числе тысяч подписей — вносится законопроект, который палаты обязаны рассмотреть; при другом, большем числе (у нас — 162 миллионов) — становится обязательным плебисцит по выдвигаемому вопросу. Эта законодательная инициатива масс добавляет гибкости в государственную жизнь. Кроме таких плебисцитов и редких выборов президента — никакие более всенародные голосования не стали бы нужными. СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА Добавляю эту главу никак не к сегодняшнему моменту, — но, мне кажется, весьма важную для нашего отдаленного государственного будущего. Вспоминая свой богатый думский опыт, В. Маклаков выделял: самые прочные успехи демократии достигаются не перевесом большинства над меньшинством, а — соглашением между ними. Для страны с политической неопытностью он даже предлагал создавать третью палату парламента «из опытного и культурного меньшинства»: создание такой преграды будет мешать свободному разливу демократии, но для нее самой менее опасно, чем неограниченная власть большинства. Делая и еще шаг в этой мысли: очевидно, надо искать форму государственных решений более высокую, чем простое механическое голосование. Все отдавать на голосование по большинству — значит устанавливать его диктатуру над меньшинством и над особыми мнениями, которые как раз наиболее ценны для поиска путей развития. Высокий уровень деятельности всех государственных властей недостижим без установления над ними этического контроля. Его могла бы осуществлять верховная моральная инстанция с совещательным голосом — такая структура, в которой голосование почти вообще не производится, но все мнения и контрмнения солидно аргументируются, и это — наиболее авторитетные голоса, какие могут прозвучать в государственной работе. В нашей истории для того есть прочное подобие: Земский Собор в Московской Руси. Как писал Д. Шипов: когда у нас собирались Земские Соборы, то не происходило борьбы между Государем и Соборами, и неизвестны случаи, когда бы Государь поступил в противность соборному мнению: разойдясь с Собором, он только ослабил бы свой авторитет. Соборность — это система доверия; она предполагает, что нравственное единство — возможно и достижимо. Такому плану идеально могла бы соответствовать Дума (Соборная Дума? Государственная Дума?), собранная как бы от народной совести — из авторитетных людей, проявивших и высокую нравственность, и мудрость, и обильный жизненный опыт. Но — никак не видно несомненного метода отбора таких людей. Известным заменителем могла бы быть Дума, составленная от социальных слоев и профессий, можно сказать — от сословий. (По Далю, первое значение этого слова: люди общего им занятия, одних прав; второе: состояние, разряд, каста.) Это два самых естественных принципа взаимодействия и сотрудничества людей: по общей территории, на которой они живут; и по роду их занятий, направлению их деятельности. Мы — каждый имеем свою работу, специальность, и тем получаем полезное место в структуре общества. Обезличенное полное равенство людских выражений — есть энтропия, направление к смерти. Общество живо именно своею дифференциацией. Несут на себе государство — те люди, которые думают, работают и создают все, чем живет страна. Чем лучше нация организована в социальных группах, тем явственней проступают ее творческие силы (Л. Тихомиров). В рассвобожденном нашем обществе с годами несомненно разработаются и сплотятся жизнедеятельные сословия — сословия не в кастовом смысле, а — по профессиям и отраслям приложения труда. Слишком долго у нас всяким делом ведали и руководили те, кто ничего в нем не понимают. Наконец каждое дело должны вести знающие. А совета по каждому делу никто не даст лучше, чем представители данной специальности. (Сословия, основанные на духовном и деловом сотворчестве людей одной профессии, никак не следует путать с профсоюзами. В сословии — ты естественный член уже по одному роду своей работы. Профсоюз — это организация для борьбы за зарплату и материальные выгоды, куда не каждый вступает и не каждого принимают.) В дополнение к земскому, территориальному представительству могло бы нарасти и действовать представительство сословное. (И часть энергии, непроизводительно растрачиваемой в партиях, направится в конструктивную сословную деятельность.) Процедуру выборов (или назначения) своих депутатов в Соборную Думу каждое сословие определяло бы само. Они посылают туда (ведущие сословия — и по два) не политических депутатов и не для отстаивания своих политических интересов, а — самых опытных и достойных, кому доверяют общие суждения по роду деятельности своего сословия. Для удобства сосредоточения работы число членов Думы не должно бы превосходить 200—250 человек. (Сословий может оказаться и больше, но может посылаться один представитель от группы родственных некрупных сословий.) Мнение без голосования — вовсе не новинка. Например, у горцев Кавказа долго держался порядок не общего голосования, а — «опрос мудрых». Всякое мнение, суждение или запрос, основательно мотивированное и обращенное более чем половиной Думы к президенту, совету министров, любой из двух палат или к верховной судебной власти,— публикуется. И запрошенная инстанция либо должна принять это суждение в руководство, либо опубликовать в двухнедельный срок мотивировку, по которой запрос отвергается. (В исключительных случаях военной тайны обмен происходит не публично; но члены Думы и в этом случае вправе получить любую нужную информацию о президентской, правительственной, законодательной или судебной деятельности.) Так же, более чем от половины Думы, может быть выдвинут кандидат в президент. 163 Если же суждение Соборной Думы принято без голосов против — оно накладывает запрет на любой закон, на любое действие любого учреждения,— и тот закон, то действие должны быть изменены. Таким же путем может быть наложено вето и на любую кандидатуру в президенты. Добавление совещательной и весьма сведущей Соборной Думы — накладывает на все виды властей умственный и нравственный отпечаток. А возможности улучшить общество одними лишь политическими средствами — невелики. «Цель общежития — установить между людьми нравственный порядок» (М. М. Сперанский). — «Свобода и законность, чтобы быть прочными, должны опираться на внутреннее сознание народа» (А. К. Толстой).— «Политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной» (В. О. Ключевский). Право — это минимум нравственных требований к человеку, ниже которых он уже опасен для общества. «Во многих случаях то, что является правом, запрещается моралью, которая обращается к человеку с заповедями высшими и более строгими» (П. И. Новгородцев). Нравственное начало должно стоять выше, чем юридическое. Справедливость — это соответствие с нравственным правом прежде, чем с юридическим. ДАВАЙТЕ ИСКАТЬ В этой сжатой работе я не имел возможности говорить об армии, милиции, судебной системе, большинстве вопросов законодательства, экономики и о профсоюзах. Моя задача была лишь— предложить некоторые отдельные соображения, не претендующие ни на какую окончательность, а только предпослать почву для обсуждений. Разумное и справедливое построение государственной жизни — задача высокой трудности, и может быть достигнуто только очень постепенно, рядом последовательных приближений и нащупываний. Эта задача не угасла и перед сегодняшними благополучными западными странами, надо и на них смотреть глазами не восторженными, а ясно открытыми,— но насколько ж она больней и острей у нас, когда мы начинаем с катастрофического провала страны и разученности людей. Непосильно трудно составлять какую-либо стройную разработку вперед: она скорее всего будет содержать больше ошибок, чем достоинств, и с трудом поспевать за реальным ходом вещей. Но и: нельзя вовсе не пытаться. В основу предлагаемой работы положены мысли многих русских деятелей разной поры - и, я надеюсь, их соединение может послужить плодоносной порослью. Июль 1990 Владимир Войнович Войнович Владимир Николаевич, прозаик (26.9.1932 Сталинабад). Отец — журналист, мать — учительница. Детство Войновича частично прошло в деревне, затем он учился столярному ремеслу и в 1951-55 гг. служил в армии. Войнович окончил вечернюю школу, поступал в Литературный институт в 1956 и 1957 гг., но не был принят. В это время он работал в Москве плотником Проучившись полтора года в Московском педагогическом институте, Войнович отправился на целинные земли в Казахстан, где и были написаны его первые прозаические произведения. В 1960 г. он получил в Москве место на радио. Широкой официальной известностью пользовалась написанная им «Песня космонавтов». Первый рассказ Войновича «Мы здесь живем» (1961), напечатанный Л. Твардовским в журнале «Новый мир», был живо поддержан В. Тендряковым и тотчас же выдвинул его в ряды ««самых, талантливых молодых, прозаиков» (Кардин). Объективное изображение недостатков советской действительности вызывало бурные споры критиков. Нападкам подверглись и два следующих рассказа. Один из них — «Кем я мог бы стать», название которого Твардовский переменил на ««Хочу быть честным» (1963), был инсценирован, ставился в театрах и имел большой успех в 1967-68 гг. (в 1968 — 157 постановок). Следующую свою повесть «Два товарища» (1967) автор также переработал в пьесу, которая — после временного запрета пьес Войновича — довольно много ставилась. Роман ««Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», писавшийся с 1963 г., ходил в самиздате. Начало романа было опубликовано в 1969 г. во франкфурте-на-Майне, вся книга — в 1975 г. в Париже, и только благодаря перестройке в 1988-89 гг. в СССР. У Войновича начались серьезные трудности из-за этой книги и подписей, поставленных им прежде под петициями в защиту Л. Синявского, Ю. Даниэля и Ю. Галанскова, но в 1972 г. ему удалось еще опубликовать в СССР две книги. Когда в 1973 г. было образовано ВЛЛП Войнович в открытом письме протестовал против этой организации, с помощью которой, по его словам, советских авторов лишали права на публикацию за рубежом В феврале 1974 г. Войнович был исключен из СП СССР и принят в члены ПЕН-клуба во франции. В документальной повести «Иванькиада» (1976) Войнович описал, как номенклатурный чиновник С. С. Иванько пытался присвоить себе квартиру, обещанную Войновичу. 21.12.1980 Войнович выехал в Федеративную Республику Германию. В книге «Антисоветский Советский Союз» (1985) он объединил 46 эссе и рассказов, написанных в СССР и за границей. Первым крупным его произведением в эмиграции стал роман «Москва 2042» (1987) С 1988 г. его произведения стали опять признавать в СССР, где они с тех пор широко печатаются. На 1993 г. было запланировано издание его собраний сочинений в 5-ти томах, в которое должен войти также автобиографический роман ««Замысел» (см «Лит. газ.», 1993, 17.11). В 1993 г. Баварская Академия Искусств присудила ему премию по литературе в изгнании. Живет в Мюнхене, но временами и в Москве. Благодаря роману о Чонкине и Иванькиаде Войнович стал одним из самых значительных современных русских сатириков. Ранние произведения Войновича показывали 164 труд на целинных землях («Мы здесь живем») или положение дел на стройке, в контрасте с идеальными картинами газовой пропаганды, но сатирическими они еще не были. Роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» состоит из сравнительно самостоятельных глав, в которых действие развивается по определенной схеме и разрабатывается сюжет о солдате, несущем совершенно бессмысленную службу на посту. Это создает противоположный общепринятому героическому пафосу эффект. Сатира Войновича против армии, милиции и партии, по сути разоблачает всю советскую систему, а образ Чонкина, запутавшегося в комических ситуациях постепенно приобретает черты некоторого трагизма. В продолжении этого романа под названием «Претендент на престол» (1979) уже нет череды отдельных приключений главного героя, как,свойственно плутовскому роману, это откровенная сатира, острие которой направлено в основе против феномена двуликости всего, что думам>сь и говорилось в СССР; в основе этой сатиры — двойное и параллельно развивающееся заблуждение: Чонкин как государственный преступник и как народный герой. В сборнике «Путем взаимной переписки» (1979) Войнович поместил написанную в СССР прозу и открытые письма. «Москва 2042» дает сатиру на советскую систему при помощи гиперболы и фантастику. Начиная с первых своих произведений, Войнович проявляет себя как,писатель-реалист, замечательно изображающий человеческие характеры и обладающий особым даром живо запечатлевать отдельные сцены. Соч.: Мы здесь живем, ж. «Новыйм мир», 1961, № 1; Хочу быть честным,, ж. «Новый мир», 1963, № 2; Два товарища, ж. «Новый мир», 1967, № 1; Повести, 1972; Степень доверия, 1972; Путем взаимной переписку, ж. «Грани», № 87-88, 1973 Pans, 1979 и ж. «Дружба народов», 1988, № 12; Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Кн.. 1 и 2, Paris, 1975 (частичная публикация ж. «Грани», № 72, 1969), ж. «Юность», 1988, № 12, 1989, № 1-2 и отд. изд. — 1990; Происшествие в Метрополе. Автобиографический рассказ, ж. «Континент», № 5, 1975; Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру, Ann Arbor, 1976 и ж. «Дружба народов», 1989, № 12; Претендент на престол, Paris, 1979, Война против писателей. Письмо от 23.10.1980, ж., «Эхо», 1980, № 3; Трибунал. Пьеса, London, 1985 и ж. «Театр», 1989, № 3; Антисов. Сов. Союз. Статьи, Ann Arbor, 1985; Москва 2042, Ann Arbor, 1987 и Москва, 1990; Хочу быть честным, 1989 (содержит также: Расстояние в полкилометра; Путем взаимной переписку, Иванькиада, или Рассказ...; Шапку; Открытые письма); (совм. с Г. Гориным) Кот домашний средней пушистости, ж. «Театр», 1990, № 5; Интервью, «Die Zeit», 1975, 17.1., «<Аит. газ.», 1990, 20.6. Лит.: В. Тендряков, «Аит. газ.», 1961, 25.2., Кардин, ж. «Вопросы лит-ры», 1961, № 3; Рассадин, ж. «Юность», 1962, № 4; Г. Бровман, ж. «Москва», 1963, №6; Ю. Вишневская, «Рус. мъсль», 1975, 17.7.; Р Р., ж. «Грани», № 97, 1975; Ю. Терапиано, «Рус. мысль», 1976, 13.5.; М A. SzorCufc, ж. «Russian Literature Triquarterly», № 14, 1976; Д. Шток, ж. «Грани», № 104, 1977; W. Kasack, в сб.: «Fiction andDrama in Eastern and Southeastern Europe», CoCum6us Ohio, 1980; H. Коржавин, «Новое рус. слово», 1982, З Ю.; М Sendich и S. Lu6ensky, ж. «Russian Language Journal», № 131, 1984; И. Васюченко, ж, «Знамя», 1989, № 10. Портрет на фоне мифа Когда некоторых моих читателей достиг слух, что я пишу эту книгу, они стали спрашивать: что, опять о Солженицыне? Я с досадой отвечал, что не опять о Солженицыне, а впервые о Солженицыне. Как же, — недоумевали спрашивавшие, — а «Москва 2042»? «Москва 2042», — отвечал я в тысячный раз, не об Александре Исаевиче Солженицыне, а о Сим Симыче Карнавалве, выдуманном мною, как сказал бы Зощенко, из головы. С чем яростные мои оппоненты никак не могли согласиться. Многие из них еще недавно пытались меня уличить, что я, оклеветав великого современника, выкручиваюсь, хитрю, юлю, виляю и заметаю следы, утверждая, что написал не о нем. Вздорные утверждения сопровождались догадками совсем уж фантастического свойства об истоках моего замысла. Должен признаться, что эти предположения меня иногда глубоко задевали и в конце концов привели к идее, ставшей, можно сказать, навязчивой, что я должен написать прямо о Солженицыне и даже не могу не написать о нем таком, каков он есть или каким он мне представляется. И о мифе, обозначенном этим именем. Созданный коллективным воображением поклонников Солженицына его мифический образ, кажется, еще дальше находится от реального прототипа, чем вымышленный мною Сим Симыч Карнавалов, вот почему, наверное, сочинители мифа на меня так сильно сердились. Однако, приступим к делу и начнем издалека. Игорь Александрович Сац почитал многих писателей, но больше других Щедрина, Зощенко и Платонова, которых постоянно к месту и не к месту цитировал. Был, однако, еще один автор, стоявший выше всех перечисленных, он был Сацем любим особенно и мне настоятельно рекомендован. — Читайте Ленина, — говорил мне Сац, — и вы все поймете. Прочтите для начала «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Или «Материализм и эмпириокритицизм». Или «Государство и революция». Или — еще лучше — потратьте время, прочтите внимательно полное собрание его сочинений, и вы увидите, что у него написано все про все. Был вечер декабря 1961 года. Мыс Сацем сидели у него в его отдельной двухкомнатной квартире без туалета. Туалет общий находился в конце длинного коридора. Но отдельная квартира даже без уборной — роскошь, по тем временам неслыханная. К тому же столь удобное расположение — на углу Арбата и Смоленской площади. Тут же тебе метро и один из самых больших в Москве гастрономов. Мы пили водку, закусывали жареной картошкой с ливерной колбасой и разговаривали. Любовь к подобному препровождению времени была у нас общей, несмотря на разницу в летах — мне 29, а ему вдвое больше. 165 Фамилия Сац дала России целый букет самых разных талантов. Известный в свое время композитор Илья Сац приходился Игорю Александровичу дядей. Дочь дяди Наталья Ильинична, смолоду угодившая в лагеря, была потом известна как драматург, режиссер и многолетний руководитель детского театра. Сестра Игоря Наталья Александровна СацРозенель прибавила себе третью фамилию, выйдя замуж за ленинского наркома просвещения Анатолия Луначарского. Другая сестра — Татьяна Александровна — была хореографом, руководителем балета на льду и тренером многих известных фигуристов. Сын Саша стал потом известным пианистом. Сам Игорь Александрович тоже начинал как пианист и, как я слышал не от него, подавал очень большие надежды. Но после ранения в руку еще в Первую мировую войну был вынужден эти надежды оставить. Стал литературным критиком и редактором. Владел несколькими европейскими языками, знал многих знаменитых людей своего времени: у Николая Щорса был адъютантом, у Анатолия Луначарского — литературным секретарем, дружил с Андреем Платоновым, Михаилом Зощенко, Александром Твардовским и... со мной. Осенью 1960 года, когда моя повесть «Мы здесь живем» была принята к печати журналом «Новый мир», Игоря Александровича дали мне в редакторы, на чем мы с ним и сошлись. К моменту нашего знакомства он был уже совершенно сед (волосы густые, белые с желтизной) и беззуб. Что-то с ним случилось такое, что дантист предложил ему вытащить все зубы, и он согласился. Зубы удалялись четыре дня подряд (по нескольку штук за один раз). Жена Саца Раиса Исаевна выдавала мужу скромную сумму, чтобы после каждого удаления он мог ехать домой на такси. Он, прикрывая окровавленный рот рукой, добирался на общественном транспорте, а проездные деньги тратил на четвертинку. Выпить он любил, но подчеркивал, что он не алкоголик, а пьяница, потому что пьет только по вечерам и в компании. В описываемое время его вечерней компанией часто бывал я. Меня удивляло, что любую пищу и даже хлебные корки он ухитряется пережевывать одними деснами. Но понимать смысл им произносимого было непросто. Из-за беззубости он шамкал, при этом говорил так тихо, что я не все слова разбирал, сколько ни напрягался, а кроме того, свою речь он часто прерывал долгим, громким, заливистым смехом и при этом заглядывал мне в глаза, принуждая и меня смеяться вместе с ним, что я и делал из вежливости и через силу. Поводом для смеха были остроумные, как ему казалось, цитаты, приводимые им в доказательство его мысли из любимых авторов: все тех же Щедрина, Зощенко и того же Ленина, который, по мнению Саца, тоже был очень большой сатирик. В тот вечер мы на Ленина потом неизбежно соскочили, а сначала темой нашей было только что произошедшее событие: Твардовский прочел мой новый рассказ «Расстояние в полкилометра», пригласил меня к себе, очень хвалил, наговорил мне таких слов, какие, по уверению Саца, редко кому приходилось слышать. Сац был этому тоже искренне рад. Он считал меня своим открытием. С этим справедливо не согласна была Анна Самойловна Берзер — она меня прочла и оценила первая. Но и Сац следом за ней отнесся ко мне хорошо. Мнение Твардовского подтверждало, что Игорь Александрович во мне не ошибся. — Есть писательские способности двух категорий: от учителей, которые можно выработать, и от родителей, с которыми надо родиться. Ваши — от родителей, — говорил мне Сац и сам был высказанной мыслью доволен. Конечно, я слушал это, развесив уши. Он мне много рассказывал о Луначарском, который был, по его мнению, высокообразованным человеком и талантливым драматургом. Автором пьесы «Бархат и лохмотья» и героем эпиграммы, звучавшей так: «Нарком сшибает рублики, стреляя точно в цель. Лохмотья дарит публике, а бархат — Розенель». Был и анекдот о наркоме и двух его дамах — Сац (фамилия) и Рут (имя). Когда привратника спрашивали, где его хозяин, тот (по анекдоту, а может, так и было) отвечал: «Да бог их знает. Они то с Сац, то с Рут». Луначарского Игорь Александрович почитал, но Ленин... Ленин... А я как раз был под впечатлением от другой личности. Я только что прочел какое-то сочинение о бактериологе Владимире Хавкине. Он вырос в России, жил в Бомбее и там разработал вакцину против чумы и холеры. Я сказал Сацу: — Что ваш Ленин по сравнению с Хавкиным, который спас миллионы людей от чумы? — Как вы смеете так говорить! — закричал на меня Сац. — Сравнивать Ленина с каким-то Хавкиным просто смешно. Ленин спас от чумы все человечество. — По-моему, наоборот, Ленин не спас человечество, а заразил чумой. Так сказал я и на всякий случай отодвинулся, потому что Сац, когда у него не хватало аргументов, начинал ребром ладони сильно бить меня по колену, а я ему ввиду разницы в возрасте ответить тем же не мог. В это время раздался звонок, и в нашей комнате в сопровождении Раисы Исаевны объявился поздний гость — Александр Трифонович Твардовский, о котором мы говорили вначале. Он был уже сильно навеселе во всех смыслах, то есть и пьяноват, и весел. Где-то по дороге он прислонился к стене, правый рукав его ратинового пальто от локтя до плеча был в мелу. Снявши пальто и лохматую кепку, пригладив пятерней редкие седоватые волосы, он сказал: — Налейте мне рюмку водки, а я вам за это кое-что почитаю. Рюмка, естественно, была налита. Поставив на колени толстый портфель, Твардовский достал из него оранжевую папку с надписью на ней тиснеными буквами «К докладу», развязал коричневые тесемки. Я увидел серую бумагу и плотную машинопись, без интервалов и почти без полей. А.Т. чуть-чуть отпил из рюмки, надел очки, осмотрел слушателей, и уже тут возникло предощущение чуда. 166 «В пять часов утра, — начал Твардовский негромко, со слабым белорусским акцентом, — как всегда, пробило подъем — молотком об рельс штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать... » Таких начал даже в большой литературе немного. Их волшебство в самой что ни на есть обыкновенности слов, в простоте, банальности описания, к таким я отношу, например, строки: «В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет». Или (другая поэтика) в чеховской «Скрипке Ротшильда»: «Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно». Или вот в «Школе» Аркадия Гайдара (что бы ни говорили теперь, талантливый был писатель): «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах... » Такие начала, как камертон, дающий сразу верную ноту. Они завораживают читателя, влекут и почти никогда не обманывают. Твардовский читал, и чем дальше, тем яснее становилось, что произошло событие, которое многими уже предвкушалось: в нашу литературу явился большой, крупный, может быть, даже великий писатель. *** Десятилетие с середины пятидесятых до середины шестидесятых годов, названное впоследствии «оттепелью», было для литературы весьма урожайно. В поэзии и, с некоторым отставанием, в прозе одно за другим возникали новые имена молодых авторов, которые писали откровеннее и талантливее большинства своих предшественников советского времени. В «Юности», в «Новом мире», в альманахах «Литературная Москва», «Тарусские страницы» появлялись рассказы и повести дотоле неизвестных Юрия Казакова, Бориса Балтера, Василия Аксенова, Анатолия Гладилина, Георгия Владимова, Владимира Максимова, и что ни вещь, то сенсация и разговоры на каждом шагу: «Как? Неужели вы не читали «До свидания, мальчики»?» «А Юрий Домбровский вам не попадался? Вы должны это немедленно найти и прочесть». «Да что вы с вашим Семеновым? Вот Казаков! Это же чистый Бунин!» Толпа талантов высыпала на литературное поле, поражая воображение читающей публики. Таланты писали замечательно, но чего-то в их сочинениях все-таки не хватало. Один писал почти как Бунин, другой подражал Сэлинджеру, третий был ближе к Ремарку, четвертый работал «под Хемингуэя». Но было предощущение, что должен явиться кто-то, не похожий ни на кого, и затмить сразу всех. И вот в «Новом мире», ведущем журнале своего времени, обнаружилась повесть под странным, подходящим больше подводной лодке названием «Щ-854» неизвестного автора с незатейливым псевдонимом «А. Рязанский» и трудно запоминаемой собственной фамилией. У меня потом вертелось в голове: Солнежицын или Соленжицын. Твардовский тоже запомнил не сразу и записал в дневнике: Солонжицын. (Двадцать лет спустя я встретил американца, который, хвастаясь своим упорством, сказал мне, что несколько лет потратил, но все-таки научился произносить правильно фамилию Солзеницкин.) У Твардовского была не очень свойственная советскому литератору черта — он редко, но искренне и независтливо радовался открытым им новым талантам. Влюблялся в автора. Правда, любви его хватало ненадолго. Всех без исключения потом разлюблял. Солженицына тоже. Но в тот вечер он был счастлив, как молодой человек, и влюбившийся, и ответно любимый. Он даже особо не пил, а только пригубливал водку и читал. Читал, останавливался, какие-то куски перечитывал, отдельные выражения повторял. Часто смеялся удачному словцу или фразе. Делая передышку, чтоб слегка закусить, с особым удовольствием обращался к хозяйке: «А подайте-ка мне маслица-хуяслица». Это из повести — употребляемые персонажами выражения, с которыми потом сам же Твардовский боролся. Вообще, надо сказать, он часто боролся с тем, что ему больше всего нравилось. Виктор Некрасов рассказывал, как Твардовский, будучи большим любителем выпить, вычеркивал у него всякие упоминания об этом занятии или смягчал картину: бутылку водки заменял ста граммами, а сто граммов — кружкой пива. В случае с Солженицыным редакция потом настаивала, и автор сравнительно легко согласился заменить «х» на «ф», и стало маслице-фуяслице, фуимется- подымется, но слово «смехуечки» Солженицын долго отстаивал, утверждая, что оно приличное, литературное, образовано корнем «смех» и суффиксом «ечк». Название он тоже долго отстаивал, а потом уступил, и компромисс пошел делу на пользу — «Один день Ивана Денисовича» звучит гораздо лучше и привлекательнее, чем то, что было. Другой вечер Твардовский, насколько мне известно, провел у литераторов Лили и Семена Лунгиных (их квартира была известным в литературной Москве салоном), у них он читал то же самое вслух, и именно там слушал его Некрасов (в своих воспоминаниях Виктор Платонович ошибочно утверждает, что это было у Саца). Сильно за полночь я отвез Твардовского на такси на Котельническую набережную. Пока ловили машину, он говорил мне (и потом многим другим), что повесть будет трудно напечатать, но зато, если удастся (а он на это надеялся, считая, что хороших вещей, которые нельзя напечатать, не бывает), потом все будет хорошо. — Хотите прогноз? — сказал я. — Повесть вы напечатаете, но потом общая ситуация изменится к худшему. Я никогда не выдавал себя за пророка и отвергал попытки (немалочисленные) моих почитателей приписать мне дар ясновидения (в других ясновидцев тоже не верю ни в одного, включая Иоанна Богослова и Нострадамуса, не говоря о ныне живущих). Но, наверное, я все-таки умел думать, видеть и понимать реальные тенденции и возможное направление их развития. Поэтому кое-что иногда предугадывал. В описываемое время я видел, что события (как и раньше в российской истории) развиваются по законам маятника. Сталинский террор был одной стороной амплитуды, хрущевская оттепель приближалась к другой. Преемники Сталина, устав пребывать в постоянном страхе за собственную жизнь и видя все-таки, что страна гниет, согласились на ограниченную либерализацию режима, но вскоре заметили, что удержать ее в рамках трудно, она стремится к завоеванию все новых позиций и дошла уже до пределов, за которыми неизбежно 167 изменение самой сути режима. А они в режиме жить боялись, а вне его не умели. Режим мог держаться на вере и страхе. Теперь не было ни веры, ни страха. Народ распустился. И в первую очередь писатели и художники, которые имеют обыкновение распускаться прежде других. Пишут и говорят что хотят. Уже критикуют не только Сталина, но и всю советскую систему. И Ленина. Пренебрегают методом соцреализма, свои какие-то «измы» придумывают. Надо, пока не поздно, дать по рукам. Для себя сталинские строгости отменить, для других вернуть в полной мере. Ропот партийных ортодоксов усиливался. Со временем у нас появится много умников, которые с презрением будут относиться к «оттепели», не захотят отличать этот период от предыдущего. Но на самом деле это был колоссальный сдвиг в душах людей, похожий на тот, что произошел за сотню лет до того — после смерти Николая Первого. Может быть, если прибегать к аналогиям, во время «оттепели» людям ослабили путы на руках и ногах, но это ослабление было воспринято обществом эмоциональнее и отразилось на искусстве благотворнее, чем крушение советского режима в девяностых годах. Литература «оттепельных» времен явила впечатляющие результаты, а полная свобода, пришедшая с крахом советского режима, по существу, не дала ничего, что бы явно бросалось в глаза. Но я о маятнике. В 1962 году он еще двигался в сторону либерализации, но очень было похоже, что скоро дойдет до предела, а пределом, возможно, и станет — если будет напечатано — антисталинское сочинение Солженицына. Так и случилось. Публикация солженицынского сочинения произвела в обществе такой переполох, какого, может быть, никогда никакое литературное сочинение не вызывало. Скромная по размерам повесть (сам автор называл ее рассказом), напечатанная в 11-м номере «Нового мира» за 1962 год, задела за живое всех. Одни радовались ее появлению безоговорочно. Другие считали, что тема затронута важная, но действительность слишком уж неприглядная, герой неактивный, а язык грубый. Третьи просто негодовали. Возмущались повестью лагерные начальники, кагэбэшники, прокуроры, судьи, партийные работники и казенные писатели-сталинисты. Повесть подрывала основы системы, в которой, и только в ней, эти люди могли существовать, занимать посты и ощущать себя важными персонами. Воображая себя незаменимыми и необходимыми стране государственными деятелями и художниками, эти люди на самом деле понимали, чего они будут стоить, если партия откажется от руководства. Перепугавшись до смерти, стали стращать Хрущева. Говоря, что свобода художественного выражения, к которой якобы стремятся люди искусства, заводит их далеко, сначала они хотят отойти от метода социалистического реализма, а потом от социализма вообще. В пример часто приводились Польша и особенно Венгрия, где все началось с литературного кружка и стихов Петефи, а кончилось вешанием коммунистов на фонарях. В конце концов ортодоксы добились своего: Хрущева застращали, и он сначала устроил истерику на выставке в Манеже, где на «неформальных» художников топал ногами, обзывал их «пидарасами», угрожал выгнать за границу или загнать в лагеря. Потом серией пошли так называемые идеологические совещания в Кремле, ЦК и МК, где громили опять писателей, художников, кинорежиссера Марлена Хуциева за безобиднейший фильм «Застава Ильича» и отдельно Виктора Некрасова, оценившего этот фильм положительно. *** Я был человек провинциальный, молодой и непуганый. Хотя тоже подвергся уже проработке. Тогдашний главный партийный идеолог Леонид Ильичев обругал как политически вредный мой рассказ «Хочу быть честным» («Новый мир» №2, 1963). Его возмутила попытка автора изобразить дело так, будто в нашей стране (в нашей, а не в какой-нибудь «тамошней»!) честному человеку труднее жить, чем нечестному. Слова идеологических вождей советская пресса воспринимала, как обученные собаки команду «Фас!». По команде немедленно появились в центральных газетах гневные статьи, написанные якобы трудящимися: «Точка и кочка зрения», «Литератор с квачом», «Это фальшь!», так что надо мной тоже тучи сгущались, но меня это по неразумению особо не беспокоило. Наоборот, мне при моем неуважении к власти даже лестно было быть опальным. Хотя я не совсем понимал, что их так уж беспокоит в моих писаниях. Приглашенный на совещание второго уровня (его вел секретарь МК Николай Егорычев), я пришел туда, сел рядом с Давидом Самойловым и Юрием Левитанским, стал что-то острить по поводу речи ведущего и помню, как оба поэта посмотрели на меня испуганно и недоуменно. Они- то, в отличие от меня, были битые или видели, как были биты другие, и помнили, что вологодский конвой шуток не понимает. Короче говоря, повесть Солженицына стала не только литературным явлением, но политическим и историческим событием. Она вселила надежды в одних, страх в других, а страх бывает порой причиной смелых поступков, каким был заговор партийной верхушки против Хрущева. Кажется, в списке обвинений при свержении Хрущева в 1964 году публикация «Ивана Денисовича» не значилась, но у меня нет сомнений, что она была не последней причиной объединения заговорщиков. Но я забежал вперед. А теперь — назад. Я отвез Твардовского домой и по дороге просил его дать мне почитать рукопись этого Соло... как его? ... хотя бы на один день. — Не на один день, а на два часа, — сказал Твардовский, — и не дома, а в редакции. — Хорошо, — сказал я. — Никуда не вынося и не делая никаких записей. На то и другое я согласился охотно. Вынести рукопись для прочтения дома я был не прочь, а делать записи мне бы и в голову не пришло. Я надеялся на том же такси добраться до дома, но водитель сказал, что его смена кончилась и он едет в парк. Пришлось мне ловить машину встречного направления, и я поймал другую, которая как раз шла из 168 парка. С зеленым огоньком. Хотя в ней рядом с шофером уже сидел пассажир, крупного сложения мужчина в белом полушубке и в белой бараньей шапке. Я сел сзади, сказал шоферу, куда ехать, и только теперь он включил счетчик, предупредив, что довезет меня с небольшим крюком: «Вот только товарища до Земляного Вала подкинем». После этого я сидел сзади, а они между собой разговаривали громко, и я понял, что товарищ — начальник колонны — возвращается с ночной смены домой. И все было бы ничего, но из этого же разговора я понял, что до работы в такси товарищ где-то на Урале служил в лагере каким-то начальником, был в связи с новыми веяниями и массовыми реа-билитациями из МВД уволен и ему это очень не нравилось. Не нравилось, что теперь все говорят о каких- то репрессиях, все валят на Сталина и плетут о нем черт-те что, а он был мудрый политик и великий полководец, разгромил оппозицию и выиграл войну. С подчиненными бывал порой строговат, но зато в стране был порядок и поезда ходили по расписанию. При нем за прогулы сажали в тюрьму, а уволиться просто так было нельзя. А теперь здесь поработал, туда перешел, везде текучка и нехватка кадров, и даже в такси приходится брать кого попало. Молодежь безобразничает: у девок юбки короткие, у парней волосы длинные, а на прошлой неделе тестя умершего хотел сжечь в крематории, так там работает только одна печь и жгут только одних евреев. Я таких разговоров слышал много, но сам в них, как правило, не встревал. А тут под впечатлением от только что услышанного шедевра и от разговора с Твардовским, я сильно вдруг разволновался и разозлился, постучал в спину водителю, как в дверь, и попросил его остановиться. А потом сказал сидевшему справа: — А ты вылезай! Тот удивился: — Что? — Вылезай! — повторил я. — Вылезай, сталинист, антисемит, вертухайская морда, давай вылезай! — Да ты что? — растерялся шофер. — Ты что это говоришь? Это же мой начальник колонны. — Ах, начальник колонны! Начальник, а пользуется казенным транспортом бесплатно. При Сталине тебе бы за это знаешь что было? Вылезай! — повторил я и толкнул его в спину. Я в молодости способен был на сумасбродства, но, в общем, другого рода, а этот поступок удивил меня самого задним числом. Я удивился тому, во-первых, что ночью напал на двух мужиков, которые оба были здоровее меня и могли сделать из меня отбивную, и тому, во-вторых, что начальник колонны, побурчав что-то себе под нос, вдруг подчинился, вылез из машины и пошел вдаль, подняв воротник полушубка. А шофер по моему приказанию поехал дальше. При этом тоже что-то бурчал и поглядывал на меня через зеркало заднего вида. А я протрезвел и забеспокоился. Вдруг шофер заметит, что я не такой уж богатырь, и попробует помериться силами. На всякий случай, уподобившись чеховскому персонажу, я сказал ему, что я чемпион Европы по боксу и одним ударом убиваю быка. Его, как ни странно, это не испугало, а, наоборот, успокоило — раз чемпион, значит, наверное, не бандит. — А как ваша фамилия? — спросил он почтительно. — Соложенов, — сказал я, и он удовлетворился и даже сказал, что что-то слышал. Когда он меня довез, счетчик показывал меньше двух рублей. У меня была десятка, а у шофера — только что из парка — не оказалось сдачи. — Ну привезешь, когда накопишь, — сказал я. И что ему стоило согласиться и уехать навсегда? Но он сказал, что приехать не сможет и, если нет выхода, готов считать, что довез меня бесплатно. Я, однако, на это не пошел, дал ему десятку без сдачи, заметив, что у меня сегодня особый радостный день. В те годы я ложился очень поздно и вставал соответственно. А когда вышел в коридор, от соседей по коммуналке узнал, что рано утром какой-то таксист искал какого-то боксера, чтобы вернуть ему сдачу. Но, поскольку соседи никаких боксеров в нашей квартире не знали, шоферу пришлось уехать ни с чем. Всю повесть «Щ-854» я прочел залпом, получив ее в «Новом мире» из рук Анны Самойловны Берзер, которую я по дружбе называл Асей. Она уже давно (первая в «Новом мире») прочла повесть и передала Твардовскому, но ни одного из самых близких своих друзей не посвятила в редакционную тайну, пока ее не раскрыл сам шеф. Теперь она с удовольствием дала мне рукопись. Я заперся в одном из пустых кабинетов, прочел все залпом, пришел в еще больший восторг, чем накануне, и впервые от сочинения русской литературы моего времени. С того дня и почти на тринадцать лет Солженицын стал сильнейшим впечатлением моей жизни. И не только моей. *** Первый раз я увидел его со спины. Мне помнится, он был в дешевом костюме и, кажется, в парусиновой фуражке. Он входил в кабинет Твардовского вместе с Алексеем Кондратовичем, заместителем главного редактора. Оба двигались как-то медленно, мне даже показалось, что он шаркает ногами, а Кондратович его поддерживает, чтобы он не упал. Моя фантазия дорисовала образ прошедшего лагеря и прибитого ими немощного беззубого старика. Через некоторое время Кондратович вышел и стал с восторгом рассказывать: «Ничего не уступает. Название повести не хочет менять. С «фуимется» согласился, но «смехуечков» не отдает. Мы ему говорим, что тогда мы не сможем его напечатать, а он говорит: и не надо, я ждал признания тридцать лет и еще подожду». В «Новом мире» упрямых авторов уважали. Все были в восторге от того, как он пишет, как держится и что говорит. Говорит, например, что писатель должен жить скромно, одеваться просто, ездить в общем вагоне и покупать яйца обыкновенные по девяносто копеек, а не диетические по рублю тридцать. Я выслушивал это (в передаче Кондратовича) с почтением и молчаливым самоукором. Сам я уже разбаловался, к родителям предпочитал ездить в купейном вагоне, а 169 яйца покупал какие попадались — разница в сорок копеек мне не казалась существенной (хотя еще недавно и самые дешевые яйца не всегда были мне по карману). Все доходившие до меня высказывания Солженицына я воспринимал как очень мудрые, но одно немного смутило. Ахматова, с которой А.И. тогда встретился, сказала ему как будто: «Вас ждет испытание большой славой, не знаю, вынесете ли вы его». На что он вроде бы ответил: «Я вынес и не такое». Мне этот ответ слишком умным не показался. Испытание лагерем так или иначе вынесли миллионы. А испытание славой, как я догадывался, было гораздо коварнее. Между тем Твардовский в порядке «пробивания» «Ивана Денисовича» делал какие-то хитроумные тактические ходы, которые были возможны и даже казались нормальными только в такой системе, какой была советская. Он понимал, что просто напечатать повесть вряд ли удастся, это может произойти только с высочайшего соизволения, и искал случая передать рукопись не кому-нибудь, а лично, как принято было говорить, дорогому товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу. И это было правильно. В советском государстве никто ниже самого главного начальника подобного разрешить не мог. Но еще не дойдя до заветной вершины, Твардовский предлагал «Ивана Денисовича» для ознакомления Маршаку, Чуковскому, Симонову, Эренбургу и другим тогдашним советским «классикам» в надежде, что их мнение будет положительным и для Хрущева авторитетным. Те с охотой письменно отзывались, их восхищенные рецензии складывались в стопочку и ожидали подходящей минуты. На все эти ходы и уловки у Твардовского ушло около года, но в конце концов все разрешилось наилучшим образом. Повесть Хрущеву была передана, прочитана им, одобрена, напечатана, распространилась по всей стране, переведена на все языки, слава на Солженицына обрушилась такая, что не снилась ни одному живому писателю в мире и в истории. Есть люди, которых называют сырами. Это болельщики, но не футбольные, а театральные. У каждого из знаменитых артистов, раньше особенно у оперных теноров, а теперь поп-певцов есть круг горячих поклонников и поклонниц, вот они и есть сыры (женщин называют сырихами). Сыры ходят за своими кумирами по пятам, часами ожидают их у подъездов, мокнут под дождем или мерзнут, чтобы только взглянуть на них хотя бы издалека, посещают все спектакли с их участием, забрасывают их заранее заготовленными букетами, швыряемыми порой с такой яростью, с какой бросают гранату. И кричат, визжат, вопят: «Браво!» Как бы кумир ни пел или ни играл — «браво» и только «браво». Они не всегда могут отличить хорошее от плохого, они приходят в восторг только от появления на сцене своего любимца, и каждое его движение или слово приводит их в такое волнение, как будто на их глазах творится неповторимое чудо. Я знал одну сыриху-лемешистку, то есть помешанную на оперном певце Лемешеве. Она жила в коммунальной квартире, работала инженером на заводе, получала скромную зарплату, вела аскетический образ жизни, ходила во всем штопаном и чиненом, но бывала на всех спектаклях с участием любимого тенора и всегда с цветами, которые стоили недешево. Где она брала на все это деньги, не знаю. Знаю только, что, если приходилось ей в день спектакля отсутствовать по каким-то причинам, она поручала кому-то из таких же сумасшедших купить букет и швырнуть под ноги кумиру. Она была миловидная женщина, но все ухаживания отвергала и замуж не вышла, хранила верность Ему, который вряд ли подозревал о ее существовании. Предметами культового обожания бывают артисты эстрады, театра и кино, но еще больше политические деятели. Одна женщина, вполне разумная и с чувством юмора, рассказывала мне, как в сороковом году, будучи молоденькой девушкой, шла в колонне демонстрантов по Красной площади, с восторгом смотрела на Сталина и думала: «Сказал бы он сейчас: умри за меня немедленно, немедленно бы и с радостью умерла». Восторг в глазах с готовностью немедленно умереть за кумира я видел в кино или живьем, когда толпы приветствовали Гитлера, Сталина, Мао, Кастро, Ельцина. Немецкие сырихи кидались под машину Горбачева с таким же восторгом (и некоторые с воплем: «Хочу от него ребенка!»), с каким их бабушки — под автомобиль Гитлера. (Я, разумеется, не ставлю на одну доску Гитлера и Горбачева, ставлю фанатичек. Их вера может быть разной в разное время, но проявления всегда те же.) Трудно сравнивать культ вождя, поддерживаемый государственной пропагандой, армией и карательными органами, с бескорыстным или почти бескорыстным культом писателя или артиста (часто не благодаря пропаганде, а вопреки), но в основе обоих лежит что-то общее. Общее состоит в романтическом преувеличении заслуг, душевных качеств, ума, способностей и деяний кумира и в непризнании или в недостаточном признании за собой не то что прав, а даже и свойств отдельной и суверенной личности. В те годы Солженицын был идолом читающей публики. До некоторой степени и моим. Романтическим побуждениям я был очень не чужд, хотя сам в себе этого не любил и выдавливал из себя романтика по капле, как раба. Я был склонен к патетике, которая у меня часто прорывалась в устной речи, но мало встречается в письменной, откуда я ее старательно изгонял или подавал как достойные насмешки мысли и поступки персонажей. Но и признаки скептицизма присутствовали в способе моего осмысления мира, не давая мне впасть в какую-нибудь веру или ересь безоговорочно. В данном же случае соблазн сотворения кумира все-таки мной овладел. Преклонение человека перед личностью, группой людей, учением, политическим устройством бывает столь активным, что превращается в род душевного заболевания, которое я в зависимости от предмета поклонения называю идолофренией, измофренией или в данном случае — солжефренией. Мои встречи с Солженицыным были случайными, мимолетными, но я их запомнил, вероятно, все. Первый раз не со спины я встретил его в коридоре того же «Нового мира». Я вошел с улицы и сразу же у дверей увидел Владимира Тендрякова, с которым дружил. Он разговаривал с кем-то, меня остановил, вот познакомься, я протянул руку и, еще не дотянув, понял: это и есть Солженицын. Он был простоват лицом, гладко брит и вовсе не немощен, как мне показалось вначале, а, наоборот, моложав, розовощек и, видимо, полон сил. Ногами не шаркал. И никак не походил на мрачного и согбенного зэка с разошедшейся уже фотографии с номерами на груди, на колене и на фуражке, похожей на те, что носят теперь русские генералы 170 в Чечне. Он широко и радостно улыбался, обнажая красивые ровные зубы, и производил впечатление открытого, доступного для общения человека. Потом я встречался с ним еще несколько раз в «Новом мире», дважды в Доме литераторов: на обсуждении «Ракового корпуса» и на вечере Константина Паустовского. Один раз вместе с Солженицыным и Твардовским я выступал в Доме учителя и помню, как было обставлено появление Александра Исаевича. Он был привезен и отправлен обратно на машине Твардовского (сам Твардовский добрался на такси). Приехал, сразу получил слово, сказал что-то значительное о миссии учителя и уехал. Все понимали, что человек серьезный, его время не то что наше, стоит дорого. А наше не стоит, в общем-то, ничего. Пока он был среди нас, мы все держались, как младшие по званию. Почтительно и напряженно. А Твардовский — как деревенский отец, воспитавший далеко пошедшего сына. Когда же Солженицын отъехал, все, вздохнувши, расслабились. Но его недавнее присутствие еще ощущалось. Я перед учителями выступал неуверенно, сомневаясь, стоят ли мои пустые слова с потугами на юмор чего-нибудь на фоне наставительной речи рязанского великана. На вопрос, над чем я работаю, я от волнения сказал: «Над романом «Один день Ивана Чонкина», хотя название еще не написанного романа было тогда «Жизнь солдата Ивана Чонкина». Тот вечер мы закончили в ресторане «Ереван», где официанты, узнав Твардовского, сбивались с ног, чтоб ему угодить. Никогда я всерьез с Солженицыным не общался, но иной раз на ходу словцом перемолвиться приходилось. Как-то он похвалил мою повесть «Два товарища» с оговоркой, что в ней — романтика тридцатых годов. Я отчасти согласился (хотя для меня лично это была романтика моей юности в пятидесятых годах) и был при этом удивлен и польщен (немного), что «сам» Солженицын утруждал себя чтением моего текста и, значит, потратил на него сколько-то своего драгоценного времени. Другой раз я в шутку предложил ему (наступали суровые времена) войти в якобы создаваемую мною из писателей бригаду строителей-шабашников, он выразил (тоже в шутку) готовность и сказал, что может в нашей бригаде работать паркетчиком. В третий раз он попросил у меня сигарету. Я удивился: «Неужели вы курите?» (Я думал — уважительно, — что ничто человеческое ему не свойственно.) Он улыбнулся смущенно и сказал: «Иногда, когда не работаю». В четвертый раз я сморозил нечто такое, о чем потом долго не мог забыть. Дело было все в том же «Новом мире», вероятно, в начале 1970 года. Заглянув туда с какой-то попутной целью, а скорее всего без нее, я сидел в отделе прозы, общался с Асей Берзер и Инной Борисовой, когда зашел туда Солженицын, уже, перед Нобелевской премией, очень знаменитый, в заграничной вязаной кацавейке и с рыжеватой, только что им отращенной «шкиперской» бородой без усов (как мне потом подумалось, приспосабливал лицо к западным телеэкранам). «Ну и как?» — спросил он удам, вертя головой, чтобы можно было рассмотреть обрамление со всех сторон. Дамы захлопотали, рассыпались в комплиментах: «Ах, Александр Исаевич, у вас такой мужественный вид!» И тут черт меня дернул за язык. Моего мнения никто не спрашивал, а я возьми и скажи: «Александр Исаевич, не идет вам эта борода, вы в ней похожи на битника». Он ничего не ответил, но так гневно сверкнул на меня глазами, что я подумал: этой фразы он никогда не забудет. Я, правда, не знал тогда, что этой бородой его очень корил Твардовский, подозревая, что она отращивается для маскировочной цели. Например, для такой. Солженицын даст всем возможность привыкнуть к новому облику, а потом неожиданно сбреет бороду и, никем не узнанный, убежит за границу. Велика и своеобразна фантазия советского человека! *** Слава Солженицына с самого первого его появления росла ровно и круто. «Один день Ивана Денисовича» неуклонно наращивал тиражи: журнал, отдельная книга, роман-газета. А вскоре в «Новом мире» появились одно за другим «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Захар Калита», «Для пользы дела». Не успели мы это переварить, как подошли еще два романа (неизданных, но тут же распространившихся в самиздате): «В круге первом» и «Раковый корпус». За ними посыпались «крохотки». Мы все это немедленно заглатывали, и все, кого я знал, восхищались безграничным и безупречным талантом автора, охали и ахали, и я, захваченный общим восторгом, тоже охал и ахал. Сразу же было приложено к нему звание (все слова с большой буквы) Великого Писателя Земли Русской. Некоторых и до него высоко ценили, но не настолько же. Про Некрасова, Домбровского, Казакова, Аксенова, Владимова, Искандера или еще кого-то (иной раз и про меня) время от времени говорили «писатель номер один», но этот сразу поднялся над всеми первыми номерами и был единственным не таким, как все, и великим. Лев Толстой — меньшей фигуры для сравнения ему не находили и стали говорить, что все у нас в литературе и в общественной жизни переменилось, перевернулось, при таком матером человечище уже нельзя писать постарому, да и жить, как раньше, нельзя. Чем дальше, тем больше было о нем разговоров в кругах научной и художественной интеллигенции, да и не только в них. Партийные идеологи забеспокоились и, как только избавились от Хрущева (1964), вступили в борьбу с Солженицыным. Смысл борьбы состоял не только в том, что власть боялась распространяемой писателем правды, а еще и в том (это было важнее), что в Советском государстве никто не должен был быть умнее ныне живущего генерального секретаря ЦК КПСС и иметь большее влияние на умы, чем сам генсек и основоположники марксизма-ленинизма. Это влияние партией устанавливалось, дозировалось, и при нарушении дозировки вожди КПСС начинали тревожиться. В собственных рядах слишком популярных 171 (Троцкого, Бухарина, Кирова) при Сталине убивали, при Хрущеве и Брежневе отправляли куда-нибудь подальше послами. С непартийными авторитетами было сложнее, но и с ними справлялись. И вдруг появился человек, который затмил Маркса-Энгельса-Ленина, Хрущева и Брежнева. К тому же он оказался (не сразу) как будто совсем неуправляемым. Все попытки справиться с ним проваливались, а ему были только на пользу. Советская власть объявила ему войну, и, казалось, у него нет никакого выхода, кроме полной и безоговорочной капитуляции. Но, ко всеобщему удивлению, он руки не поднял, на колени не встал, а принял бой, и, как выяснилось, вовсе не безнадежный. Чем круче с ним боролись, тем больше он укреплялся, и мы, жители того времени, с удивлением наблюдали, как государство, которое еще недавно потопило в крови Венгерскую революцию, раздавило танками Пражскую весну, в стычке у острова Даманский проучило китайцев, с ним, одним-единственным человеком, ничего не может поделать. Как было не восхититься таким могучим талантом, богатырем, отважным и непобедимым героем? Советскую власть образца 70-х годов Андрей Амальрик сравнивал со слоном, который хотя и силен, но неповоротлив. Ему можно воткнуть шило в зад, а пока он будет поворачиваться, чтобы ответить, забежать сзади и воткнуть шило еще и еще. Так примерно поступал со слоном Солженицын. Власти боролись с ним естественным для них способом, то есть наиболее глупым. Перестали печатать, прорабатывали на закрытых заседаниях, распространяли ложь и клевету и слухи, что он одновременно и еврей, и антисемит, проклинали в газетах от имени рабочих, колхозников, интеллигенции, всего народа и сделали все, чтобы он стал знаменит и поэтому неуязвим. В 1969 году его исключили из Союза писателей. В подобной ситуации другие — Ахматова, Зощенко, Пастернак — умолкали, впадали в депрессию и во всех случаях были в проигрыше. А этот на удар отвечал ударом, давая понять, что ничего никому не спустит и готов на все. Литераторы, пугавшиеся до инфаркта малейшей критики на собрании или в газете, не веря своим глазам, читали и восхищенно повторяли спокойное обещание великого коллеги, что свою писательскую задачу он выполнит при всех обстоятельствах, «а из могилы — еще успешнее и неоспоримее, чем живой». Потом он пошел еще дальше, сказав, что за правду не только свою жизнь отдаст, но и детей малых не пожалеет. Некоторых людей его готовность к подобным крайностям даже шокировала, но других привела в неописуемый восторг. Его слова передавались из уст в уста: иностранные журналисты разносили их по всему миру. В те времена, какую западную станцию ни поймаешь, главной новостью был Солженицын. Портреты его в начале семидесятых годов украшали квартиры многих московских интеллигентов, потеснив или вовсе вытеснив прежних кумиров: Маяковского, Пастернака, Ахматову и Хемингуэя. Солженицын был очень опальный, поэтому каждый держатель портрета не только выражал свое восхищение им, но и сам как бы демонстрировал приобщение к подвигу. Наиболее отчаянные поклонники помещали его изображения за стеклами книжных полок или вешали на стену на видное место. Почитатели поскромнее и поосторожнее ставили на письменные столы перед собой маленькие в стеклянных рамочках фотоснимки — и вкуса больше, и убрать в случае чего легче. Я портретов его не держал, рукописей не перепечатывал, но распространял его сочинения активно среди московских знакомых и возил своим родственникам в провинцию. Еще во время дела Синявского и Даниэля я заметил, что советская власть в поисках поддержки ее действий против неугодной ей личности согласна на малое. Скажите про опального человека что-нибудь плохое, что вы о нем знаете или думаете, что он антисоветчик, ненавидит все советское, еще лучше — все русское, а еще лучше — самое обидное, — что пишет плохо. Говорите так где-нибудь, хоть на чьей-нибудь кухне, шепотом, и это будет до нужных ушей донесено, замечено и отмечено. Если вы жертву режима осуждаете, хотя бы морально, за какие-то проступки или недостатки характера, то тем самым уже, хотя бы частично, признаете и уголовные обвинения против него. Обороняясь от соблазна согласиться с властью, пусть даже в мелочах, я давил в себе все сомнения, которые все-таки во мне возникали. В то время, когда травили Солженицына, я и сам был в числе гонимых. Меня преследовали не так шумно, но вполне зловеще. Втихомолку расправиться с человеком всегда легче, чем на глазах, тем более на глазах всего мира. Василий Гроссман про себя говорил, что его задушили в подворотне. Угроза быть задушенным в подворотне (может быть, даже буквально) висела и надо мной. В 1968 году я получил в Союзе писателей первый строгий выговор с предупреждением, в 1970-м — второй с последним предупреждением. Мои книги были запрещены. Обвинения, против меня выдвигавшиеся, по тогдашним меркам и при моей еще малой известности вполне «тянули» на большой лагерный срок. И именно в этот период я неоднократно и резко выступал в защиту Солженицына, пользовался любым случаем, чтобы сказать публично, что он великий писатель, великий гражданин, и только это и, разумеется, без намека на критику. При этом сомнения мои накапливались, а после прочтения «Архипелага ГУЛАГ» умножились и окрепли, но, правда, тоже не сразу. Потому что как раз в это время над автором разразилась гроза. В сентябре 1973 года кагэбэшники в Ленинграде схватили одну из добровольных помощниц Солженицына — Елизавету Воронянскую, заставили выдать хранившуюся у нее рукопись «Архипелага ГУЛАГ», после чего Воронянская тут же повесилась. Рукопись была конфискована. Солженицын сделал заявление иностранным корреспондентам, начался опять шум на весь мир, скандал, который власти, не соображая, что творят, раздували чем дальше, тем больше. 13 февраля 1974 года на пике скандала Солженицын был арестован. Как раз в это время пришла мне повестка на мое исключение из Союза писателей, которое должно было состояться ровно неделей позже (20 февраля). В числе наиболее тяжких вин перед народом значились публикация «Чонкина» за границей, мои сатирические письма, выступления в защиту разных людей, и особенно — в защиту «литературного власовца» Солженицына. Мне самому грозила судьба невеселая. Но 172 арест Солженицына настолько меня возмутил и взволновал, что переживания по поводу собственных дел у меня отошли на второй план. Я включал радио, перескакивал с волны на волну и испытывал тревогу, как при начале войны. Я не сомневался, что арест Солженицына — это только начало, дальше они с ним сделают чтото ужасное. Может быть, даже убьют. А затем повторится у нас в полном объеме 37-й год. Это было не только мое ощущение. Мир захлебывался от негодования. В эфире на всех языках бесконечно повторялось одно имя: Солженицын, Солженицын, Солженицын... В Европе готовились массовые демонстрации и митинги у советских посольств. Советских представителей забрасывали гнилыми помидорами и тухлыми яйцами. Раздавались призывы жителей западных стран к своим правительствам порвать все отношения с Советским Союзом. И вдруг — неожиданный потрясающий поворот сюжета. Примерно как в фильме Спилберга «Список Шиндлера», когда в бане лагеря уничтожения евреев из душевых леек на голых людей вытекли не клубы смертоносного газа, а струи теплой воды. Продержав в Лефортове одну ночь, арестанта, живого, здорового, в казенной пыжиковой шапке, доставили на Запад прямо под ослепительный свет юпитеров. Некоторые потом завистливо иронизировали, что высылка Солженицына была гениально разработанной пиаровской акцией. Но она не была, а оказалась, из иронистов мало кто решился бы на подобный «пиар» без гарантированного хеппи-энда. Солженицын всерьез шел на смерть, и (теперь можно и пошутить) не его вина, что его не убили. Но небывалый шум вокруг его имени отвлек внимание от других, не столь громких имен, чем гэбисты вряд ли упустили возможность воспользоваться. Я говорю не о себе, а о тех, кто был в гораздо худшем, чем я, положении. Солженицына за то, что он написал, выслали на Запад, а людям неизвестным только за чтение его книг давали тюремные сроки. Я был более защищен, чем эти люди, но мне мои преследователи говорили, что я не Солженицын и напрасно надеюсь, что со мной будут «чикаться» так же. Я не надеялся, и меня ровно через неделю исключили из Союза писателей и дальше семь лет пытались расправиться со мной «по-тихому». Поняли наконец, что шумная травля привлекает к жертве большое внимание и делает ее до некоторых пределов менее уязвимой. По силе воздействия на умы «Архипелаг ГУЛАГ» стал в один ряд с речью Хрущева на XX съезде КПСС. Что бы ни говорили о художественных достоинствах «Архипелага», сила его не в них, а в приводимых фактах. И в страсти, с которой книга написана. Говорят, что в литературе иногда страсть может стать подменой таланта и даже казаться им. Сочинения Солженицына можно очень условно разбить на три категории: 1) много таланта, а страсть в подтексте; 2) страсти больше, чем таланта; и 3) ни того, ни другого не видно. «Архипелаг ГУЛАГ» — книга страстная, появилась в такой момент и в таких обстоятельствах, когда миллионы людей оказались готовы ее прочесть, принять и поверить в то, что в ней говорилось. Бернарду Шоу врач- окулист однажды сказал, что у него нормальное зрение. «Такое же, как у большинства?» — спросил Шоу. «Нет, — сказал врач, — не такое. Нормальное зрение у людей встречается очень редко». И это правда. Большинство советских граждан, существуя в кошмарном тоталитарном террористическом государстве, были уверены, что живут в самой счастливой и свободной стране, «где так вольно дышит человек». Для того чтобы избавиться от своих иллюзий, им нужен был кто-то, кто бы (сначала Хрушев, а потом Солженицын) открыл им глаза на то, чего они сами не видели. Эта книга перевернула сознание многих. Но не всех. Мое сознание осталось не перевернутым. Сначала я был взволнован мировым шумом и угрозой, нависшей над автором, но угроза прошла и шум утих, и я стал думать: а что нового для меня в этом сочинении? Художественных открытий, о которых говорили на каждом шагу, я в нем не нашел. Судьбы разных людей описаны неплохо, но главное, что в них впечатляет, — сами судьбы, а не сила изображения. Что еще? В террористической сущности советского режима я давно не сомневался, знал, что злодеяния его неслыханны, читал рассказы Шаламова, мемуары Евгении Гинзбург и другие свидетельства, но и до того кое-что видел своими глазами. Мне было 4 года, когда посадили отца. В 11 лет я работал рядом с заключенными на полях совхоза Ермаково под Вологдой. В 17 в Запорожье — плотником на стройке, наравне с заключенными: каменщиками, подсобными рабочими, бригадирами. С некоторыми из них, сидевшими по 58-й статье (56-й украинского кодекса), я тесно общался и не имел причин сомневаться в том, что они сидят ни за что. Даже о бандеровцах и власовцах я кое-что уже знал из личного общения с заключенными, а книгу Казанцева о власовцах «Третья сила» прочел раньше «Архипелага». Конкретные человеческие истории в «Архипелаге» мне были интересны, но после всего виденного и слышанного не потрясали. А что касается страшной статистики, то в цифры — сколько именно миллионов людей было режимом угроблено или прошло через лагеря — я готов был поверить любые. Тем более что, по моему мнению, жертвами режима, физическими или психическими, были все сотни миллионов советских людей. Поголовно. И те, кто этот режим основал, и те, кто сидел в лагерях, и кто сажал, и кто охранял, и кто сопротивлялся, и кто помалкивал. Безумные старухи, что до сих пор выходят на улицы с портретами Сталина, они тоже жертвы режима. Как сказано у Пастернака: Наверно, вы не дрогнете, Сметая человека. Что ж, мученики догмата, Вы тоже — жертвы века. «Архипелаг ГУЛАГ» сознания моего не перевернул, но на мнение об авторе повлиял. Оно стало не лучше, а хуже. 173 Я ведь до сих пор держал его почти за образец. Пишет замечательно, в поведении отважен, в суждениях независим, перед начальством не гнется и перед опасностью не сгибается, всегда готов к самопожертвованию. Сравнивая себя с ним, я думал с горечью: «Нет, я гак не умею, я на это не способен». Я сам себя уличал в робости, малодушии и слабоволии, в стремлении уклониться от неприятностей и в том, что свою неготовность пойти и погибнуть за что-нибудь пытался оправдать семьей, детьми, желанием написать задуманное и — самое позорное — желанием еще просто пожить. Я смотрел на него, задравши голову и прижмуриваясь, чтоб не ослепнуть. Но вот он стал снижаться кругами и вопреки законам оптики становился не больше, а меньше. Меня не столько то смутило, что он под псевдонимом Ветров подписал в лагере обязательство сотрудничать с «органами», сколько возникшее при чтении этого эпизода в «Архипелаге» чувство, что признание выдается за чистосердечное, но сделано как хитроумный опережающий шаг. Воспоминатель поспешил обнародовать этот случай, не дожидаясь, пока за него это сделают его гэбэшные оппоненты. Сам факт меня не смутил бы, если бы речь шла о ком-то другом. Я обычно не осмеливаюсь судить людей за слабости, проявленные в обстоятельствах, в которых мне самому быть не пришлось. Тем более я не поставил бы лыко в строку тому, кто обязательство подписал, но от исполнения уклонился и сам поступок свой осудил. Любого в такой ситуации корить было б не хорошо. Но в данном случае речь ведь идет о человеке, который претендует на исключительную роль непогрешимого морального авторитета и безусловного духовного лидера. Он с особой настойчивостью и страстью попрекает нас в конформизме, обвиняет во всех наших слабостях и грехах, видя себя самого стоящим на недоступной нам высоте. А оказывается, на доступной высоте он стоит. Но претендует на большее. Он от исполнения обязательства уклонился, а в то, что так же могли уклониться другие, не верит. Почему же? Насколько нам известно (и сам он о том свидетельствует), даже и в тех крайних обстоятельствах жизни были люди, которые на подобные компромиссы не шли вообще. Я продолжил чтение и, чем дальше, тем чаще морщился. Арестованный в конце войны офицер Солженицын заставил пленного немца (среди бесправных бесправнейшего) нести свой чемодан. Много лет спустя он вспомнил об этом, написал и покаялся. Но меня удивило: как же не устыдился тогда, немедленно, глядя, как несчастный немец тащит через силу его груз? И если в других случаях я думал, что так, как он, поступить не мог бы, то здесь сам для себя отметил, что так — никогда не хотел бы. А когда он предположил, что, сложись его судьба иначе, он и сам мог бы надеть на себя кагэбэшную форму, я и тут знал, что это не про меня. Мне не по душе было его злорадство при воображении о залезающем под нары наркоме Крыленко (хотя, наверное, был злодей) и тем более не понравилась ненависть автора к так называемым малолеткам. Я сам этих «малолеток» достаточно навидался и бывал ими сильно обижаем, когда (сам малолетка) учился в ремесленном училище. Дети, пережившие войну, детдомовцы, не знавшие родительской ласки, встретившие на своем пути много злых людей, они и сами озверели, стали дерзкими, изощренно жестокими, без малейших склонностей к исправлению. Но взрослому человеку, писателю и предположительно гуманисту, а тем более религиозному, стоило бы этих безнадежных выродков, души их пропащие пожалеть. Они были наиболее несчастными жертвами разоблачаемого Солженицыным режима. Дошел я до описания строительства заключенными Беломорканала и споткнулся на том месте, где автор предлагает выложить вдоль берегов канала, чтоб всегда люди помнили, фамилии лагерных начальников: Фирин, Берман, Френкель, Коган, Раппопорт и Жук. Во времена борьбы с «космополитизмом» советские газеты так выстраивали в ряд еврейские фамилии врачей-убийц или еще каких-нибудь злодеев этого племени. Но неужели среди начальников Беломора вообще не было русских, татар, якутов или кого еще? А если и не было, то надо ж понимать, что эти шестеро, как бы ни зверствовали, были всего лишь усердными исполнителями высшей воли. Истинным вдохновителем и прорабом этого строительства был как раз тот, чьим именем канал по справедливости и назван — Иосиф Сталин. Сначала я попробовал допустить, что список составлен случайно. Писатель привержен правде, и ему все равно — какие фамилии были, те и поставил. А может, он просто не различает и различать не хочет, какие фамилии еврейские, какие нет, может, он выше этого? Но по другим текстам (например, о крестном ходе в Переделкине) видел я, что отличает он евреев от всех других и по фамилиям, и по лицам. А если так, то после Освенцима и Треблинки, после дела врачей-убийц и травли «безродных космополитов» для большого русского писателя, знающего, где он живет и с кем имеет дело, приводить такой список без всяких комментариев не странно ли? Если не понимает, что пишет, значит, не очень умен, а если понимает, значит, другое... У меня к антисемитизму с детства стойкое отвращение, привитое мне не еврейской мамой, а русской тетей Аней. Которая (я уже об этом писал) утверждала, что от антисемитов в буквальном смысле воняет. До поры до времени я при моем почтительном отношении к Солженицыну не мог заподозрить его в этой гадости. Ироническое отношение автора к персонажам вроде Цезаря Марковича («Один день Ивана Денисовича») или Рубину («В круге первом») меня не смущало. Я, естественно, никогда не думал, что евреев надо описывать как-то особенно положительно, и сам изображал смешными и мелкими своих персонажей Рахлина, Зильберовича и кое-кого еще, но тут — да, завоняло. Тут пахнуло и где-то еще — и поглощение всего продукта в целом стало для меня малоаппетитным занятием. Чтение мне только то интересно, за которым я вижу, безусловно, умного и близкого мне по духу собеседника. Здесь рассказчик большого ума не выказал, душевной близости я в нем не обнаружил, и мнение мое об «Архипелаге» оказалось, как теперь принято говорить, неоднозначным. 174 *** Примечание по ходу дела. Я всю эту работу написал вчерне до выхода в свет солженицы некого сочинения «Двести лет вместе» о сосуществовании в России русских и евреев. В книгу эту я заглянул, отношения своего к автору не изменил, но спорить по данному тексту не буду. Мне достаточно прежних его высказываний. Часто в своих сочинениях, особенно в недавно мною прочитанных записках «Угодило зернышко промеж двух жерновов», Солженицын с негодованием отвергает обвинения его в антисемитизме как нечестные и низкие. Он считает проявлением антисемитизма возводимую на евреев напраслину, но не объективное мнение о них (а его мнение, разумеется, всегда объективно). Тем более что за многими евреями не отрицает благих побуждений. Феликса Светова похвалил за то, что тот от имени евреев (а кто ему это доверил?) покаялся перед русскими и счел, что ручеек еврейской крови (не постыдился такое написать) ничто перед морем русской. Удивился благородству Ефима Эткинда и Давида Прицкера: они, два еврея, ему, русскому писателю, помогли ознакомиться с какими-то нужными материалами. Это прямо по анекдоту про доброго Ленина, который, имея в руках бритву, не сделал проходившему мимо мальчику ничего плохого, «а мог бы и полоснуть». Даже в голову писателю не пришло, что эти «два еврея» считают себя русскими интеллигентами и литераторами и, способствуя ему в чем-то, не думали, что помогают чужому, и вовсе представить себе не могли, что заслужили особую благодарность как хорошие евреи. Где Солженицын ни тронет «еврейскую тему», там очевидны старания провести межу между евреями и русскими, между евреями и собой. В упомянутом выше очерке о крестном ходе в Переделкине автор замечает в толпе разнузданной русской молодежи несколько «мягких еврейских лиц» и делится соображением, что «евреев мы бесперечь ругаем», а, мол, и молодые русские тоже ничуть не лучше. Сидя в Вермонте и читая русские эмигрантские газеты, где работают евреи (а в каких русских газетах они не работают?), он называет эти издания «их газеты на русском языке». И это все тем более странно, что так или иначе всю жизнь ведь был окружен людьми этой национальности, чистыми или смешанными (да и жена, а значит, и дети его собственные не без примеси, а по израильским законам и вовсе евреи). Даже те из близких к нему евреев, кого я лично знаю, настолько люди разные, что я затруднился бы объединить их по каким-то общим признакам, не считая графы в советском паспорте. Расизм, антисемитизм, ксенофобия необязательно должны быть осознаваемы самими расистами, антисемитами и ксенофобами и необязательно проявляются в категориях очевидной враждебности. Давно отмечен и высмеян сатириками характерный признак расиста или антисемита: у него есть друг негр или еврей. Не знаю, как насчет негров, а с некоторыми евреями Солженицын (выше сказано) дружбу водит. Но среди особо ценимых им друзей, кому он посвятил самые высокие комплименты, — Игорь Шафаревич. Не просто антисемит, а злобный, таких называют зоологическими. Владимир Солоухин в книге, написанной перед смертью, сожалел, что Гитлеру не удалось окончательно решить еврейский вопрос. Александр Исаевич уважал Солоухина и почтил приходом на его похороны (Булата Окуджаву той же чести не удостоил). Отмеченный Солженицыным весьма положительно, Василий Белов евреев тоже сильно не любит. Сочинил притчу о лжемуравьях (читай: евреях), которые под видом своих влезают в муравейники и, пользуясь доверчивостью истинных муравьев (русских), постепенно пожирают муравьиные личинки, а свои псевдомуравьиные (еврейские) подкладывают, и в результате, понятно, истинные муравьи вымирают, а ложные (только неизвестно, кем они после питаться будут) остаются. Еще и потому Александр Исаевич не считает себя антисемитом, что требования и к русским, и к евреям предъявляет почти равные. Почти! Вину разных наций друг перед другом Солженицын делит не поровну, и одним прощает больше, чем другим, а другим приписывает больше, чем они заслужили. Русские в целом получше других (ненамного), но никого так не обижают, как их. Говорят, что все национальности — существительные (немец, еврей, украинец), а русский — прилагательное. В «Плюралистах» ужасно обиделся на это наблюдение, неизвестно кем сделанное, и спрашивал язвительно: «А как же прилагательные Синявский и Пинский?» Особую обиду нанесли русскому народу «образованны» тем, что собак кличут русскими именами — Фомами, Тимофеями и Потапами (а Джимами, Джеками, Майклами можно?). Неужели великий русский писатель не знает, что в России испокон веков котов звали Васьками, коз — Машками, а свиней — Борьками? Кто-то где-то выдумал, будто американцы изобрели бомбу, способную уничтожать выборочно русских. Бросят бомбу на Москву, она этнических русских поубивает, а остальных пощадит. Наш мыслитель и этой чуши верит, возмущается до глубины души русофобством изобретателей, а от колкостей соотечественников отбивается ссылкой на первоисточник этой глупости. Защищая русских, постоянно оскорбляет всех остальных и сам этого не сознает. Какую национальность ни помянет — украинцев, казахов, татар, чеченцев, — обязательно скажет о ней что-то обидное. Выделяя, кажется, только эстонцев и литовцев — эти у него почему-то хорошие. Отвергая обвинения в недоброжелательстве к другим народам, вспомнил и поставил себе в заслугу, что в «Раковом корпусе» с сочувствием описал страдания умирающего татарина. Но, описывая, помнил, что это именно татарин, а не просто умирающий от рака человек. Подчеркивая постоянно свою русскость и свою заботу только о русских, он уже одним этим разжаловал себя из мировых писателей в провинциальные. Мировой писатель, естественно, привязан к своей культуре и к своему языку, к своей стране и народу, но все люди для него — люди, страдают они все одинаково, и качество крови зависит не от национальности, а от группы, резус-фактора, количества тромбоцитов, 175 эритроцитов, сахара, холестерина и прочих составляющих. Он был уже на Западе, а я еще в Москве, но по возможности внимательно следил за всем, что он писал, делал и говорил. Несмотря на мои сомнения и разочарования, я в целом все еще очень серьезно относился к нему. Огорчился, услышав по радио, что у него депрессия. Удивился ответному его утверждению, что у людей, прошедших советские лагеря, депрессий не бывает. «Что за чушь?» — подумал я про себя. Бывает и еще как! У прошедших через войну, через лагерь и что угодно бывает депрессия. Бывает, что человек, проведя в лагере два десятка лет, не выдерживает испытания свободой, впадает в депрессию вплоть до наложения на себя рук. Через почти семь лет после Солженицына и мне выпала судьба оказаться на Западе. К тому времени подоспели уже очередные «узлы». Я попробовал почитать — не пошло. Скучно! Громоздкий текст с языком, местами вычурным, а местами просто невыразительным, с петитными многословными вставками и выпадающим из стиля неуклюжемодернистским приемом переноса действия на воображаемый экран. «Голос Америки» изодняв день передавал главы вавторском исполнении.Я перестал слушать «Голос Америки». Разумеется, какие-то солженицынские поклонники встретили его «повествование в отмеренных сроках» с восторгом, но в целом эмигрантская пресса растерянно молчала. Сказать, что это хорошо, было по совести невозможно, а сказать, что плохо, долго никто, включая меня, не решался. Не оценив границ своего влияния на умы, Солженицын свою жизнь на Западе начал с разоблачения Запада, укоряя его в том, что он слаб, безволен, не готов отстаивать свою свободу. Говорил уверенно, по собственному выражению, громогласил. И явившись людям в ореоле не бывавшей доныне ослепительной славы, рассчитывал, очевидно, что все его мысли будут восприняты как безусловно истинные и обязательные к исполнению. На соображение его критиков-плюралистов, что «никто не владеет истиной, да и быть ее в природе не может», он возразил: «Убежденность человека, что он нашел правоту, — нормальное человеческое состояние... Сознание, что жизнью своей служишь воле Бога, — здоровое сознание всякого человека, понимающего Бога простым, отнюдь не гордостным сердцем». Не знаю, как насчет сердца, но «гордостным» и чуждым логике сознанием рождена эта мысль. Если право только самого себя на истину признано, всем остальным остается что? — соглашаться и вообще не иметь своего мнения? Но если всякий может быть убежден, что нашел правоту, то всякость эта и есть плюрализм, столь гневно им отрицаемый. Все подвергать сомнению предлагал нам один умный человек, и «я знаю, что я ничего не знаю», говорил другой. И вдруг у нас появился знающий, что он все знает. Если бы мне такие условия, как у Тургенева, вроде бы сказал однажды Достоевский, я бы писал не хуже. Нашему герою после всех мытарств, но еще в расцвете сил выпала удача создать себе условия, почти как у Тургенева. В Вермонте обрел он все, что нужно для плодотворной работы: комфорт, уединение, возможность трудиться «в глубокой тишине, о которой истерзанно мечтал всю советскую жизнь», не прятать рукописи, не думать о быте. «Но еще и укрепил меня Господь тем, что, живя на Западе, я мог быть независим от изводящего и унизительного кружения в чужеземной среде: мне не надо было искать средств на жизнь». Казалось бы, все хорошо, есть чему позавидовать: успокойся, радуйся, живи и пиши. Он и живет, и радуется, и пишет, и нам сообщает, что живет хорошо и пишет прекрасно. «Оглядываясь назад, не могу не признать минувшие шесть лет самыми счастливыми в моей жизни». Спохватился, правда, что, может быть, ему (ему больше, чем другим) не к лицу безоглядно наслаждаться личным счастьем, когда страдает Россия. Внес оговорку: «И безвозвратно уходило время только в том, что безвозвратно изнурялась моя родина». Чувство, очевидно, неискреннее, потому и выражено неуклюже. Как может родина безвозвратно изнуряться, а время уходить только в том, что? Но так или иначе, отметился на ходу в неизбывном своем патриотизме и торопливо поехал дальше удивляться, как он хорош собой. Трудится, не покладая рук, но при этом сам за собой наблюдает со стороны, сам собой восхищается и сам себе ставит высшие баллы по успеваемости и поведению. Работает по восемнадцать часов в день. А кроме того (если помимо работы, то и в 24 часа не уложимся), занятия с детьми — математика, физика, астрономия — и физические упражнения, и теннис, и ныряние с головою в пруд. Живет затворником, не подходит к телефону, не ездит на собственные премьеры, не участвует в конференциях, «в разных сходках и встречах». «Говорят, тут, в Вермонте и рядом, умные так и делают — Роберт Пенн Уоррен, Сэлинджер». Ему, умному среди умных, «дико, как бесплодно кружатся там в нью- йоркском или парижском смерче». Еще и за то себе поставил пять с плюсом, что — «А так—западная жизнь протекала в стороне от меня, не задевая рабочего ритма». Настолько не задевая, что, по свидетельству его ближайшего единомышленника Никиты Струве: «Он жил в Америке как бы не в Америке, он ее не знал. Он жил в лесу, американцев не встречал. Чаще встречал койотов, чем американцев». Про встречи с этими животными Солженицын и сам пишет: «Но кого я ласково люблю — это койотов: зимой они часто бродят по нашему участку, подходят и к самому дому и издают свой несравнимый сложный зов: изобразить его не берусь, а — очень люблю». А говорят еще про меня, что я клеветник! Лидия Корнеевна Чуковская (о ней ниже) гневно меня обличала, что у меня Сим Симыч Карнавалов вечерами слушает (а бессовестный автор над этим смеется) Баха — «Хорошо темперированный клавир»... «А сам по себе — я будто не испытываю хода времени: вот уже третью тысячу дней по единому распорядку, всегда в глубокой тишине... Без телефона в рабочем доме, без телевизора, всегда в чистом воздухе, на здоровой пище американской провинции, ни разу не обратясь по- серьезному к врачам, я и. сегодня как будто не старше тех 57 лет, с которыми сюда приехал, а то и куда моложе. И скорее чувствую себя ровесником не своим сверстникам, а 40 — 45-летним — жене своей (а жена, стало быть — хороший ей комплимент, — в своем возрасте пребывает. — В.В.), как будто с ними весь будущий путь до конца. Ну только, 176 может быть, не бывает лавинных дней, когда вдохновение сшибает с ног, только успевай записывать картины, фразы, идеи. Но даже то молодое чувство испытываю к 64 годам, что еще не окончен мой рост ни в искусстве, ни в мысли». Характерное для автора отсутствие логики. Если вдохновение не «сшибает с ног», то какой же рост в искусстве? Но автор никакого противоречия в собственных словах не замечает. Большое счастье так беззаветно любить самого себя, думал я, читая «Зернышко». Объект любви не отделен от влюбленного. Всегда можно посмотреть в зеркало и увидеть дорогие черты, которые редко кому доступны. В любой момент самого себя лицезреть. «Свет мой зеркальце, скажи и всю правду доложи, я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» Здесь надо заметить, что очень неосмотрительно хвастаться богатырским здоровьем. Долго ли сглазить? Что, очевидно, тут же произошло. Уже в следующей части «Зернышка» о том же самом времени сказано, что именно к 64 годам, а не позже, стал автор «на лестнице что- то задыхаться, сжимает грудь. Сперва и значения не придавал, потом оказалось — это стенокардия. Да еще ж и кровяное давление всегда повышенное. Вот уже и с головой нырять в глубину стало как-то негоже, прекратил». Недугам любого человека можно только посочувствовать. Мне самому в 55 лет так сжало грудь, что пришлось немедленно ложиться на операцию. Все смертные стареют, болеют до тех пор, пока не умрут. Но на фоне рассказа о тревожащих автора недомоганиях не неуместно ли выглядит прямо перед тем высказанное полное довольство собой: какой он молодец, талантище и здоровяк? Смирение незнакомо нашему герою, а оно как бы его украсило! Тем более при постоянном подчеркивании своей религиозности. Выборочные признания о давних поступках (проступках) ставит себе в заслугу. Покается, но тут же отметит (боясь, что другие упустят из виду): вот какой я хороший, я каюсь, а вы? Но покаянные слова его относятся к чему-то, что было тому назад лет с полсотни, а поближе к нашему времени лишь полное удовольствие от своих мыслей, слов и действий. Ни разу не спохватился и не сконфузился, что не то подумал, сказал, сделал, кого-нибудь зря обидел или подвел. И, между прочим, необязательно каяться публично и бить себя кулаком в грудь. Можно устыдиться чего-то, оставить это в себе, но для себя сделать из этого вывод. А о качестве своих текстов когда-нибудь подумал критически? Всякое искусство отличается от большинства других занятий именно тем, что творец его обязан быть своим самым придирчивым критиком и оценивать себя трезво. Когда-то можно и восхититься только что сотворенным («Ай да Пушкин!»), и облиться слезами над собственным вымыслом, и хохотать над ним же безудержно, как это бывало с Гоголем или Зощенко. Но случаются ведь моменты (как же без них?), когда художник ощущает, что «средь детей ничтожных света, быть может, всех ничтожней он», когда сомневается в себе и даже впадает в отчаяние. Бывают же минуты, часы и дни, когда просто не пишется. Или возникает желание отказаться от прежде опубликованного, а что не успел напечатать, — разорвать, растоптать, уничтожить. Пушкин читал свою жизнь с отвращением, Толстой сомневался в ценности своих книг и уличал себя в тщеславии, Гоголь и Булгаков жгли свои рукописи... Неужели ни разу не возникло соблазна совершить что-то подобное? Для писателя самодовольство хуже самоубийства. Собственно, оно само по себе и есть вид творческого самоубийства. Ну ладно, живет он в Вермонте, сам собою любуясь. Работает, ныряет, слушает койотов. И музыку, кстати, тоже: ездит на концерты сына. А есть ли еще какая-нибудь духовная жизнь? Читает ли что-нибудь, кроме материалов для «Красного колеса»? Перечитывает ли русскую классику? Знаком ли с мировой современной литературой? В каком-то давнем интервью сказал, что иностранных авторов читал мало — нет времени. Но, может, потом прочел. А как насчет всяких мыслителей вроде, допустим, Ганди, Паскаля или кого еще? А читает ли кого-нибудь из русских современников? Обозначенный им самим круг чтения не широк и состоит из «деревенщиков» и двух- трех примыкающих к ним. Где-то отметил Владимира Солоухина, Георгия Семенова. Потом: «Умер яркий Шукшин, но есть Астафьев, Белов, Можаев, Евгений Носов. Стоят, не сдаются!.. » Где стоят? Кому не сдаются? В семидесятые-восьмидесятые годы, когда Солженицын и другие писатели были отторгнуты от живого литературного процесса, а самиздат стал чтением опасным и малодоступным, сочинения «деревенщиков» оказались единственной альтернативой казенной литературе. Они были и читаемы публикой, и обласканы властью, противопоставлявшей их «диссидентам». И не стояли, а сидели в президиумах. А Василий Белов еще и в бюро Вологодского обкома КПСС. Распутина государство отметило Ленинской премией и высоким советским званием Героя Социалистического Труда. Да и остальные никакому нападению не подвергались, а когда Солженицына травили и тащили в Лефортово, деревенщики стояли в стороне. Но они пришлись по душе Александру Исаевичу, который, повторяя Можаева, сказал где-то, что они пишут не хуже Толстого, потому что и деревню знают, и высшее литературное образование получили. Следя за ходом дел из Вермонта, он писателей другого круга в России не заметил, а из эмигрантов выделил двоих, тоже крепко стоявших. «Максимов крепко стоит и безупречно выдерживает стержень...» «Достойным особняком стоит в эмигрантской литературе конца 70-х Владимир Максимов... » «Есть (уже никак не «деревенщик», он вообще особняком) очень обещающий Владимов... » Крепко. Особняком. Стоят. А кроме того, что крепко и особняком, какими еще достоинствами отмечены? А можно ли считать обещающим писателя, который приблизился к пенсионному возрасту и существует в литературе лет около сорока. А что пишут крепко стоящие? Как у них насчет языка, сюжетов, метафор и образов? Ну и ладно. Мы их пока там, где стоят, и оставим. 177 «С «Августа» начинается процесс раскола моих читателей, сторонников, и со мной остается меньше, чем уходит, — отметил Солженицын в «Теленке» и продолжил: — На ура принимали меня, пока я был, по видимости, только против сталинских злоупотреблений, тут и все общество было со мной. В первых вещах я маскировался перед цензурой — но тем самым и перед публикой. Следующими шагами мне неизбежно себя открывать: пора говорить все точней и идти все глубже. И неизбежно терять при этом читающую публику, терять современников в надежде на потомков. Но больно, что терять приходится даже среди близких». Начало процесса обозначено точно. Но причину автор не понял. К тому времени, когда он появился, в России уже достаточно было людей, которые в неприятии существующей власти не держались ни за Сталина, ни за Ленина, дошли до этого неприятия своим умом и задолго до Солженицына. Раскол его читателей наметился по причине, самой обидной для автора: он стал писать неинтересно. Может, как раз и на пользу была ему прежде маскировка перед цензурой. «Август Четырнадцатого» я, как и многие, начал читать с предвкушением удовольствия, которое не пришло. «Иван Денисович» и, например, «В круге первом» легко начинались, с первых строк завлекали, заманивали, а тут нас заранее автор предупредил, что запланировано великое и тяжелое дело, которое другим (было указано в предисловии к самиздатскому варианту) «невподым». И чтоб сразу продемонстрировать невподымность, уже во втором абзаце высказана полемическая (в пику официальному атеизму, но доступная любому безбожнику) мысль, что за тысячи лет все люди, если б тащили сюда в одну кучу все, что могли «доотказным раствором рук... не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта». С этого «Хребта» и покатилось «Красное колесо» — эпопея длинная, скучная, как езда на волах по бескрайней, однообразной северокавказской степи. Я первый том через силу одолел, а в остальные, совсем невподымные, только заглядывал, поняв, что эта работа только для очень трудолюбивых. Но вернемся в Вермонт к нашему отшельнику, который работает, работает, просто работает и при этом даже не интересуется, придутся ли его книги «по вкусу западной публике, будут ли их покупать». Неужто, правда, не интересуется? В свое время он оказался фигурой символической, как бы представителем и наследником всех, советской властью затравленных, замученных, забитых и забытых. И единственным выслушанным свидетелем обвинения. Других очень долго не слышали. Книга Юлия Марголина «Путешествие в страну Зэка», одно из первых свидетельств о ГУЛАГе, прошла практически незамеченной. Перебежчика Виктора Кравченко, пытавшегося открыть Западу глаза на карательную суть советского строя, французские интеллектуалы затравили. Шаламов умер почти в безвестности и нищете. В Нью-Йорке эмигрантский «Новый журнал» печатал рассказы Шаламова крохотными порциями и на невидных местах, как будто старались и напечатать эти рассказы, и оставить никем не замеченными. А ведь Солженицын, чье любое слово жадно ловилось всем миром, мог привлечь внимание к рассказам Шаламова, но почему же не сделал этого? Просто руки не дошли? Я догадывался о причине и догадку изложил в этой работе, когда Бенедикт Сарнов обратил мое внимание на мемуары Шаламова, где автор пишет о своей встрече в 1963 году с Солженицыным, который учил его, как добиться литературного успеха в Америке. Цитирую: « — Для Америки, — быстро и наставительно говорил мой новый знакомый, — герой должен быть религиозным. Там даже законы есть насчет этого, поэтому ни один книгоиздатель американский не возьмет ни одного переводного рассказа, где герой — атеист, или просто скептик, или сомневающийся. — А Джефферсон, автор декларации? — Ну, когда это было. А сейчас я просмотрел бегло несколько ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим. По этому, — мягко шелестел голос, — в Америку посылать этого не надо... Небольшие пальчики моего нового знакомого быстро перебирали машинописные страницы. — Я даже удивлен, как это вы... И не верить в Бога! — У меня нет потребности в такой гипотезе, как у Вольтера. — Ну, после Вольтера была Вторая мировая война. — Тем более. — Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, все равно — эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе». (Варлам Шаламов. Воспоминания. ММ. «Олимп». Издательство ACT. 2001.) Из этой записи видно, что Александр Исаевич не всегда был равнодушен к тому, будут ли его покупать на Западе, очень даже рассчитывал свой успех (исходя, впрочем, из ложного убеждения, что в Америке есть законы, по которым литература должна быть обязательно религиозной). Он не только заботился о своем успехе, но, похоже, ревниво относился к возможным успехам других, чего, может быть, даже старался не допустить. Тем более что был на Шаламова в обиде. Тот его не признал, называл лакировщиком и делягой. Насчет лакировки Шаламов был не прав. Жизнь, которую невозможно отобразить иначе, как черными красками, перестает быть предметом, доступным искусству. В кругах ада, описанных Солженицыным, есть еще признаки самой жизни. Люди влюбляются, волнуются, спорят о русском языке, изучают английский, читают стихи, обсуждают недостатки кинофильма «Броненосец «Потемкин», шутят, лукавят, совершают поступки, подлые и благородные. Крайние условия жизни, где ни для каких человеческих чувств не остается места, художественному описанию просто не поддаются. Поэтому нет высоких литературных достижений в сочинениях об Освенциме, Треблинке (но есть очень сильно написанная глава в «Жизни и судьбе» Гроссмана), а рассказы Шаламова слишком уж беспросветны, чтобы восприниматься как факт большой литературы. Я Шаламова глубоко почитаю, но вынужден согласиться с Лидией Чуковской (см. ниже), что дар Солженицына крупнее шаламовского. Насчет деловых способностей Солженицына спорить не буду, а вот относительно 178 саморекламы Шаламов был прав только отчасти. Солженицын во многих случаях мастерски использовал ситуацию, тянул на себя все одеяла и многие натянул. Но справедливости ради надо сказать, что он себя породил, он себя и убил. Отсутствие сомнений в самом себе и самокритики, гордыня и презрение к чужому мнению заглушили в нем инстинкт самосохранения (творческого), лишили его возможности трезво оценивать свою работу и почти все, что он написал в эмиграции, его публичные выступления и отдельные высказывания стали для него убийственной антирекламой. Критику со стороны воспринимал он только как злобные нападки, и не иначе. Правда, вокруг него и сейчас есть группа литературных приверженцев, которые его двучастные рассказы и суточные повести оценивают по высшей шкале, но делают они это с очевидной неискренностью (так в свое время казенные критики восхваляли вершины «секретарской литературы», а особенно книги Леонида Брежнева), с надеждой чем-нибудь поживиться. Хваля автора, они мало его цитируют, не давая читателю возможности наглядно понять, чем же восхваляемый так хорош. Прислушиваясь только к лести и отвергая попытки серьезного разбора своих писаний, Солженицын в конце концов достиг результатов, которые можно назвать сокрушительными. Он был одним из самых читаемых писателей во всем мире (а то и самым-самым), а стал малочитаемым. Конечно, достигнув высокого уровня материального благополучия, можно не интересоваться, «чтоб покупали». Но ведь в нашем деле покупатель — это читатель, чье признание через покупку книг и выражается. Разумно ли этим фактом пренебрегать? Может быть, Кафку не волновало, будут ли его покупать, но он и не жаловался, что его не читают, не дочитывают или неправильно прочитывают. Кстати, насчет жалоб. «С таким гневом свободные плюралисты никогда не осуждали коммунизм, а меня эти годы дружно обливали помоями — в таком множестве и с такой яростью, как вся советская дворняжная печать не сумела наворотить на меня за двадцать лет. ...Кто бы тогда предсказал, что писателя, который первый и прямо под пастью все это громко вызвездит режиму в лоб, — та образованщина возненавидит лютее, чем сам режим?..» Так написано у него в «Наших плюралистах», и такие же жалобы размешены в других его мемуарных и публицистических текстах. Но кто кого начал обливать помоями? Добрейший человек архиепископ Иоанн Сан-Францисский (в миру князь Дмитрий Шаховской), относясь попервах к нашему герою с большим пиететом, затем не удержался и выдал язвительную эпиграмму, которой, к сожалению, я помню наизусть только начало: Теленок с дубом пободался, Дуб пошатался и остался. Тогда теленок всех подряд Давай бодать других телят... Телята реагировали по-разному. Кто на дуб накинулся сгоряча, кто дал от дуба стрекача... Одного боевой теленок забодал, другого лягнул, на третьего рявкнул, но сам оказался очень нежным и ранимым. Из сочинения в сочинение другое текут жалобы на оппонентов из числа эмигрантов и американских журналистов, а в собственно «Плюралистах» приводятся характеристики, выданные ему этими клеветниками: «Фальсификатор... Реакционный утопист... Перестал быть писателем, стал политиком... Любит защищать Николая I (?)... «Ленин в Цюрихе» — памфлет на историю... Оказался банкротом... Сублимирует недостаток знаний в пророческое всеведение... Гомерические интеллектуальные претензии... Шаманские заклинания духов... Ни в грош не ставит русскую совесть... Морализм, выросший на базе нигилизма... Освящает своим престижем самые порочные идеи, затаенные в русском мозгу... Неутолимая страсть к политическому пророчеству с инфантилизмом... Потеря художественного вкуса... Несложный писатель... » Шесть лет он — по его утверждению — трудился, не замечая ничтожных усилий своих оппонентов обратить на себя внимание, и «продремал все их нападки и всю их полемику», не видя и не слыша их мышиной возни, «их воя и лая». Дремал бы и дальше, но «облыгают» Россию, и вот—не стерпел и, кончивши три «узла», решил всем обидчикам «вызвездить в лоб». А как начал звездить, так обнаружилось, что дремал вполне «внимчиво», ни одного критика из виду не выпустил, ни одного сказанного о себе слова мимо ушей не пропустил и без рассмотрения не оставил. И это человек, о котором исписано столько бумаги, что всем «раствором рук» не перетаскаешь. Из всех знакомых мне литераторов, о которых критики вообще что-нибудь пишут, я не знаю ни одного, кто бы так внимательно выслеживал, записывал каждое сказанное о нем слово и воспринимал столь болезненно и сердито. Всех пригвоздил, как сумел. С отвращением сказал о диссидентах и правозащитниках, давая понять, что ничего общего у него с ними нет (а мы-то думали, что он сам диссидент и правозащитник). Демократическое движение обозначил (это уже кто-то отмечал до меня) презрительной аббревиатурой «демдвиж» и сам от него отодвинулся. И опять-таки, перечисляя все сказанное о нем, не проявил ни малейшей попытки предположить: неужели ни для одного из высказанных мнений он не дал ни малейшего повода? И ни разу всерьез не задумался, за что же на него так ополчились люди, совсем недавно бывшие его горячими поклонниками? Почему тогда вначале, на гребне его немыслимого успеха, не умирали от черной зависти? А если изначально были недоумками и негодяями, то чего стоили тогдашние их восторги? Нет вопросов, нет ответов, а есть объяснение, что его враги — это те, которые «забегливые спешат забежать перед Западом и многобрызно». А еще — вот выродки! — «обтрагивают мертвое тело старой России» и «испытывают к ней омерзение». Все его не понимают и понять не хотят, кроме разве что Льва Лосева, слова которого — смесь печальной иронии и малой надежды — приводит автор «Зернышка»: «Судя по его могучему началу, «Красное колесо» — это письмо всему русскому народу. Докатится колесо до Москвы, будет письмо прочитано и принято к сердцу — тогда можно не сомневаться, что будущее России будет великолепно». Если это ирония, то направленная на кого? На Солженицына? На народ? Не всерьез же такое утверждать. 179 Он всегда трудился много, продуктивно, а обеспечив себе возможность не отвлекаться на стороннее, один за другим несколько томов написал. Но литература — это та область человеческих усилий, где количество в качество не переходит. Кстати, оценивать трудолюбие писателя следует не только по тому, сколько времени он провел за столом и сколько написал, но и по тому, сколько раз переписывал. Не знаю, переписывал ли Солженицын свои «узлы», но следов кропотливой работы в них не видно. Владимир Максимов, имевший слабость к литературным штампам, эпопею «Красное колесо» перед самой своей смертью припечатал в газете «Правда» беспощадным приговором: «оглушительная неудача». В то время не каждый читатель трудов Солженицына мог себе позволить сказать подобное вслух. Да и кто бы это напечатал, кроме «Правды» и «Континента»? Другие печатные издания и сейчас не все посмеют. А тогда в только что освобожденной от цензуры прессе (в той, которая по направлению считалась «передовой») время от времени появлялись отповеди читателям, пренебрегающим солженицынской эпопеей и не понимающим, что чтение великой книги — труд, а не удовольствие. Глупая точка зрения, предполагающая, что большая литература должна осваиваться читателем с адекватно большим трудом, у нас, как ни странно, вполне привилась, и среди почитателей Солженицына есть такие, которые осилить его книги не могут, но именно поэтому относятся к нему с еще большим пиететом. Это же Солженицын! Это же о! О! О! И на этом междометии замолкают растерянно, не умея объяснить, что оно означает. А что все-таки: 0!0! О!? Художественная литература — это вид искусства. Отсутствие в романе, повести или рассказе признаков искусства нельзя оправдать ни важностью темы, ни именем автора, ни его биографией, ни заслугами, настоящими или мнимыми, прошлыми или сегодняшними, ни обстоятельствами жизни. Неужели это надо доказывать? «Может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять?» Этот каверзный вопрос атеисты задают проповедникам веры, но сами на него отвечают. Если не может создать, значит, не всемогущ. Если создать сумеет, но не сможет поднять, значит, тоже — не всемогущ. Солженицыну такой камень создать удалось. Оказавшись на Западе, Солженицын давал немало (вопреки его утверждениям) всяческих интервью, напечатал много публицистических статей, в которых стращал мир красной угрозой, попрекал изнеженностью и отсутствием воли и предлагал Западу отказаться от западного образа жизни. Призывал Запад быть твердым и, не сомневаясь, вмешиваться во внутренние дела СССР. На самом деле у Запада для соревнования с коммунизмом было материальных и моральных ресурсов гораздо больше, чем мнилось обитателю вермонтского «укрывища». Видимые слабости Запада были на самом деле его силой: свободное, открытое, плюралистическое общество быстрее, точнее и тоньше реагирует на возникающие угрозы на инстинктивном уровне, даже на уровне валютных бирж и индекса Доу-Джонса. Открытое общество и воюет лучше: умнее, точнее, с большим эффектом и меньшими потерями. Американцы в считаные недели достигли в Афганистане того, с чем Советский Союз не управился и за десять лет. При этом американцы потеряли несколько человек, а Советская армия, перебив сотни тысяч чужих и положив тысячи своих, овеянная неувядаемым позором, вернулась домой ни с чем. Солженицын, не понимая преимуществ открытого общества, предрекал ему скорую, глобальную и тотальную победу коммунизма. Несогласных с ним западных советологов поносил последними словами, хотя с мыслями их, не владея достаточно чужим языком, знакомился скорее всего в пересказе. И вообще его высказывания о Западе наводят на подозрение, что основным источником его знаний об этой части мира (конечно, им как-то переосмысленных) была советская пропаганда. Что он мог знать о Западе, если не только не кружился в нью-йоркском или парижском смерче, но даже (вспомним свидетельство Струве) о жизни своих ближайших соседей не имел представления и койотов встречал чаще, чем американцев? К этому я прибавлю, что, считаясь знатоком советской жизни, он и о ней имел, в общем-то, смутное представление. Человек по характеру подпольный, он не представлял себе, насколько советское общество, в целом относясь к советскому режиму недружелюбно, не бунтует, но ведет против него неорга низованный и даже неосознанный тотальный саботаж, который проявлялся в пренебрежении большинством народа своими обязанностями, в плохой работе на всех уровнях, во взяточничестве, воровстве, казнокрадстве. Мы Солженицына, впрочем, тоже не вполне знали. Я, как и другие, считал его убежденным правозащитником (да и как можно было писать об ужасах ГУЛАГа, не будучи им?). Но он к правам человека (покинувши пространство, где этих прав лично ему не хватало) стал относиться с явным пренебрежением. Оказывается, прежде прав должны стоять обязанности (это провозглашено уже в «Плюралистах»), Вот уж с чем никак не соглашусь. Сначала должны быть права. Бесправный человек есть раб. Только тогда гражданин исполняет свои обязанности с достоинством и честно, когда знает, что это — обязанности перед обществом, уважающим его самого и его права. И ответно уважаемым им. Раб подчиняется, но от его работы порой бывает больше вреда, чем пользы. В неуважении прав человека Солженицын впоследствии продвинулся еще дальше. В дни, когда я пишу эти заметки, он повторяет настойчиво мысль о предпочтительности прав общества перед правами личности, а в прожекте обустройства России права человека поставил ниже интересов национальной безопасности. В таком случае чем ему советская власть не нравилась? Она его потому и травила, что его права ставила ниже интере сов госбезопасности. И вообще режимы (таким был советский), которые свою безопасность ставят выше прав человека, для собственного народа бывают опаснее иностранных захватчиков. О чем хорошо знал зэк Солженицын, вместе с другими заключенными мечтавший о том, что американцы нападут на Советский Союз, 180 разгромят его (пусть даже атомной бомбой), распустят лагеря и нас всех освободят от тоталитарной власти. В первые свои годы в США он говорил, что Америка вызывает у русских людей «соединенное чувство восхищения и сострадания». Об Америке же говорил, что она страна «Простора души. Щедрости. Великодушия». Но слишком доверчива. Американцев умолял (цитирую дословно): «Пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутренние дела». Его изменчивое отношение к правам и другим человеческим заботам можно объяснить только одним — очевидным эгоизмом. Он понимает только те страдания, которые сам пережил недавно или переживает в настоящее время. По мере удаления от них они становятся ему все более безразличны. Когда он в поте лица катил все дальше свое «Колесо», некоторые читатели советовали ему остановиться, сосредоточиться и написать что-то не столь громоздкое, что-нибудь вроде «Одного дня Ивана Денисовича» или «Матрены». Я и сам удерживал себя от побуждения сунуться с подобным советом. Но потом понял: эти персонажи уже отдалились от него. Он их уже не понимает, не чувствует, а другие образы, не из личного опыта, тоже ему не даются. Господь, по мнению Солженицына, его укрепил, дал ему возможность после всего перенесенного жить и работать в идеальных условиях. Только Господь ли? Странно и несправедливо шшяют обстоятельства жизни на литератора. Живя в нужде, мечтает он о том, что вот напечатают его когда- нибудь большими тиражами, люди купят его книги, он прославится, станет обеспеченным человеком, уединится в своем поместье, домике (как мечтал Булгаков) или хотя бы в отдельной квартире, вот там-то уж и разгонится. Оказывается, писателю все может быть на пользу и все во вред. И плохие условия жизни, и хорошие. Очень хорошие бывают губительнее просто плохих. Пушкин, которого в союзники призывал Александр Исаевич, в затворничестве сидел с пользой для себя (и для нас), но по принуждению. В остальное же время жил суетно, не чуждался (бесплодного?) кружения в петербургском смерче. И другие классики наши и на балах выплясывали, и в картишки поигры вали, и рулетку крутили, и к цыганам ездили, прожигали жизнь всеми возможными способами, а иначе не было бы у нас в литературе первого бала Наташи Ростовой, «Игроков» Гоголя, «Игрока» Достоевского и много чего еще. Пушкин велел нам судить художника по законам, им самим над собой установленным. Я думаю, этот закон можно перенести с произведений художника на его личную жизнь. Вот, допустим, достиг писатель материального благополучия, удалился от мирской жизни и — делай, что хочешь. Пиши, что желаешь или совсем ничего. Плюй в потолок, разводи кур или выращивай помидоры. И пускай толпа тебя бранит и плюет на алтарь... А ты плюй на нее и не жалуйся, что она тебя не понимает, ложно толкует, и вообще не вслушивайся, кто что плетет про тебя за твоей спиной. Но если Александр Исаевич хотел не то чтобы развиться и достигнуть новых вершин, а хотя бы остаться на уровне прежних, то, может быть, не Господь отрешил его от забот о хлебе насущном, а извечный его оппонент с хвостом и копытом, который всегда ведь своего добивается через соблазны. Господь, желая, чтобы его самодовольный избранник писал в прежнюю силу, вернул бы его в Рязань на должность учителя средней школы, на маленькую зарплату, чтоб ездил в общем вагоне, покупал яйца по девяносто копеек и вместо невподымного «Красного колеса» писал бы, как сам приблизительно обозначил, «необстоятельные рассказы и совсем небольшие, больше «крохоток», но меньше «Матрены», так бы — от двухдо шести страниц». Или вверг бы его Отец небесный в ньюйоркскую суету, там тоже темы разные могли бы в голову прийти... Вроде тех, что осеняли Сергея Довлатова. В «Образованщине» автор перечисляет достоинства, коими должен обладать интеллигент. Если я правильно запомнил, высшими и обязательными добродетелями представителя этой прослойки должны быть жизнь не по лжи, самоограничение до аскетизма и готовность к жертве. Я все эти признаки принимаю частично. Насчет того, чем жертвовать, ради чего и до какой степени, имею свою точку зрения. Согласен, что надо (и сам старался) жить не по лжи, но не думаю, что это условие легкое. Хотя по Солженицыну это значит всего лишь «не говорить того, что не думаешь, но уж: ни шепотом, ни голосом, ни поднятием руки ни опусканием шара, ни поддельной улыбкой, ни присутствием, ни вставанием, ни аплодисментами». Ничего себе всего лишь! Да в Советском Союзе (Александру Исаевичу это было известно, как никому, и сам он своей заповеди не соответствовал) за это «всего лишь» людей как раз больше, чем за что бы то ни было, травили, убивали и гноили в тюрьмах. Однако для меня, кроме доблестей гражданских и требующих большого мужества, существуют еще и такие признаки интеллигентности, как скромность, вежливость, деликатность, уважение к чужой личности и к чужому мнению, стремление к справедливости, боязнь обидеть кого-нибудь действием или словом, тем более — обидеть зазря. Но, приглядываясь к Александру Исаевичу, я заметил, что некоторые из перечисленных мною характеристик в его поведении отсутствуют начисто. Нагрубить человеку без достаточной причины, перетолковать его слова, намерения и поступки и даже обозвать его ему ничего не стоит. Того же Сапа обозвал мутно-пьяным, потом мутно-угодливым (арсенал небогатый). О Зощенко отозвался пренебрежительно: «О, человековед!» — и посетовал, что тому не пришлось тачку катать на Беломорканале. Оказавшись на Западе, тут же «всех подряд давай бодать других телят». То французскому министру культуры Андре Мальро «вызвездил в лоб», то отвесил оплеуху (не буквально, конечно) выдающемуся комментатору Би-би-си Анатолию Максимовичу Гольдбергу. Которому внимали с благодарностью миллионы советских радиослушателей. И гипноз имени Солженицына был таков, что обиженные им не смели ему ответить. Я на все это смотрел со стороны, удивлялся, но не ожидал, что скоро и до меня дойдет очередь. Я ведь, правда, много раз и резко выступал в его защиту, отзывался о нем публично самым высоким образом, а растущего разочарования выражать не спешил. Но вот случился конфликт, который Александр Исаевич («Угодило зернышко промеж двух жерновов», «Новый мир» №4, 2001) изображает таким образом: «Пред ним 181 я сверх того, что существую, провинился тем, что как-то, на неуверенном старте его западной жизни, передал через друзей непрошеный совет: не пользоваться судом для решения его денежных претензий к эмигрантскому издательству, поладить как-нибудь без суда; он буквально взорвался, ответил бранью...» Расскажу, в каких обстоятельствах мне был дан «совет» и как он выглядел. На «неуверенном старте» моей западной жизни, будучи человеком, прямо сказать, не очень практичным, я скоро стал жертвой тамошних дельцов. Сначала мой американский адвокат присвоил все мои деньги, и я, наняв другого юриста, еле-еле вернул себе малую часть. Затем возник конфликт с издательством ИМКА-Пресс, которое с самого начала наших отношений вело себя по отношению ко мне с крайней безответственностью. Я уже писал в своей книге «Дело №34840», что рукопись «Чонкина», посланную этому издательству в 1973 году, оно, подвергая меня не шуточному риску, два года держало у себя, никому не отдавало, само не печатало и опубликовало только тогда, когда уже вышли издания немецкое и шведское (а то б и дольше тянуло). Кстати сказать, когда кагэбэшники на допросе уверяли меня, что Солженицын препятствовал опубликованию книги, я с негодованием этот, как я думал, поклеп отверг. Но теперь знаю, что да, препятствовал, проталкивая вперед патронируемые им рукописи вроде антишолоховского опуса «Стремя «Тихого Дона» и поданного с большой помпой собрания мыслей неумных людей в сборнике «Из-под глыб». Когда я, вскоре после эмиграции, первый раз очутился в Париже, директор издательства Владимир Аллой и фактический хозяин издательства Никита Струве меня с энтузиазмом приветствовали, но о гонораре не заикнулись. Да и сам я о нем не спросил, думая: издательство жалкое, эмигрантское, что с него возьмешь? Хотя сам находился, как говорят, в затруднительных обстоятельствах. Через некоторое время знающие люди мне объяснили, что издательство не такое уж жалкое. Стоящая за ним организация ИМКА, как мы ее называли, или YMCA (Young Men Christian Association) очень богата, среди спонсоров издательства есть и ЦРУ (эта организация поддерживала все эмигрантские издательства, печатавшие книги, запрещенные в СССР), так что деньги у них имеются. И на моих достаточно популярных и коммерчески выгодных книгах они тоже кое-что заработали и должны поделиться. Я написал письмо Струве. Он мне вскоре ответил, что да, он совсем забыл, ИМКА должна мне «кучу денег!» — целых... и назвал сумму, в тридцать раз меньше той, на которую я рассчитывал. Причем в старых франках, еще бывших в обращении, но стоивших в 1000 раз меньше новых. Да еще просил разрешения выплатить эту мелочь частями. А поскольку Струве в своем журнале «Вестник РСХД» как раз в это время регулярно печатал «узлы» о февральской революции, я спросил его, почему он предлагает мне старые франки, а не керенки. В процессе дальнейшей перепалки я ему пригрозил судом. Правду сказать, блефовал. В расчете на то, что испугается и отдаст мне не лишнее, а заработанное. Он в самом деле испугался. И вдруг... ...И вдруг звонит мне в Германию Юрий Штейн. Который считается родственником Солженицына, поскольку его жена Вероника Туркина приходится бывшей жене Солженицына Наталье Решетовской двоюродной сестрой. — Слушай, я тут был у Исаича в Вермонте, а к нему как раз приехал Струве и жаловался на тебя, что ты собираешься подать на него в суд. Так вот Исаич просил меня передать тебе его мнение. Он мне его продиктовал и хочет, чтобы ты его записал. У тебя карандаш и бумага есть? Записывай. Я сказал: «записываю», хотя делать этого не собирался. О чем потом пожалел. Все-таки документ следовало бы сохранить в подлинном виде. Но я не записал и воспроизвожу по памяти. Послание никакого обращения не содержало. Ни имениотчества, ни просто имени и уж, конечно, принятого эпитета вроде «дорогой» или «уважаемый», а начиналось прямо со слова «стыдно». «Стыдно русскому писателю судиться с издателем из-за гонораров». И что-то еще в этом духе, кратко, грубо и выразительно. Когда в 1975 году два кагэбэшных бандита в гостинице «Метрополь» угрожали мне убийством и продемонстрировали один из возможных способов, я обратился к Солженицыну, жившему уже за границей, с просьбой меня защитить, но он не откликнулся. А тут расторопно отреагировал на жалобу Струве. Да еще в такой форме, которая у блатных на их «фене» называется «оттянуть» или «взять на горло». Это был, конечно, никакой не совет. Совет нормальный дается всегда только с добрыми намерениями и хотя бы с приблизительным пониманием сути дела. Здесь не было ни того, ни другого. Если я и рассердился, то в первую очередь на себя. Какой бы Солженицын ни был хам, он ведь не с каждым позволяет себе так обращаться. Неужели я дал ему повод думать, что со мной можно и так? Еще ведь и потому позволяет, что я вроде бы как свой. Я, как мне кажется, человек тихий, вежливый, держусь скромно, производя на некоторых людей ошибочное впечатление. Но ведь и я, хотя в лагере не сидел, прошел школу жизни, где «феня» к иностранным языкам не относится. — А у тебя есть бумага и карандаш? — спросил я вкрадчиво Штейна. — Есть! — отозвался он по-военному. — Тогда запиши мой ответ. Приготовился? — Приготовился. — Пиши... Мой ответ был тоже кратким и очень невежливым. Меня потом некоторые люди спрашивали, как же это я посмел? А вот так и посмел. Не ответить на такое обращение, ничем его не заслужив, я не мог, а другого ответа адресат бы не понял. Когда был напечатан роман «Москва 2042», мои недоброжелатели искали тайную причину его написания и тот же Юрий Штейн считал, как мне говорили, эту книгу местью за невежливое ко мне обращение Солженицына. Я был очень удивлен, узнав, что это мнение разделяется и самим Александром Исаеви чем. Это не так. Я не ценю свой труд так высоко, как он, но и не настолько не дорожу им, чтобы на каждую грубость откликаться целой книгой. 182 На самом деле замысел мой был серьезный и зрел долго. Давным-давно, когда Солженицын был уже за границей, а мы с Виктором Некрасовым сидели на кухне у Анны Самойловны Берзер в микрорайоне Химки-Ховрино, я рассказывал им обоим импровизированную на ходу историю приключений русского писателя, который, попав в Швейцарию, живет там, воображая, что он — Ленин. Оба мои слушателя смеялись до слез и никоим образом не сердились, что я таким непочтительным образом пародирую почитаемую ими фигуру. Больше того. Через некоторое время мне позвонила Ася и, смеясь, сказала, что вышла книга «Ленин в Цюрихе», по которой видно, что автор, в полном соответствии с моей устной пародией, сильно вжился в образ своего персонажа. Я вспоминаю это потому, что впоследствии они оба (Вика в Париже — во время нашей последней встречи — и Ася в Москве) пеняли мне, как же я позволил себе так изобразить Солженицына в «Москве 2042». Но тогда я рассказал и забыл. А потом вновь всплывала в памяти эта выдумка как праздная и не таившая в себе осознанного намерения. Она являлась мне чаще всего при отходе ко сну и постепенно принимала все более определенные очертания, пока в конце концов я не понял, что это замысел, и неплохой. Я вовсе не собирался стать фантастом, но мне захотелось заглянуть в будущее России лет примерно на пятьдесят и представить себе один из возможных путей ее развития. И развитие некоторых тенденций, наметившихся уже тогда. Кроме того, меня с детства интересовали самозванцы. Еще с первого прочтения «Капитанской дочки» и «Бориса Годунова» я думал о феномене самозванства, которое, как мне казалось потом, в наши просвещенные времена уже невозможно. Но это свое мнение я постепенно менял, приходя к мысли, что самозванство необязательно проявляется в присвоении себе чужого имени. Самозванцами можно считать и людей, приписывающих себе таланты, достоинства и добродетели, которыми они не обладают или всего лишь не опровергают приписываемого им молвой. В этом смысле не только Гришка Отрепьев, но и сам Борис Годунов был самозванцем. Или тем более Григорий Распутин. Или Сталин. Или... да в какой-то степени и наш герой. Нет, он не называет себя чужим именем и не приписывает себе чужих заслуг. Но принимает без критики приписываемые ему качества и свершения и дошел до вздорного и выражаемого не в шутку утверждения, что его рукой непосредственно водит сам Господь Бог. Это ли не самозванство? Замысел оброс плотью еще до моего отъезда на Запад, но по обстоятельствам тогдашней моей жизни мне было не до него. К 1982 году он оформился окончательно, и я принялся за работу. Сперва я хотел «заглянуть» на пятьдесят лет вперед — в 2032 год (в как бы собственное столетие), потом, подумав, передвинул действие еще на десяток лет, где вековой юбилей отмечает рассказчик, который на десять лет моложе автора. Я говорил много раз (некоторые недоверчивые критики этой книги воспринимали мои утверждения как попытку увильнуть от их сурового суда), что не стал бы писать пародию на Солженицына, если бы не увидел в нем типический образ русской истории. Если бы не было в ней движимых похожими страстями бунтарей и разрушителей устоев вроде перечисленных мною выше исторических личностей, к которым прибавлю протопопа Аввакума, Пугачева, Бакунина, Чернышевского... Но смиренно признаю, что и черты Солженицына в искаженном виде (все- таки пародия) образ Сим Симыча Карнавалова в себе несет. Замечу еще и то, что Сим Симыч Карнавалов — один из главных персонажей, но не самый главный, сейчас, когда я пишу эти заметки, «главнее» стал (даже в книгах субординация героев со временем может меняться) другой образ: правитель будущей России, участник Августовской революции, герой Бурят-Монгольской войны, Гениалиссимус, бывший генерал КГБ, свободно говорящий по-немецки, — Лешка Букашев. Некоторые, говоря о жанре моего романа, считают, что это фантастика или антиутопия. Покойный Камил Икрамов определил жанр как антиантиутопию. Не знаю, что вернее, но для меня важной особенностью этого романа было пересмешничество. Разные явления жизни, многие люди, их мысли, слова, поступки и ужимки и собственные побуждения вызывают у меня не желание гневного разоблачения, а просто смех. Или ироническую улыбку. Или жалость. Или и то, и другое, и третье. Летом 1986 года автор этих строк, прибыв в город Нью-Йорк, в ряду разнообразных других имел еще и намерение опубликовать только что испеченный роман в виде газетного сериала в газете «Новое русское слово», редактируемой Андреем Седых (псевдоним старейшего тогда русского литератора Якова Моисеевича Цвибака). Роман имел название «Москореп», которое автор потом изменил, и, наверное, зря. Яков Моисеевич от носился к приезжему в высшей степени положительно и сразу согласился опубликовать предлагаемый текст, даже не зная, о чем он. «Но имейте в виду, — предупредил романист, — в этом сочинении есть образ, напоминающий одного известного писателя». «Неужели Максимова?» — испугался Седых. «Нет, нет, — сказал автор, — другого, по- страшнее Максимова». «А-а, этого, — сообразил Яков Моисеевич, — ну что вы! Он, может, и страшный, но страшнее Максимова зверя нет». Видать, сильно насолил Якову Моисеевичу заносчивый классик, с самого своего появления на здешних берегах презрительно игнорировавший «их газету на русском языке». Настолько насолил, что, будучи человеком осмотрительным, Седых без колебаний принял роман, заплатил весь гонорар вперед, и — дело пошло. Вступительные главы, где описывались Мюнхен, Руди Миттельбрехенмахер, генерал Букашев, эмигрантская публика приняла благожелательно, как безобидное развлекательное чтиво, и вдруг... ...Читатели дошли до главы «Леонардо да Винчи»! Дошли и глазам своим не поверили. Как? Неужели? Неужели автор посмел затронуть священную особу нашего великого и неповторимого и даже шутить над нею? Сразу оговорюсь. У романа с самого начала были поклонники, и число их, ввиду содержащихся в нем некоторых преду гада нностей, со временем не уменьшается. Но тогда заметной реакцией многих читателей 183 было бурное негодование. Гневные стрелы дождем посыпались на голову автора. Я, конечно, был закаленный. Меня и до того «критиковали» за «Чонкина», иногда так, что не знаю, как жив остался, но то была критика с одной стороны, мною нисколько не уважаемой, неуважаемой и моими читателями, а тут... Ну, правда, из этих я тоже не всех уважал. Меня не удивили Никита Струве, Ирина Иловайская-Альберти, Жорж Нива, Алик Гинзбург, Юрий Штейн, Юрий Кублановский и некоторые другие, негодовавшие, что я посмел усомниться в гениальности Солженицына, подвижничестве и прочих добродетелях, а тем более отнестись с насмешкой (это ж кощунство!) к каким-нибудь его действиям и словам. Я не обиделся на Людмилу Фостер («Голос Америки»), которая в письме ко мне с употреблением ненорматива интересовалась, не повредился ли я в уме. Она, оказывается, ожидала, что, очутившись на свободном Западе, я острие своей сатиры направлю на секретарей Союза писателей и лично на одного из них — Феликса Кузнецова (тоже нашла объект!), а я на кого замахнулся! О! О! О! Таких «откликов» было много. В них было все: удивление, возмущение, растерянность. Многие стремились меня оскорбить. А некоторые испытывали смешанные чувства. И возмущались, и восхищались одновременно. Тем, что я такой отчаянный. Как если бы пошел с рогатиной на медведя. Некоторые мои читатели, бывавшие у Солженицына, попеняв мне за роман, предлагали для книжного издания уточнить описание его имения и готовы были сообщить подробности. Я отказывался даже слушать, объясняя, что мой вымышленный персонаж живет в вымышленных мною условиях и никакие конкретные детали жизни конкретного человека мне не нужны. Иные, обвиняя меня в кощунстве, поостыв, любопытствовали, а читал ли мое сочинение Сам и как к этому относится. А были и такие, кто, сперва поругав меня и поудивлявшись, переходили на шепот (словно боялись прослушивания) и на полном серьезе спрашивали, не подсылал ли прототип ко мне наемных убийц. Тут уж мне приходилось удивляться. Какого же вы сами о нем мнения, говорил я этим людям, если допускаете, что он может за пародию убить человека? Когда меня ругали за Сим Симыча, я, бывало, ругателям отвечал, что им следовало бы обидеться на другой образ — Зильберовича. Его, мол, я как раз списывал не с Юрия Штейна, как вы думаете, а именно с вас. Да, в поведении и характере Юрия Штейна есть много общего с Зильберовичем, но таких Зильберовичей, как мужеска пола, так и жен-ского, природа давно поставила на конвейер. Почти у каждого человека, ставшего идолом толпы, есть свой Зильберович. Кстати, как я слышал, несколько человек, кроме Штейна, в Зильберовиче себя узнавали и обижались на автора. Говорили, некая попадья с большим задом отождествила себя со Степанидой, а другие читатели вспоминали Ирину Иловайскую-Альберти, главного редактора газеты «Русская мысль». На самом деле у меня далеко не все персонажи имеют реальных прототипов, а Степанида уж точно была выдумана мною совершенно из ничего. Я уже сказал, что среди критиков моего романа было много просто глупых, вздорных и нечестных людей. Но «Москву 2042» встретили удивленно, а то и враждебно некоторые из тех, к кому я относился с большим почтением и даже с любовью. Это уже упомянутые мной Виктор Платонович Некрасов, Анна Самойловна Берзер, Лидия Корнеевна Чуковская и кое-кто еще. Относясь ко мне в целом больше чем дружелюбно, они не понимали, как же я совершил такое. Отношение этих людей к моему тексту меня поначалу просто обескуражило, я смутился, а потом стал думать, а что такого я сделал? Ну, написал пародию и что? Убил? Зарезал? Не отразил все подвиги и благие деяния прототипа? Да это же опять-таки не житие святого, а пародия. У которой возможны два изъяна: не похоже и не смешно. Для пародирования нет никаких запретных фигур. Если говорят, что над всеми можно смеяться, а над таким-то человеком нельзя, для меня это значит, что именно этот человек достоин осмеяния прежде других. Сердиться на пародию глупо. Я и сам бывал прототипом некоторых пародийных характеров, но не обижался. Если это было смешно, смеялся, а если нет, пожимал плечами, зная, что это ко мне не прилипнет. В одном романе отрицательный персонаж, автор пьесы «Хочу быть порядочным», убил родную мать, вспорол ей живот и намотал внутренности на палку. Мне этот текст показали, я подивился фантазии автора, но не обиделся и не рассердился и вообще уже даже не помню, что за роман и кто его написал. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда... » И проза тоже. Все характеры, встречаемые писателем в жизни, включая его собственный, открыты для изображения в любом, адекватном или искаженном в угоду авторской фантазии, виде. Писатель часто сам бывает своим собственным прототипом, рисуя с себя (чаще всего) положительный характер или (редко) совершенно отрицательный, не всегда в этом признаваясь. У каждого человека мелькают в голове мимолетные мысли, идеи и желания, постыдные или даже чудовищные. В жизни они не реализуются, но могут быть приписаны вымышленному герою, это все в порядке вещей. Меня крайне удивляют литературно образованные люди, которые до сих пор не поняли, что прототипом любого героя, даже самого отрицательного, может быть очень добродетельный человек. Писатель вправе лепить создаваемый образ с себя, с кого угодно, со многих сразу и ни с кого. В его возможностях — воплотить мечту гоголевской Агафьи Тихоновны и приставить губы Никанора Ивановича к носу Ивана Кузьмича, да развязность Балтазара Балтазаровича соединить с дородностью Ивана Павловича. И если получился удачный литературный герой, автор поступит глупо, вычеркнув его или испортив только потому, что он на кого-то похож. Что же касается пародии, тут вопрос решается совсем просто. Если получилась она неудачной, то читатель посмеется над автором, и это будет ему самое страшное и вполне достаточное наказание. Мои критики надо мной не смеялись, я не дал им такого повода. Они гневались и, споря со мной, приводили смехотворные аргументы. И как могли портили мне жизнь. Полностью, как это бывало в Советском Союзе, запретить мою книгу у них власти не было, но кое-где фактически запрещали. Роман был напечатан по-русски, по-английски и еще на нескольких языках. Четырежды я его читал по Радио «Свобода». А вот на 184 «Голосе Америки» у меня отрывки из романа (15 передач по 15 минут) купили, но в эфир не передали. Как говорили мне шепотом сотрудники радиостанции, начальство испугалось «вермонтского обкома», то есть дома Солженицына, куда пришел «сигнал» о готовившихся передачах и откуда вернулось указание эти передачи отменить. В одном из своих интервью я уже рассказывал, как американская организация «Интернейшнл Литерари Сентер», созданная специально для закупки и распространения книг, запрещенных в Советском Союзе, отказалась распространять «Москву 2042», потому что в ней — пародия на Солженицына. В некоторых странах (например, во Франции и Италии) роман не был опубликован опять-таки стараниями возмущенных обожателей Солженицына (они, профессора-сла-висты и советологи, в этих издательствах были внутренними рецензентами). Мой немецкий издатель и друг Клаус Пипер высоко ценил и автора, и роман, но на него оказывалось давление, и он уговаривал меня книгу как-нибудь переделать, чтобы «гроссе руссише шрифтштеллер» (великий русский писатель) не рассердился. Пипер никак не мог мне отказать (меня он тоже ставил в ряд «гроссе»), но Солженицына ужасно боялся. Все-таки роман он напечатал и не пожалел о том. На закате перестройки и отмены запретов на имена журнал «Нева» ухватился за «Москву 2042», они упрашивали меня, чтобы я отдал его именно им. Продержали роман у себя, испугались, не напечатали, не извинились (извинения в России вообще великая редкость), а время журнального бума, наиболее благоприятное для романа, прошло, и книга была издана не миллионным тиражом, как я ожидал, а только (тогда это количество не считалось слишком большим) стотысячным. Я не жалуюсь, а рассказываю, как было дело. В конце концов я мог бы даже гордиться тем, что всегда оказывался неугоден как советской цензуре, так и антисоветской, и цензуре «общего мнения». И кроме того, живучесть книги определяется не тиражами, а чем-то другим. И все же... Когда меня ругали за «Чонкина» секретари Союза писателей, Герои Социалистического Труда или советские генералы, их суждения были невежественны и смехотворны, но меня это, повторяю, не обижало и не удивляло. Я понимал, что это говорят глупцы и невежды, имеющие нахальство судить о вещах, которые им не по уму. Презрение было моей основной реакцией на их суд. Но когда близкие мне люди возмутились «Москвой 2042» и попытались объяснить причину своего негодования, их аргументация оказалась тоже не умнее этих, мной перечисленных. Только те меня винили в том, что я поднял руку на великий народ, а эти, что — на великого человека, на нашу гордость и славу. Там оплевал я подвиг советских людей, а здесь — подвиг героической личности. Там хотел угодить ЦРУ, а здесь — было и такое обвинение — советской власти. Искал дешевой популярности. Само собой спрашивали, а кто я такой и как смею? И уверенно утверждали, что написана моя книга из рук вон плохо и вообще никто ее читать не станет и скоро она будет забыта. (Эту же судьбу мои враги сулили и «Чонкину».) Эти предсказания, слава богу, пока не сбылись. Книгой моей люди до сих пор интересуются, хотя новым поколениям читателей давно наплевать, кто там какому характеру был прототипом. Я долго думал, печатать ли эту переписку. Мне не хочется обижать людей, которые из лучших побуждений, защищая, как они думали, гения, гордость, честь и совесть народа, с моим самолюбием очень мало считались. Но поскольку, вступая со мной в полемику, они руководствовались высокими принципами, мыслей своих не стеснялись, даже считали их истинными, а я находил и нахожу их ложными, я решил представить эти тексты читателю хотя бы частично. Тем более что конкретный спор устарел, а общая тема — нет. Болезнь кумиротворения вроде гриппа в тяжелой форме. С трудом излечивается, но иммунитета не дает и на старые прививки не реагирует. Появляется новый вирус, а с ним и новая эпидемия. Как только русское издание «Москвы 2042» вышло из печати, я, естественно, приложил определенные усилия и постарался, чтобы сколько-то экземпляров попало в Москву. Был один адрес, по которому мне эту книгу посылать не очень хотелось, но и не сделать этого я не мог. С этими двумя женщинами, матерью и дочерью, я был очень дружен и никак не мог исключить их из числа первых адресатов. Хотя их реакции ожидал не без опаски. Но, как говорится, действительность превзошла ожидания. Первое письмо пришло от дочери. Спустя много лет я не хотел ставить ее в неловкое положение и намеревался скрыть ее имя, но она пожелала быть названной, в чем ей отказать я не имею права. Называю: Елена Цезаревна Чуковская (для друзей — Люша). В октябре 1987 года в деревню Штокдорф под Мюнхеном пришло ее письмо, которое процитирую. Вот она пишет о впечатлениях, произведенных на нее моей книгой: «Впечатления эти самые безотрадные: удивление, обида, негодование, скука. Я перечислила наиболее сильные, и каждое в отдельности достаточно для огорчения. Огорчение было велико, я не спала несколько ночей, отговорила много внутренних монологов. Пишу об этом, конечно, не для того, чтобы вас разжалобить, а напротив — чтобы вы знали, что мое письмо не случайная вспышка раздражения, а обдуманный и взвешенный поступок... ...Да как вам в голову пришло, что мне можно посылать книжку, где говорится, что не надо ему давать эликсир жизни (пусть помирает), а то всех завалит глыбами о «Большой зоне». (Пишется так, будто в романе идет речь не о вымышленном характере, а о реальном человеке, которого я, реальный,, собрался по-настоящему умертвить. — В.В.) Как у Вас рука повернулась публично оплевывать частную жизнь, словарь Даля, музыку Баха, его поразительное трудолюбие, придумывать какие-то порки на конюшне, а потом и казни... ...Тут Вы, наверно, с досадой отодвинете мое письмо и скажете: «Я же заявил, что не имел в виду Сна, я борюсь с направлением, а мне опять о нем». Но ведь это же фальшиво и рассчитано на простаков. — А что, похож? — спросили Вы наивно в своем американском интервью. Ничуть не похож, отвечу Вам я, но Вы дали своему персонажу точный адрес. Вы взяли его слова, названия его книг (ни одного названия книг Солженицына я не брал. — В.В.). Представьте себе, что я бы накропала повестушку, где был бы такой персонаж — начинал в «Нов. мире», написал песню о космонавтах, по его 185 повестям шли пьесы во многих театрах, выпустил в Политиздате книгу о знаменитой революционерке, потом поссорился с Союзом писателей, издал на Западе сатирическую повесть об одном литчиновнике и два тома приключений простого советского солдата. Из России был вынужден уехать. Похоже это будет на Вас или нет? Не похоже, потому что в этом перечне фактов не проявлена Ваша личность, и абсолютно похоже, так как все это черты Вашей биографии. Если я еще добавлю, что мой персонаж жил на Аэропорте, а потом заявлю, что совсем не имею в виду Войновича, то это будет примерно то, что делаете Вы, спрашивая: « А что, похож?» ... Я помню людей, которые, рискуя жизнью, хранили, берегли эту книгу («Архипелаг ГУЛАГ». — В.В.), эту память. И вот сегодня Вам нечем заняться, кроме как плевать в ее автора, а значит, и во всех нас? Нет, Володя, не надо всем можно смеяться и, добавлю, не надо всеми. И если Вы свою обиду на автора «Архипелага» хотите превратить в развлечение в 44 странах (к сожалению, сильно преувеличено. — В.В.), где переводят Ваше произведение, то — без меня. Что касается основной темы книги — 2042 года, — то это скучно и, по- моему, ненаходчиво. Шутки типа «Пролетарии всех стран, подтирайтесь» и другие скабрезности такого толка, может, и греют души Ваших читателей- подростков, но вряд ли способны воздействовать на взрослых людей. Само качество смеха в этой книге — на низком, казарменном уровне. Все персонажи — все эти Дзержины и Берии в сознании перепутываются, это какие-то мелькающие схемы. Если вспомнить проникновенные модели будущего, представленные читающей публике Хаксли и Оруэллом (чего стоит хотя бы double thinking и «новояз»), то тут поражает бедность воображения, отсутствие подлинной мысли о будущем. Впрочем, может, Вы и не ставили себе этой цели, хотели осмеять день сегодняшний и вчерашний. Задача тоже, конечно, заманчивая, если удается ее решить. В данном случае, по-моему, совсем не удалось. За все годы нашей дружбы я видела от Вас обоих, Ира и Володя, только дружелюбие, заботу, тепло и радость. И вот пишу такое письмо. Мне тяжело его писать, Вам будет тяжело его читать. Но еще тяжелее мне думать, что Александр Исаевич после всего, что он пережил и совершил, дожил до Вашей книги и, может быть, даже ее прочел. В странном мире мы живем... Прощайте...» Вот мой ответ: «Дорогая Люша! Красиво говоря, Ваша отравленная стрела достигла цели и ранила меня в самое сердце. Дело в том, что Вы относитесь к числу тех очень немногих людей, кого я любил и люблю. Вас даже и после этого письма, которое меня, конечно, больше чем задело, но не открыло в Вашем характере ничего нового... Мое отношение к Вам таково, что даже после этого Вашего сочинения я готов продолжить наши отношения, тем более что кроме этого романа я написал и собираюсь писать что-то еще, что, может быть, не вызовет в Вас такой бури. Но вы сказали «прощайте» и вряд ли склонны заменить это слово на «до свидания»... Я не буду оспаривать Вашего мнения о художественных достоинствах моего романа, скажу только, что оно разделяется далеко не всеми. Возможно, роман слабый (с кем не бывает?). Да, это сатира на прошлое и настоящее, но и на будущее тоже. Я бы очень не хотел оказаться пророком, но боюсь, что реальное развитие событий пойдет по набросанному мною сценарию... Над горем смеяться нельзя, над болезнью и даже смертью («Смерть чиновника») иногда можно, над болезнью общества можно и нужно, в некоторых случаях можно и нужно смеяться над верой, подвигом и величием и особенно над нашим отношением к этим и другим священным коровам. А над ханжеством и лицемерием? А над манией величия? А над глупостью? Я о России думаю. И о живущих в ней тоже. А Вы (я это заметил не только сейчас) о нас если и думаете, то весьма превратно. Из некоторых Ваших прежних замечаний я сделал вывод (может быть, ошибочный), что Вы не чувствуете трагичности существования на чужбине. Вам наша жизнь здесь кажется беззаботным порханием с Канарских островов на Гавайские. Когда я говорил, что не описывал Солженицына, я не лукавил, не было причины. Я описывал типичного идола, которых было много в русской и нерусской истории. Кстати, один перс сказал мне недавно, что моя книга никак не может быть напечатана в Иране, потому что в ней нарисован точный портрет аятоллы Хомейни и все детали его биографии: героическая борьба против шаха, ссылка, возвращение на белом коне и приобщение народа к вере (нельзя смеяться?) с помощью виселиц и пулеметов. Так вот Солженицын относится к породе перечисленных мною исторических лиц и тем самым не частное лицо, а явление. Как явление Солженицын произвел на меня, как и на всех, очень сильное впечатление. Я восхищался им, как и вы. Он сделал очень много и навсегда вписал свое имя в историю, откуда его уже никто не вычеркнет. Но вот будет ли положительным его влияние на дальнейшее развитие событий, я не уверен. Он не только разоблачил систему, создавшую ГУЛАГ, но и пытается заменить ее идеологию другой, которая мне кажется достаточно мерзкой. И грозящей России новыми бедами. Эта идеология отрицает единственно нормальный демократический путь развития, предпочитая ему какой-то просвещенный авторитаризм. Не случайно в демократической Испании он прославлял Франко, который был мягче, допустим, Сталина, но тоже диктатор. Солженицын переписывает историю (и не видно отличавшей его в прошлом преданности истине) и грешит позорным для русского писателя (и особенно сегодня) недоброжелательством к инородцам и евреям со сваливанием на них вины за все беды. Схема примитивна и смехотворна: марксизм пришел с Запада (но надо же подумать, почему он на Западе не укоренился), советская власть была спасена латышскими стрелками, а Гражданскую войну выиграли военнопленные чехи и венгры (а почему не Антанта? Если уж говорить об инородцах). Когда одни люди упрекают Солженицына в антисемитизме, другие начинают кричать: «Где? Где? Укажите!» Укажу. Например, в «ГУЛАГе». На берегах Беломорканала он бы выложил дюжину еврейских фамилий 186 начальников строительства. Защитники автора говорят: но это же правда. А я скажу: это неправда. Это ложь. Тогда в НКВД было много евреев, но и жертвами их были люди (не все, но много) той же национальности. Канал строили не перечисленные евреи, а Политбюро во главе с грузином (там был, конечно, и Каганович). Когда Солженицын, описывая дьявольские козни революционеров, раскрывает псевдонимы, мы все (Вы тоже) знаем, что это значит. Если у него это значит что-то другое, то, зная аудиторию, ему следовало бы как-то свою мысль уточнить. В Америке он говорит, что если восторжествуют его идеи, то из России сможет уехать всяк того желающий на равных с другими. А вот сможет ли этот «всяк» там жить на равных с другими, почему-то не говорит. В одном из «узлов», описывая приготовления к убийству Столыпина, автор считает весьма существенным национальное происхождение убийцы. Я не собираюсь подробно анализировать его теперешнее творчество, потому что многого уже не читаю, скучно. И трудолюбие не спасает. Сименон еще трудолюбивее — написал 500 романов. В манере держаться (публичной, а не частной) есть много такого, что напрашивается на пародию: безумное самомнение, лицемерие и ханжество. В полемике с оппонентами — передергивание... ...P.S. Забыл отметить важное. Суть всякой «карнаваловщины» состоит не в появлении время от времени идолов, а в создании общей атмосферы безусловного поклонения (она всегда основана на прежних заслугах). Эта атмосфера создается людьми честными и благородными, но используют ее другие. Честные, благородные люди создавали культы Ленина и Сталина. Чернышевский настоящим вождем не был, но властителем дум был, и эти «думы» тоже сыграли свою роль в последующем развитии событий. ДОПОЛНЕНИЕ. Перечел Ваше письмо и свое и разозлился еще больше, хотя предложение забрать Ваше «прощайте» не снимаю. Однако есть еще разные соображения, которые расположу вне логического порядка, но по пунктам. 1. Вы узнали Солженицына в Карнавалове не только потому, что указан адрес, а потому что в Карнавалове есть комические черты Солженицына. Иначе бы Вы не обиделись. 2. Сатира только тогда сатира, когда замечает зло раньше других, даже тогда, когда зло кажется еще добром. 3. А как Вы относитесь к образу Кармазинова в «Бесах»? По-моему, очень удачный. А то, что он «списан» с Тургенева, меня не смущает. 4. Я помню, как одна дама, прочитав «В круге первом», бегала по Москве и говорила: теперь с Копелевым (в романе Рубиным) нельзя общаться, нельзя подавать ему руку. Считаете ли Вы, что Копелева можно сатирически изображать, а С-на нельзя? А почему? По чину? 5. А можно ли о живом человеке писать «мутно-пьяный Сац»? 6. Это надо было поставить на первое место. Роман мой не только о Карнавалове, но и о людях вроде Вас и меня. О создателях и выращивателях кумиров. 7. А если даже и Солженицын, то почему нельзя писать на него пародии? На всех можно, а на него нет? Я таких табу не признаю, и, кстати, мой роман против них. Вы можете сказать, что пародия неудачна, но вы же не на неудачу обиделись. 8. Над писателем смеяться нельзя, только если ему грозит тюрьма или он уже сидит в ней. Впрочем, идеи, рожденные в тюрьмах, тоже стоит высмеивать, иногда они слишком много бед приносят. Кампанелла, Ленин и многие в промежутке именно в тюрьмах свои идеи и вынашивали. ДОПОЛНЕНИЕ 2 К тому, что я сказал о Солженицыне, следует добавить следующее. Приехав на Запад, он сразу стал окружать себя людьми, чьи мышление и мораль на уровне Кабанихи. Он пишет свои «узлы», которые, как он считает, люди поймут через сто лет, хотя там и сейчас понимать нечего, но читать трудно. Окружающие хлопают в ладоши и утверждают, что эти скучные тома написаны с шекспировской силой (Струве) и лапидарным стилем (Кублановский). Эти окружающие (Струве, княгиня Шаховская и др.) раньше стеснялись высказывать свои мысли и идеи, теперь, вдохновленные поддержкой Самого, не стесняются. По той же причине не стесняются и некоторые отечественные («корневые») мыслители, о которых Сам сказал, что они лучше Тургенева и Толстого. Все эти люди проповедуют бредни, которые могут стать причиной новой чумы. Каждый, кому не нравится такое направление мыслей, а тем более книги или отдельные высказывания «Великого Писателя», немедленно зачисляется в разряд «облыгателей» России и, само собой, тех, кто оплевывает память погибших в лагерях. Советская пропаганда в подобных случаях спекулирует памятью 20 миллионов погибших на войне. Кстати, насчет его «великости» мы все в свое время тоже слишком погорячились. Он лицо историческое, но по художественным возможностям до великой литературы никак не дотягивает. Борьба с противниками ведется самыми нечестными способами. Например, перед моим романом поставлены барьеры (с этой стороны), чтобы не допустить его проникновения в СССР. В здешней жалкой печати (я имел в виду «Русскую мысль». — В. В.) не пропускается ни одно доброе или нейтральное слово, даже из платных, объявлений книжных магазинов вопреки здешним законам мое имя вычеркивается. Так, правду не защищают. Так,защищают только неправду. Ваше пылкое письмо продиктовано одним давно уже разоблаченным, вредным и ставшим источником многих несчастий убеждением, что нам нужна та правда, которая нам нужна. И Вам так сильно хочется, чтобы правда была такой, какая Вам нужна (или хотя бы сколько-нибудь на нее похожей), что Вы становитесь на сторону неправды. Мне жаль, что Вы не спали несколько ночей, но я советую Вам не поспать еще несколько, посмотреть правде в глаза и увидеть ее такой, какая она и есть. 187 До свидания. Один мой герой, поссорившись со своей дамой, заканчивал свои письма: «С приветом к вам, не ваш Иван». Пока я отвечал Елене Цезаревне, пришло письмо и от Лидии Корнеевны, которая сама была для меня личностью тоже почти культовой. Она человек чистый, честный, прямой и высокого благородства, именно поэтому ее реакцию, как ничью другую, можно считать признаком болезни общества. Пытаясь защитить неосознанную ею неправду, она приводит ложные доводы и невольно (тоже того не сознавая) начинает пользоваться нечестными (а других просто нет) приемами полемики. Я печатаю ее письма как есть, со всеми высказанными мне комплиментами и оценками противоположного свойства. «Дорогой Владимир Николаевич. Думаю, что Степанида — русская или любая, международная — есть не только персонаж, но и адресат и вселенский потребитель Вашей книги. Представьте себе иные обстоятельства: Степанида служит не у писателя с мировым именем, а у любого, даже самого скромного «работника умственного труда». Естественно, такой тетеньке, как Степанида, всякий умственный труд и всякий быт, этим трудом продиктованный, этому труду подчиненный, — противен, непонятен, противопоказан, постыл. Зачем хозяин день за днем, упорно: сначала молится Богу, потом садится за рабочий стол и протирает штаны и гнет спину с утра до ночи? Зачем? Денег у него вволю, мог бы дома кутнуть или съездить куда-нибудь «на курорт». Ежевечерне хозяин слушает музыку — не может, видите ли, не послушав музыки, уснуть. Ну, добро бы, слушал рок, джаз, блюз или, куда ни шло, «Подмосковные вечера», а то скучища — Бах! «Для лакеев нет гениев» — поговорка, требующая поправки. Дело тут не в титуле: гений. Гений или не гений, талант большой или малый, а для «стоокого глупца» любая одухотворенность презренна, смешна и скучна. У него, у благоразумного глупца, другие потребности. (И вся эта крити