Драма М
advertisement
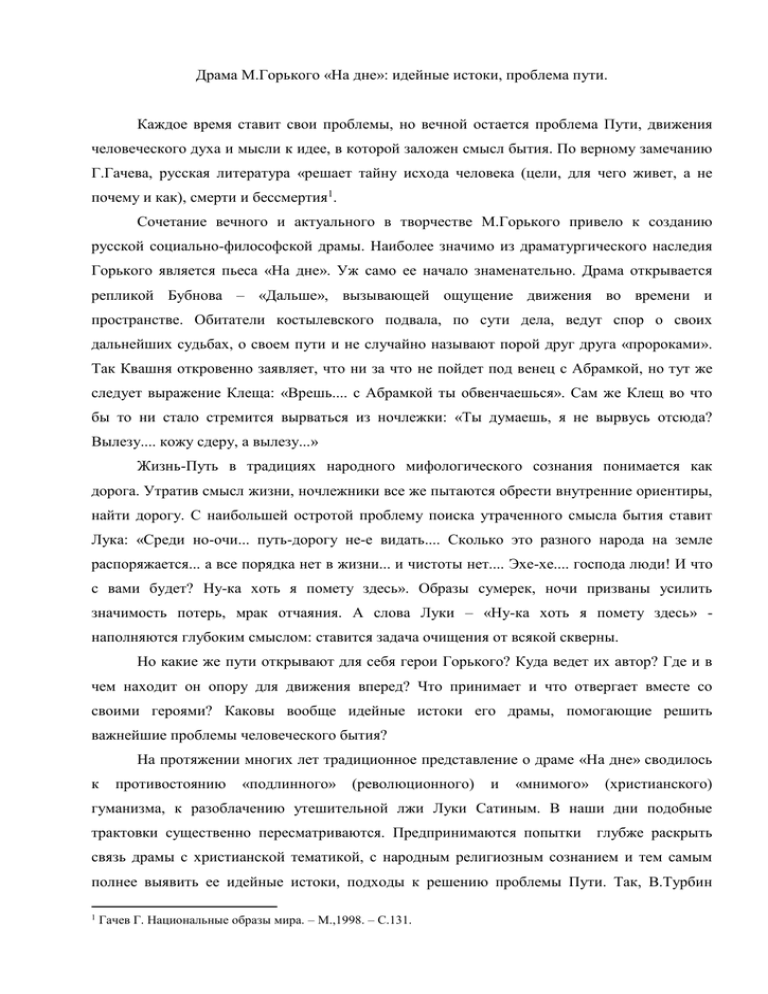
Драма М.Горького «На дне»: идейные истоки, проблема пути. Каждое время ставит свои проблемы, но вечной остается проблема Пути, движения человеческого духа и мысли к идее, в которой заложен смысл бытия. По верному замечанию Г.Гачева, русская литература «решает тайну исхода человека (цели, для чего живет, а не почему и как), смерти и бессмертия1. Сочетание вечного и актуального в творчестве М.Горького привело к созданию русской социально-философской драмы. Наиболее значимо из драматургического наследия Горького является пьеса «На дне». Уж само ее начало знаменательно. Драма открывается репликой Бубнова – «Дальше», вызывающей ощущение движения во времени и пространстве. Обитатели костылевского подвала, по сути дела, ведут спор о своих дальнейших судьбах, о своем пути и не случайно называют порой друг друга «пророками». Так Квашня откровенно заявляет, что ни за что не пойдет под венец с Абрамкой, но тут же следует выражение Клеща: «Врешь.... с Абрамкой ты обвенчаешься». Сам же Клещ во что бы то ни стало стремится вырваться из ночлежки: «Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылезу.... кожу сдеру, а вылезу...» Жизнь-Путь в традициях народного мифологического сознания понимается как дорога. Утратив смысл жизни, ночлежники все же пытаются обрести внутренние ориентиры, найти дорогу. С наибольшей остротой проблему поиска утраченного смысла бытия ставит Лука: «Среди но-очи... путь-дорогу не-е видать.... Сколько это разного народа на земле распоряжается... а все порядка нет в жизни... и чистоты нет.... Эхе-хе.... господа люди! И что с вами будет? Ну-ка хоть я помету здесь». Образы сумерек, ночи призваны усилить значимость потерь, мрак отчаяния. А слова Луки – «Ну-ка хоть я помету здесь» наполняются глубоким смыслом: ставится задача очищения от всякой скверны. Но какие же пути открывают для себя герои Горького? Куда ведет их автор? Где и в чем находит он опору для движения вперед? Что принимает и что отвергает вместе со своими героями? Каковы вообще идейные истоки его драмы, помогающие решить важнейшие проблемы человеческого бытия? На протяжении многих лет традиционное представление о драме «На дне» сводилось к противостоянию «подлинного» (революционного) и «мнимого» (христианского) гуманизма, к разоблачению утешительной лжи Луки Сатиным. В наши дни подобные трактовки существенно пересматриваются. Предпринимаются попытки глубже раскрыть связь драмы с христианской тематикой, с народным религиозным сознанием и тем самым полнее выявить ее идейные истоки, подходы к решению проблемы Пути. Так, В.Турбин 1 Гачев Г. Национальные образы мира. – М.,1998. – С.131. увидел в костылевской ночлежке «подобие храма: тяжелые каменные своды.... свет сверху вниз...». Храм, какие-то катакомбы первых веков христианства, новозаветные персонажи: разбойники, и блудницы, и врачеватель – апостол Лука, тезка евангелиста2. Другой исследователь, П. Долженков, наоборот, утверждает, что «ночлежка - ад. В этом аду есть свой бес, лукавый Лука... Есть и герой, имя которого созвучно имени «Сатана» - Сатин». Причем, по мнению Долженкова, именно Сатин становится идеологом «дна». Он растлевает ночлежников, препятствует их попыткам уйти со дна жизни, «перекрывает» им пути. В смерти Актера исследователь обвиняет Луку и Сатина: «Сатин и бес как бы «работают» на пару: Лука обольщает Актера надеждой на исцеление, Сатин лишает его надежды и тем самым убивает3 В свое время в смерти Актера чаще всего обвинялся Лука. Так, Ю.Юзовский писал: «Актер доверился Луке, покорно, как ребенок, дал себе повязать на глаза повязку «возвышающего обмана». Когда эта повязка спала, было уже поздно, он не мог пережить своего разочарования и покончил с собой». Все эти противоречивые суждения свидетельствуют о смысловой многоплановости и неоднозначности философской драмы Горького, о том,что вопрос о ее идейно-тематической наполненности остается открытым. В пьесе «На дне» очень много босяцког быта: картежная игра, попойки, драки, воровство.... Но обилие босяцкого не делает пьесу бытовой драмой о босяках. Ночлежка Костылева – это не столько ночлежка, сколько тип жизни. Раскрывая важнейшую особенность подобного типа жизни, Горький отмечал, что босяк «страшен невозмутимым очаянием своим, тем, что он сам себя отрицает, извергает из жизни». Отчаяние порождено безверием. «Все кончено для меня... Веры у меня не было... Кончен я», - заявляет Актер. Но, пожалуй, еще болшее отрицание самого себя и других свойственно Бубнову, который убежден, что человек рождается для смерти и незачем его жалеть: «Все так: родятся, поживут, умирают. И я помру... и ты... Чего жалеть». «Ты везде лишняя... да и все люди на земле – лишние.». Бубнова неоднократно поддерживает Сатин. «Я тебе дам совет: ничего не делай!говорит он Клещу. – Просто – лай! – говорит он Клещу. – Просто обременяй землю!» Понятия чести, совести зачастую отвергаются ночлежниками. Васька Пепел, передавая суждения Сатина, восклицает: «А куда они – честь, совесть? Честь-совесть тем нужна, у кого власть да сила есть...» Турбин В. Дни на дне ⁄⁄ литературная газета. -1990. – 1 августа. Долженков Ю.П. Существует только человек: о пьесе Горького «На дне» ⁄⁄ Литература в школе. – 1990. № 5. С. 42 2 3 В подобной позиции ночлежников, провозглашающих абсолютную свободу от каторжных условий, от старой морали, в их бунте против «ветхих добродетелей» можно найти мотивы ницшеанства. Однако идейные истоки драмы «На дне» связаны и с некоторыми народными религиозными представлениями о смысле человеческого бытия, о жизненном пути. Известно, какой страстный интерес проявлял Горький к любой религиозной мысли, которая бросала вызов церкви, официальному богословию. Он был знаком с хлыстами, имел хорошее представление о богомильстве, о бегунах. В пьесе «На дне» Лука советует Сатину, проповедующему ничегонеделание, идти к бегунам: «Тебе бы с такими речами к бегунам идти...» - «Я знаю... они – не дураки, дедка!» - отвечает Сатин. Особый интерес проявлял Горький к богомильству. В этом древнем славянском вероучении писателя привлек апокриф о Сатане, точнее о Сатанаиле. Смеем предположить, что данный апокриф является одним из идейных источников драмы «На дне». Трудно установить, когда Горький впервые узнал о богомильстве. Но любопытное свидетельство в этом плане дает автобиографическая повесть «В людях». В ней геройрассказчик передает слова старообрядческого начетчика, будто бы услышанные им в бытность учеником в иконописной мастерской: «Богомилы... учили: сатана-де суть сын Господен, старший брат Иисуса Христа... Учили также: начальство – не слушать, работу – не работать, жен, детей – бросать; ничего-де человеку не надо, никакого порядка, и пускай живет как хочет». Почти все обитатели ночлежки в пьесе «На дне» живут по таким принципам. Уже в самом начале драмы Квашня, как уже было замечено, убеждает ночлежников, что не свяжет своей судьбы с Абрамкой, потому что не желает терять свободы: «Чтобы я, свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась, чтобы я мужчине в крепость себя отдала – нет!» О том, что человек ничем себя не должен связывать, говорит и Сатин: «Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна – я, может быть, буду работать... Может быть!» Крайнюю степень ничегонеделания выражает Алешка: «А я такой человек, то... ничего не желаю! Ничего не хочу – и – шабаш!» В более развернутой форме апокриф о Сатанаиле Горький включил в написанную им «автобиографию» Шаляпина. Здесь история о Сатане дается в пересказе матери Шаляпина: «В небесах у господина Бога был архангел Сатанаил, воевода всего небесного воинства, и возгордился он, и стал подговаривать всех ангелов и другие чины небесные воспротивиться Богу. А Бог узнал об этом и низринул Сатанаила с небес, но нужно было найти в небе заместителя ему. Было там одно существо – Миха... Так вот, прогнав Миху а и говорит ему: - Хоть ты и не умный, а все-таки я тебя возьму себе воеводой небесных сил... Ты не станешь мутить в небесах. И будешь ты отныне не Миха, а Михаил, Сатанаил же будет просто – Сатана!» Думается, что Сатанаил из богомильного апокрифа в определенном смысле послужил прообразом горьковского Сатина. «Дважды убить нельзя», - заявляет Сатин в пьесе. «Не понимаю... почему – нельзя?» - недоумевает Актер. И действительно, почему нельзя? Ведь не только же потому, что Сатин уже убит морально, оказавшись на «дне» жизни. Аллегорический смысл слов Сатина-Сатанаила становится ясным, если иметь в виду богомильский апокриф. Сатана низвержен, и более страшного наказания для него уже просто не существует. Согласно богомильской космогонии именно Сатанаил создал видимый материальный мир. Создал он и человеческую плоть, но не мог вдохнуть в человека душу. И тогда верховный Бог сжалился и послал в человека свой божественный дух. Таким образом, материальный мир, человеческая плоть – творение Сатанаила. И только две вещи творение Бога – душа человека и солнце. Исходя из этого, понятен и аллегорический смысл первоначального названия пьесы - «Без солнца». Оно напрямую было связано и с песней ночлежников «Солнце восходит и заходит...», и со стихами Беранже, которые декламирует Актер («Если б завтра земли нашей путь осветить наше солнце забыло...»), и с предполагаемым оптимистическим финалом («...они пели песни и под солнцем, на свежем воздухе, забывали о ненависти друг к другу»). Становится ясным и то, почему Сатин в конце второго акта называте ночлежников «мертвецами», ибо в них нет духа: «Мертвецы – не слышат! Мертвецы не чувсвуют...» Являясь, по сути дела, «идеологом дна», Сатин отказывает обитателям ночлежки в праве считать себя людьми. В этом отношении показательна перепалка между Актером и Сатиным в начале первого акта: АКТЕР. Мне вредно дышать пылью...Мой организм отравлен алкоголем... САТИН. Организм.... органон... АКТЕР. Вчера, в лечебнице доктор сказал мне: ваш, говорит, организм – совершенно отрвлен алкоголем... САТИН.(улыбаясь). Органон... АКТЕР.(настойчиво). Не органон, а ор-га-ни-зм. Это не просто игра слов, а принципиальный спор. Значительное, «ученое» слово «организм» Сатин издевательски заменяет словом «органон», что в переводе с греческого означает часть целого, нечто неживое, омертвевшее, неодушевленное. Тем самым Сатин отказывает Актеру в праве считаться живым и наделенным волей человеком. Потому-то Актер и реагирует раздраженно, скандирует словечко, словно отстаивая свое право на него. Не желая оставаться в долгу, он затем назовет Сатина – «Навуходоссором», который, как известно, прославился тем, что разрушил «град Божий» Иерусалим. Сатин во многом является «разрушителем». Он внушает Пеплу мысль об убийстве Костылева. Препятствует попыткам Актера уйти из ночлежки: «Чепуха! Никуда ты не пойдешь... все это чертовщина! Старик! Чего ты надул в уши этому огарку?» В Сатине ярко выражены мефистофелевские начала. Сатин резок, груб, насмешлив, самоуверен, дерзок, скептичен до цинизма, порой жесток по отношению к окружающим и не выдвигает никаких позитивных идей вплоть до последнего акта. Таким образом, костылевская ночлежка, «дно» это мир, созданный другим богом. Творцом, «идеологом» этого мира является СатанаилСатин. В пьесе Горького учение Христа представляет Лука. Для Луки все люди равны, все люди – братья. Мысль о равенстве людей он развивает и дальше: «А все – люди! Как ни притворяйся, как ни вихляйся, а человеком родился, человеком и помрешь...» Говорит Лука и о ценности любой человеческой жизни: «Человек – каков ни есть – а всегда своей цены стоит...» Во втором акте Лука еще активнее проповедует определенную жизненную философию. Он утешает Анну, внушает Актеру, что тот может вылечиться от алкоголизма, советует Ваське Пеплу идти в Сибирь, чтобы начать там новую жизнь. Осознавая силу слова, Лука стремится вселить в ночлежников веру, надежду, терпение. Разумеется, образ Луки сложен, многогранен, и его нельзя свести к какому-то одному источнику. Горьковский Лука, как и Горький, высоко ценит человека. Он искренне желает помочь ночлежникам. Но сострадание «лукавого старца», как это стремится показать Горький, ведет в итоге к утаиванию истины, к смирению. В обществе, где есть рабы и хозяева, жить по законам совести невозможно. Здесь создаются свои законы. Многие убеждения Луки, его жизненные принципы, как стремится показать Горький, надежд не оправдали. По мысли Сатина, человек может верить только в самого себя и надеяться только на свои силы. Самый главный результат, которого добился Лука в своих беседах с босяками, заключается в гуманизации ночлежки. Обитателей подвала он «проквасил» как «старая дрожжа» подействовал на них. Он обнажил человеческую суть каждого. Так, в 4 акте подобрел Сатин. Он много шутит, предостерегает товарищей от грубых выходок. Попытку Барона проучить Настю, дать ей в ухо за дерзость, он пресекает советом: «Брось! Не тронь... не обижай человека!» Не принимает Сатин и приглашения Барона позабавиться над Татарином, совершающим молитву. Участливо беседует с Клещом, интересуется судьбой Наташи, заступается за Луку и даже над Актером насмехается меньше обычного. Во многом изменился и Клещ. Если в первом акте он был высокомерен и груб, то теперь на вопрос Сатина, привык ли он к ним, Клещ отвечает: «Ничего... Везде – люди... сначала не видишь этого... потом – поглядишь, окажется, все люди... ничего!» Смягчился и Барон, который едва ли не в первый раз за время событий взглянул на себя беспристрастным взглядом и ужаснулся никчемности своего существования. Новой, неожиданной гранью характера раскрывается и Бубнов, щедро угощающий своих товарищей. Но самое большое воздействие оказал Лука на Актера и Настю. Актер начинает копить деньги на лечебницу. Он находит в себе силы, чтоб не пропить их. Страстно поддерживает Настю, осуждающую ночлежников. Актер не расстается с желанием покинуть ночлежку. Но путь к лечебнице оказался длиннее, чем предполагалось, и тогда герой приносит себя в жертву. Его самоубийство – это своеобразный протест против жизни «дна» и вместе с тем признание своей слабости. И все-таки под влиянием Луки и Сатина целый ряд героев в большей или меньшей степени оказался способным задуматься, услышать других, воспротивиться общему разрушающему человека ходу жизни, своему дальнейшему падению Почувствовав себя людьми, ночлежники встали перед необходимостью подняться на новую, более высокую ступень человечности. В финале драмы в этом отношении показательно поведение Насти, услышавшей о смерти Актера. Она медленно, с широко открытыми глазами идет к столу, на котором стоит лампа – источник света. Она поражена новыми, открывшимися ей чувствами, мыслями. Сатин, выражая взгляды автора, стремится к истине. Истина же для него – Человек, который ставится выше Бога. Из журнала «Литература в школе», № 4, 1996
