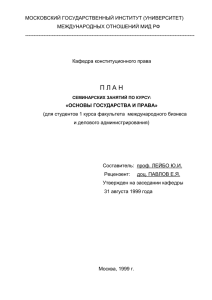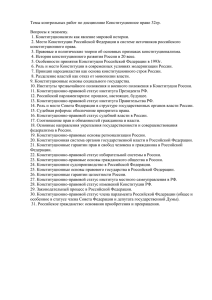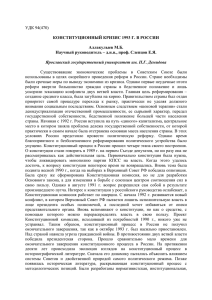И. И. Кузнецов КРОССКОНСТИТУЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ В
advertisement
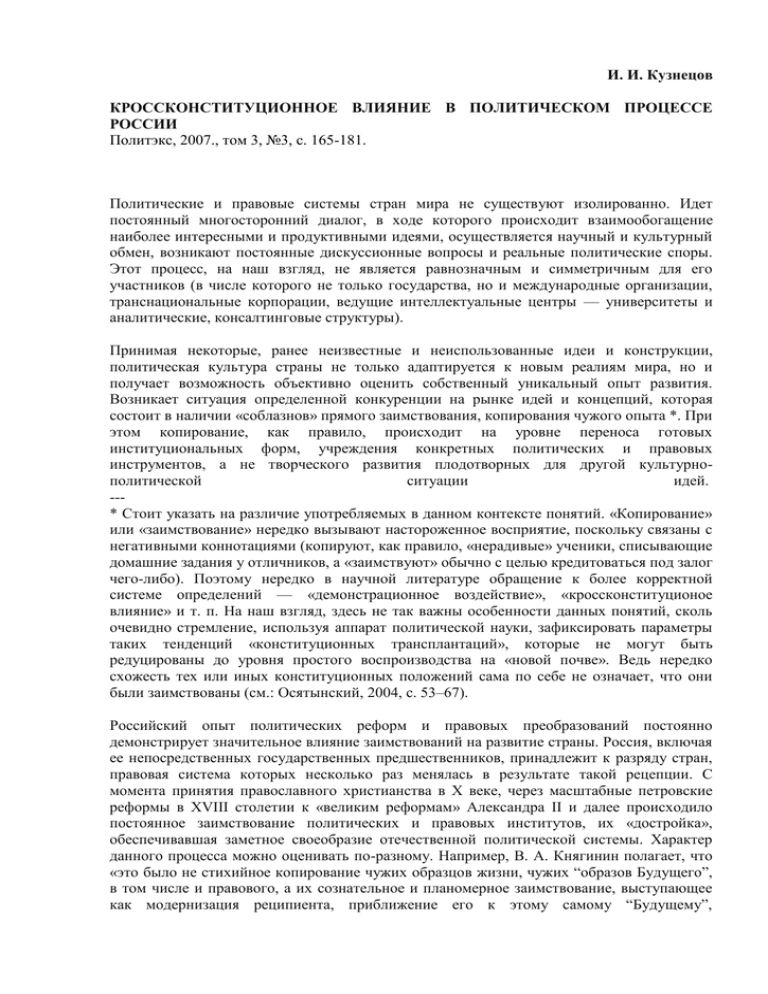
И. И. Кузнецов КРОССКОНСТИТУЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ Политэкс, 2007., том 3, №3, с. 165-181. Политические и правовые системы стран мира не существуют изолированно. Идет постоянный многосторонний диалог, в ходе которого происходит взаимообогащение наиболее интересными и продуктивными идеями, осуществляется научный и культурный обмен, возникают постоянные дискуссионные вопросы и реальные политические споры. Этот процесс, на наш взгляд, не является равнозначным и симметричным для его участников (в числе которого не только государства, но и международные организации, транснациональные корпорации, ведущие интеллектуальные центры — университеты и аналитические, консалтинговые структуры). Принимая некоторые, ранее неизвестные и неиспользованные идеи и конструкции, политическая культура страны не только адаптируется к новым реалиям мира, но и получает возможность объективно оценить собственный уникальный опыт развития. Возникает ситуация определенной конкуренции на рынке идей и концепций, которая состоит в наличии «соблазнов» прямого заимствования, копирования чужого опыта *. При этом копирование, как правило, происходит на уровне переноса готовых институциональных форм, учреждения конкретных политических и правовых инструментов, а не творческого развития плодотворных для другой культурнополитической ситуации идей. --* Стоит указать на различие употребляемых в данном контексте понятий. «Копирование» или «заимствование» нередко вызывают настороженное восприятие, поскольку связаны с негативными коннотациями (копируют, как правило, «нерадивые» ученики, списывающие домашние задания у отличников, а «заимствуют» обычно с целью кредитоваться под залог чего-либо). Поэтому нередко в научной литературе обращение к более корректной системе определений — «демонстрационное воздействие», «кроссконституционое влияние» и т. п. На наш взгляд, здесь не так важны особенности данных понятий, сколь очевидно стремление, используя аппарат политической науки, зафиксировать параметры таких тенденций «конституционных трансплантаций», которые не могут быть редуцированы до уровня простого воспроизводства на «новой почве». Ведь нередко схожесть тех или иных конституционных положений сама по себе не означает, что они были заимствованы (см.: Осятынский, 2004, с. 53–67). Российский опыт политических реформ и правовых преобразований постоянно демонстрирует значительное влияние заимствований на развитие страны. Россия, включая ее непосредственных государственных предшественников, принадлежит к разряду стран, правовая система которых несколько раз менялась в результате такой рецепции. С момента принятия православного христианства в Х веке, через масштабные петровские реформы в XVIII столетии к «великим реформам» Александра II и далее происходило постоянное заимствование политических и правовых институтов, их «достройка», обеспечивавшая заметное своеобразие отечественной политической системы. Характер данного процесса можно оценивать по-разному. Например, В. А. Княгинин полагает, что «это было не стихийное копирование чужих образцов жизни, чужих “образов Будущего”, в том числе и правового, а их сознательное и планомерное заимствование, выступающее как модернизация реципиента, приближение его к этому самому “Будущему”, превращение из созерцателя становления последнего в его активного творца» (Княгинин, http://www.archipelag.ru/geoeconomics/kapital/system/modernization/). Той же точки зрения придерживаются экономисты, юристы и политологи, рассматривающие российскую цивилизацию как цивилизацию «догоняющего развития», поскольку направление этого развития, в том числе и для государства и права, задают более совершенные зарубежные образцы (см.: Кашанина, 1999, с. 114–115) *. На основании такого подхода разрабатываются конкретные рекомендации ЛПР (лицам, принимающим решения), строятся сценарии преобразования институциональной среды, создаются наиболее оптимальные модели **. --* Обоснованию позитивных возможностей трансплантации институтов посвящена статья известного российского экономиста, академика РАН Полтеровича (см.: Полтерович, 2001, с. 24–50). ** Весьма характерны аналитические разработки Института экономики переходного периода (ИЭПП), возглавляемого Е. Т. Гайдаром. Авторы одного из докладов, например, ставят своей целью «обоснование набора ключевых институтов, заимствование которых наиболее значимо для страны с переходной экономикой, а также определение условий, при которых это заимствование может быть осуществлено с приемлемыми издержками» (цит. по: Мау, Яновский, Наставшев, Жаворонков, 2003, с. 6; Мау, Яновский, Жаворонков, Савицкий, 2004). Однако есть и другой взгляд на данную проблему. В своей монографии, посвященной отечественной правовой системе, В. Н. Синюков утверждает, что российская правовая система относится к самостоятельному типу правовой цивилизации (культуры). До тех пор, пока не сложится ее системное, в том числе теоретическое видение, будет сохраняться и воспроизводиться иллюзия правовой отсталости России, наносящая стране колоссальный моральный ущерб, подрывающий ее правопорядок и правосознание граждан (см.: Синюков, 1996, с. 15). Такое видение предполагает, что заимствования являются скорее второстепенным и опасным фактором модернизации, поскольку несут за собой риск разрыва с отечественной политической традицией, преувеличивают значимость уникального зарубежного опыта. Вопрос заключается в том, что заимствуют государство и общество: отдельные политические и правовые институты, элементы юридической техники, практики правоприменительной деятельности и т. п. Или они заимствуют то, что Ж. Бюрдо назвал «правовой идеей» («идеей права»), т. е. системы общих взглядов, «верований» отдельных сообществ людей либо общества в целом относительно основ (принципов) социального, политического, правового порядка (Батыр, с. 22–24). В первом случае речь идет о «юридической аккультурации» в широком смысле, то есть о переносе одной культуры в другую, во втором — о глобальном процессе, получившем название «рецепция». Последняя меняет весь правовой строй общества-реципиента и является в этом смысле тотальной аккультурацией. Ж. Карбонье, описывая рецепцию как особую форму аккультурации, употребил даже такой термин, как «культурная мутация» (Карбонье, 1998, с. 198–201). Если фрагментарная юридическая аккультурация — обычное явление, проистекающее из повседневных контактов представителей различных политико-правовых систем, то тотальная рецепция — явление исключительное. Она всегда является результатом более широкого культурного заимствования, когда меняются все или многие важнейшие культурно-смысловые парадигмы сознания общества и принятые в нем практики социальной жизни. Как правило, юридическая аккультурация способствует модернизации права страны-реципиента, право обогащается новыми принципами и юридическими конструкциями. Однако, как отмечает Н. Рулан, в ряде случаев рецепция чужого права может привести к юридической декультурации. Последняя выражается в том, что прежнее право «отбрасывается», правовая культура реципиента разрушается, в праве возрастает количество противоречий, недопустимых упрощений, что к тому же отнюдь не обеспечивает воспроизведения реципиентом у себя в стране заимствуемой правовой культуры (см.: Рулан, 1999, с. 194–196). Поэтому юридическая аккультурация вовсе не является для правовой системы безусловным благом, так как может повлечь за собой не только развитие последней, но и ее разрушение. При оценке характера юридической аккультурации важно представлять себе, как она протекает: в результате диффузионного проникновения чужой правовой культуры в страну посредством стихийного копирования отдельными лицами чужих образцов поведения; в результате централизованного переустройства правового строя жизни общества публичной властью; в результате правовых реформ собственного государства либо оккупации или колонизации страны чужим. Методологической основой рассмотрения процесса рецепции политических институтов и конституционных заимствований являются, на наш взгляд, два наиболее существенных предположения. Во-первых, в становлении отечественной конституционной модели действительно широко использовался современный зарубежный опыт (открытым остается вопрос — насколько глубоко и качественно). Однако выбор сравнительных референтов, тех конституционных систем, которые выступали бы в качестве «образца» или «донора» носил зачастую случайный характер или был обусловлен особенностями международной конъюнктуры, динамикой внешнеполитических отношений России. Во-вторых, кроссконституционные влияния важно рассматривать не только как процесс обоснования целесообразности тех или иных заимствований и их использования, но и как процесс отказа от других, альтернативных вариантов. Поскольку в данном случае мы получаем возможность оценки не только стратегии творцов новой политической системы, но и их конкурентов, открывается перспектива представить логику «отвержения» *. Например, заслуживает отдельного подробного рассмотрения отказ разработчиков российской конституции от использования таких институтов, как существовавший в СССР и РСФСР коллегиальный глава государства (такой вариант был представлен только в проекте конституции депутатов-коммунистов, который не был в числе фаворитов), а также поста вице-президента **. Вызывает интерес также отказ от использования института контрасигнатуры, который позволяет усиливать связку президент–премьер-министр при принятии наиболее важных решений (такой институт широко используется в современной Франции, играя значительную роль в ситуации «раздельного» правления). --* Весьма интересным представляется инструментарий для проведения подобных исследований, разрабатываемый директором программы «Право и публичная политика» школы имени В. Вильсона и Центра гуманитарных ценностей Принстонского университета Ким Лейн Шеппели (см., например: Scheppele, 2003, p. 296–324; Шеппели, 2005, с. 77–93). ** Отказ от использования института вице-президента, на наш взгляд, связан также и с весьма своеобразным реальным политическим опытом двух политических фигур — Г. Янаева и А. Руцкого, занимавших соответственно посты союзного и российского вицепрезидентов непродолжительное время (1990–1991 и 1991–1993 годы). Оба оказались в оппозиции своему непосредственному патрону. Рецепция таких идей, как «разделение властей», «правовое государство», «гражданское общество» и др. в начале 1990-х годов носила характер, прежде всего, идеологического замещения. В связи с кризисом самой коммунистической партии и, как следствие, утратой социальной поддержки декларируемых ее руководством целей и приоритетов возникла ситуация формирования нового языка описания политического процесса, представления новых перспектив. Создание новой конституционной модели опиралось на отрицание опыта политического развития и государственного управления периода СССР и одновременно на усиленное внимание к политическим и правовым институтам так называемых «развитых демократий», которые выступали как пример — конечный ориентир для реформирования. Причины такого выбора курса многообразны и противоречивы. И хотя они не являются первостепенными при рассмотрении темы данной статьи, все же отметим наиболее существенные на наш взгляд. Во-первых, существовавшая в нашей стране потребность в социальной модернизации всегда стимулировала поиск наиболее эффектных образцов социально-политического устройства, которые, естественно, предоставлял «загнивающий Запад». Технократически ориентированная советская элита рассматривала модернизацию как господствующую идеологию, а советская научная и творческая интеллигенция нередко выступала проводником такой модернизации. В тот момент, когда наиболее рельефно стали проявляться признаки кризиса «реального социализма» и утрачивался динамизм основных институтов советского общества, часть правящей элиты «стала все более и более благосклонно относиться к modus vivendi и modus оperandi политического и идеологического противника» (Бирюков, Сергеев, 2004, с. 277). Во-вторых, в обстановке советского периода, в условиях длительного идеологического противостояния, когда соперничество на уровне идей и конкретных решений постоянно соотносилось с реакцией противника, сам противник превращался в одну из точек отсчета. Постоянные же контакты с Западом (доступные, кстати, только избранным представителям политической элиты и все той же интеллигенции) способствовали взаимопроникновению не только на уровне идеологических ценностей, но и операционального политического опыта. Втретьих, наибольшую силу «импортированные» идеи и концепции стали приобретать тогда, когда в условиях очевидного краха коммунистического «проекта» широкие массы людей оказались психологически подготовленными к смене идеологических ориентиров. На смену дискредитированным посредством политической пропаганды и манипуляций ценностям были представлены «новые», «подлинно демократические», «общечеловеческие». В конечном итоге возникли весьма своеобразные институциональные гибриды — новый парламент, институт президентства, Конституционный суд и др., которые созданы якобы в подражание западным образцам, где-то имитируют и деятельность, но в действительности функционируют по-советски, сочетая новую повестку дня с поведенческими стереотипами партийного руководства политическим процессом. Окончание «холодной войны» привело в действие процесс перемещения политических и правовых идей. В этом потоке, хлынувшем с Запада на Восток, в страны бывшего Советского Союза, впереди были западные концепции, в числе которых важнейшими можно назвать концепции «конституционализма», «гражданского общества» и «правового государства». Они стали первыми «ласточками» либерализации, выступая одновременно инструментом разрушения коммунистической идеологии и базисным основанием новой — либеральной. Эта амбивалентность данных концептов во многом предопределила сам характер их существования в постсоветской России, судьбу большинства преобразований, проводившихся под соусом «декоммунизации». Особенностью такого заимствования идейных оснований западной постиндустриальной цивилизации стала их предельная оторванность от исторической основы и социокультурного контекста развития. В правовой жизни России, например, на ранних стадиях подготовки конституции (1991– 1993 годы) парламентская Конституционная комиссия проявляла особый интерес не только к Конституции США, но и к конституциям ряда штатов, включая конституции Иллинойса, Охлакомы и Нью-Хемпшира. Наивысшего уровня американское влияние достигло в начале 1993 г., когда руководство российской Конституционной комиссии встретилось с экспертами по Конституции Соединенных Штатов на продолжавшейся неделю конференции в Вашингтоне. Естественно, что видные американские правоведы, судьи, законодатели в своих выступлениях высказывали массу критических замечаний по тогдашнему проекту российской конституции, сделанных с ограниченных американским видением проблемы позиций. Каковы причины пристального интереса «идеологов российских реформ» к американскому конституционализму и опыту госстроительства? Помимо различных крайних суждений, связанных с оценками такого влияния (широкий лексикон оппозиционной прессы в России содержит такие определения, как «антироссийский заговор», «предательство национальных интересов», «имперский диктат» и др.), можно выделить несколько аспектов, прямо относящихся к данной проблеме. Во-первых, это сама форма и характер конституционного текста. Закрепление в XVIII в. статуса конституции как основополагающего закона государства было американской новацией. Это выглядело контрастом обилию документов, конституировавших публичную власть советской системы (в их числе: партийная программа, устав, постановления и непубликовавшиеся директивы, тогдашняя конституция как государственное право, законы, периодически издаваемые разъяснения Верховного Суда по применению норм права). Во-вторых, многих российских исследователей увлекло представление о конституции как о конструкции, определяющей и систему государственной власти, и структуру политической жизни. Это контрастировало с советским принципом разделения функций и отделения партийных структур и политической жизни от советской Конституции, которую считали, прежде всего, документом, отражающим принципы организации государства. Американская конституция представляла собой величину, символически объединяющую нацию и одновременно являлась технологическим документом ограничения тесного вмешательства государства в жизнь гражданского общества. Именно в русле либерального понимания прав человека как естественных и неотъемлемых, охранять и заботиться о реализации которых государство обязано, и развивалась американская традиция рассмотрения гражданского общества. В-третьих, существует концепция «полезного государства», действовавшая в период американской революции, согласно которой публичная власть может приобрести легитимный характер лишь посредством периодического проведения выборов, когда управляемые могут потребовать отчета от управляющих об использовании делегированной им власти. Это положение зримо контрастирует с прежним советским modus operandi партийного руководства как руководства считавшейся «вечной» элиты, воплощавшей всю мудрость и всю власть, претендовавшей на представительство фактически всех трудящихся масс. Именно эта утилитарная концепция «полезного государства» отводила особые функции гражданскому обществу, которое призывалось эффективно контролировать, корректировать и направлять процессы элитообразования, передачи власти, преемственности традиций и селектирования инноваций в политической системе. В-четвертых, реализованная в американском варианте демократическая теория и конституционализм в рамках концепции «конституционной демократии» предусматривают широкое, хотя и не безграничное, прямое общественное участие, в то же время, устанавливая институциональные ограничения на отправление государственной власти. Это — очевидный антитезис поздней советской модели, сочетавшей однопартийную диктатуру со строго ограниченным общественным участием. Таким образом, можно заметить, что разработчиков новой российской конституции и идеологов либеральных реформ привлекали во многом контрастирующие с советским опытом политического развития элементы американской политико-правовой системы. Выбирая стратегию правового реформирования, многие российские реформаторы предпочитали предельный отказ от наработанного за годы советской власти опыта и, наоборот, максимально догматизировали зарубежный, в частности американский. То есть можно утверждать, что происходила определенного рода инверсия сознания многих специалистов, еще недавно активно пропагандировавших достоинства советского общества и власти партии. Выбор подходов к решению проблем демонстрировался не творческими интеллектуальными усилиями, а послушным следованием «обратным» рецептам. Однако необходимо признать, что к середине 1993 г., когда в России серьезно обострились разногласия президента и парламента, становится ясно (и это все чаще отмечают в своих публикациях ведущие российские правоведы) (см., например: Овсепян, 1993, с. 20–31; Дубов, 1993, с. 48–54; Пронина, 1993, с. 7–10; Лазарев, 1993, с. 609–614), что многие аспекты американской конституционной модели не подходят к российским условиям. Знаковым событием этого периода времени, показателем спада американского влияния стало критическое по отношению к американской модели интервью известного французского специалиста по российскому праву Мишеля Лесажа «Американская модель и российская почва» (Лесаж, 1993). Эта публикация знаменовала собой заметное смещение интереса к континентальным, европейским моделям либеральной демократии. Это стало особенно ярко проявляться летом и осенью 1993 года из публикаций на страницах нового журнала-бюллетеня «Конституционное совещание», посвященных процессу разработки конституции. Небольшие фрагменты русских переводов французской и германской конституций публиковались наряду со статьями, анализировавшими отдельные особенности конституционных положений Бельгии, Испании и даже Индии (см.: Конституционное совещание, 1993). С этого времени наблюдается повышенное внимание к европейской интеллектуальной традиции исследования феномена разделения властей. При этом особое внимание уделяется таким важным проблемам, как гарантии прав человека и гражданина, механизмы представительства интересов граждан и социальных групп, форматы партийных и избирательных систем и их национально-культурная обусловленность, традиции парламентаризма, их развитие и использование. Переориентация на европейские традиции выстраивания политических и правовых институтов серьезно повлияла на ход конституционного процесса в нашей стране. Так, внесенный президентом РФ на рассмотрение Конституционного совещания проект основного закона (с набором «суперпрезидентских» полномочий и прерогатив) корректировался и дополнялся многими новациями именно европейского конституционализма. Именно поэтому в итоге сложилась такая схема российской модели разделения властей, которая фактически не укладывается в привычную типологию. Развитие ее идет по пути создания нетипичной формы правления, которая характеризуется большим своеобразием и возникновением «новых видов отношений, коллизий и несогласованности» (Чиркин, 1994, с. 110). Во многом эта форма предопределила контуры основных линий взаимодействия власти и общества, которые характеризуются эклектичностью и противоречивостью. Это признают и зарубежные специалисты: «В Конституции РФ 1993 г. можно увидеть конституционный эквивалент европейского аэробуса, собранного из деталей, изготовленных в нескольких странах» (Шарлет, 1999, с. 18). Действительно, российский Основной закон демонстрирует определяющее влияние французское и американское в главе, касающейся президентства; система выборов в парламент, сочетающая пропорциональное представительство с правилом «побеждает тот, кто стал первым», отсекающим барьер для представительства партий в парламенте, равно как и структура российского Конституционного Суда, отражают влияние германских моделей. Существовали и другие влияния. Испания (унитарное, но «региональное» политико-территориальное устройство) и Бельгия отчасти служили ориентиром при формировании асимметричного федерализма в Российской Федерации. Предусмотренное конституцией различие между федеральным конституционным и обычным федеральным законом несет на себе отпечаток французской дихотомии между органическими и обычными законами и т. д. Повторим, что заимствования имели место в истории любого государства, в том числе и России (особенно мощной была актуализация европейского опыта в годы «великих реформ» второй половины XIX в.). В конце ХХ столетия взаимопроникновение общественнополитических идей, кроссконституционное влияние зарубежного опыта стало особым фактором политической жизни государств и обществ. Распространение информационных технологий и новых стилей/стандартов общения людей, институтов и сообществ привело к изменению «фильтров», через которые принималась и актуализировалась та или иная значимая информация. Так, в 1920-е годы советские правоведы ввели ключевые статьи в унаследованные от прошлого «буржуазные кодексы», чтобы с большевистской гибкостью воздействовать на осуществленные ранее заимствования норм римского права. В противоположность находившейся под контролем рецепции имперского и советского периодов российской истории государства и права, рецепция в постсоветской России (да и во многих других постсоветских государствах) была относительно хаотичной. Во многом, наверное, из-за того, что серьезно пострадала система отбора, фильтрации и целенаправленной переработки поступающей информации. «Закрытое общество», открываясь, не становилось реально «открытым» (не формировалось по сходной западной парадигме). Ситуация эйфории периода после падения Берлинской стены очень четко и образно отражена в интересной работе венгерского исследователя Андраша Шайо: «…в Восточную Европу устремились самолеты, переполненные разочарованными западными профессорами права, везущими с собой свои излюбленные законопроекты, отвергнутые и осмеянные дома. Эти проекты преподносились новым демократическим режимам как неизбежные. Результатом этого явилась передозировка положений о правах человека и принципах правового государства, прописанных в восточно-европейских конституциях и законодательстве на раннем этапе... Возможности стран этого региона непропорциональны поставленным целям... Чисто формальная защита прав человека и принципов правового государства, привнесенная (и с готовностью воспринятая) в условиях институционального вакуума и без необходимой подготовки, оказалась в высшей степени неустойчивой и неэффективной» (Шайо, 1998, с. 89). Можно не совсем соглашаться в аргументации автора относительно фиксации каких-либо критериев институциональной готовности или неготовности к такому восприятию, но существо этих политико-правовых инноваций как некой целостной и готовой к употреблению идеологической замены отмечено, на наш взгляд, достаточно точно. Понимания основных противоречий концептуального развития конституционализма в постсоветской России можно достигнуть, проследив роль Запада в более широком контексте. «Интеллектуальный импорт» готовых схем управления в условиях конкурентной рыночной среды и политического плюрализма был поставлен в ряд многих других мощных взаимодействий (очень часто весьма неравноценного свойства). Высоко значение тесных дипломатических контактов между правительствами США и Западной Европы, с одной стороны, и правительствами стран Восточной Европы, бывшего СССР, с другой стороны. Практически по всем важнейшим экономическим, политическим и социальным вопросам, проблемам безопасности устанавливались тесные отношения. Внешним их лейтмотивом часто становилась задача полномасштабной поддержки становления «гражданского общества» в ННГ (новых независимых государствах) *. --* Термин, ставший универсальным определением совокупности восточноевропейских государств, ранее составлявших блок ОВД и входивших в СЭВ, как и государств постсоветского политического пространства. Позднее эта совокупность стала определяться как «транзитные» политические режимы с применением к ним синтетических характеристик — «неустоявшиеся либеральные демократии», «делегативные демократии», «электоральные», «фасадные» и т. п. Особую роль играет военный фактор — продвижение НАТО в Восточную Европу, участие вооруженных сил США и Западной Европы в бывшей Югославии и, позднее, в антииракской коалиции, а также сохранение некой дистанции по отношению к России. В этом смысле даже такие шаги, как разработка и реализация программы «Партнерство во имя мира», привлечение России к мероприятиям североатлантического альянса на Балканах сохраняют скорее символический смысл, камуфлируя заметное отчуждение нашей страны. Военные действия на Балканах (в особенности переход НАТО к наземной войсковой операции в Югославии в 1999 г.) девальвировали образ Запада в российском общественном сознании. И, как справедливо отмечает Павел Кандель: «все это предвещает эрозию демократических идеалов и дальнейшее укрепление антизападных настроений» (Кандель, 1999, с. 39). В ряду тех ценностей, что, возможно, серьезно пострадали в ключе тех драматических событий — ценность либерального «гражданского общества», так как многие западные государства просто не прислушались к голосу своих неправительственных организаций, общественных институтов, призывавших остановить агрессию. Кроме того, активная информационная политика западных государств практически «выключила» из сферы влияния на протекающие процессы эти институты. Велика институциональная роль Запада, во многом определяющая «внешние» контуры складывающегося гражданского общества через перспективу принятия в члены Европейского союза некоторых ННГ. Важен также и фактор растущего присутствия в этом регионе Совета Европы, ОБСЕ и других международных институтов. Здесь, наверное, справедливо будет отметить не только, собственно правозащитную и гуманитарную деятельность представителей данных организаций. Часто используя современные методы и технологии управления массовым сознанием и поведением, эти институты ведут активную антигосударственную деятельность, подрывая не только авторитет и доверие граждан к государственной власти, но и сложившуюся традиционную систему ценностей и политических ориентаций. Особенно велика культурная и символическая роль Запада. Телевидение, музыка, продукция широкого потребления, связи в области науки и образования задают совершенно определенную тональность и соразмерность информационного взаимодействия Запада и ННГ. Становясь «референтной группой», страны Запада представляют собой пример для подражания, состояние «нормального существования», к которому стремятся многие восточно-европейские и бывшие советские республики. Обладая более мощной и диверсифицированной информационной инфраструктурой, либеральные государства выстраивают собственную политику, максимально используя потенциал духовно-информационной власти. Именно ее американский футуролог О. Тоффлер характеризовал как поставляющую главные ресурсы власти — информацию и знания. Они позволяют «достичь искомых целей, минимально расходуя ресурсы власти; убедить людей в их личной заинтересованности в этих целях; превратить противников в союзников» (Тоффлер, 1992, с. 114). Отдельно отметим роль экономической помощи Запада в становлении политических институтов гражданского общества. Ее нельзя рассматривать только как рост объемов западных инвестиций и торговли с Восточной Европой. Как раз эта сторона взаимодействий при всех противоречиях и трудностях дает более или менее ощутимые сдвиги. Сильное влияние на социально-политические процессы в ННГ оказывает неравномерное, но значительное распространение западной экономической практики и принципов. Эти принципы, как правило, тесно увязаны с условиями предоставления более масштабной финансовой помощи международными организациями типа МВФ и Всемирного банка. Поэтому их выполнение (или его искусная имитация) идет часто вразрез с общей стратегией западных кредиторов-доноров в отношении ННГ. Но и сами «доноры» зачастую готовы поделиться лишь вчерашними рецептами либералистского толка, мало и плохо понимая сущность сложившейся в ННГ социально-экономической ситуации. В этом случае образуется как бы порочный круг обмана и самообмана, когда обе стороны используют друг друга, не доверяя партнеру и опасаясь за собственной положение. Общие подсчеты и итоговые показатели помощи Запада Восточной Европе и бывшему Советскому Союзу в 1990-е годы пока, к сожалению, полноценно не изучены. Однако зарубежные политологи оценивают ее в пределах примерно от 50 до 100 млрд долларов (цифра колеблется в зависимости от того, что принимается в расчет и как измеряется помощь). Данные огромные цифры не должны смущать внимательного исследователя, так как, во-первых, они вполне сопоставимы с размерами западной помощи многим другим развивающимся странам. А во-вторых, в пересчете на душу населения западная помощь ННГ составила примерно от 100 до 200 долларов на человека в год *. --* Для сравнения — объем помощи США Центральной Америке в 1980-е годы, когда, стремясь предотвратить формирование левых правительств, администрация Рейгана направляла в некоторые страны помощь в размере более чем 100 долларов на человека в год (см.: Каротерс, 2000, с. 4–5). Но это экономическая или, точнее сказать, чисто материальная сторона вопроса. Большее значение, на наш взгляд, имеет исключительно важное влияние Запада на Восточную Европу в сфере определения основных целей так называемого «переходного периода». Именно в этой сфере произошли серьезные подвижки, как на уровне политических ориентаций восточноевропейских элит, так и на уровне массового сознания населения этого региона. Идея конституционализма как одной из гарантий от политического произвола и эффективного контроля за государственным управлением стала доминирующей мифологемой политических преобразований. Мифологичнось данного концепта в немалой степени предопределялась сложившимся характером взаимоотношений ННГ и западных государств. Советский Союз и страны Восточной Европы ранее были не только закрыты от Запада политически, но сами предоставляли помощь другим странам. Статус реципиентов помощи Запада, внезапно обретенный ННГ в 1990-е годы, кардинально изменил их собственный имидж как стран, предоставляющих помощь. Это обстоятельство, на наш взгляд, было недостаточно хорошо усвоено и осмыслено западными институтами, которые стали предоставлять помощь становлению гражданского общества, следуя одному из двух подходов, признанных позднее стратегически неэффективными самими активными деятелями данного процесса (см.: Каротерс, 2000, с. 6). Первый подход заключался в том, чтобы рассматривать предоставление помощи как продолжение идеологической борьбы периода «холодной войны». В рамках его предполагалось использование помощи в поддержку антикоммунистических групп и отдельных лиц, а также исключение из круга возможных реципиентов всех, кто имел неподходящее политическое прошлое, что соответствовало идее переходного периода, рассматриваемого как процесс, в ходе которого «хорошие парни» полностью вытеснят «плохих парней» с политической сцены. Конечно, само разграничение «плохих» и «хороших» стало иллюзорной идеей и в высшей степени субъективной практикой. Многие организации, возникавшие буквально на пустом месте, охотно декларировали в своих программных документах приверженность либеральной идее гражданского общества, либо плохо понимая ее сущность и действуя наугад, либо откровенно паразитируя на недальновидной политике «доноров», использовали финансовые вливания. Политическое представительство таких организаций зачастую не достигало уровня парламентской партии, фракции, а представляло собой скорее реализацию функции коммуникации власти и общественности в рамках СМИ. Второй подход, или скорее ряд интуитивных предположений, который благотворительные институты, в особенности официальные, изначально применили в своей работе, заключался в использовании методики помощи, разработанной ими в течение десятилетий сотрудничества с третьим миром. По сути, этот подход представляет собой метод внешнего проекта, традиционную схему, при которой внешняя донорская организация контролирует все направления работы, используя, в основном, свой собственный штат или своих иностранных консультантов. Бюрократические структуры, стратегии, оценка нужд страны-реципиента, разработка и реализация конкретных проектов и даже подведение результатов оказания такой помощи — все предельно централизовано, иерархизировано. Фактически данный метод, сложившийся за десятилетия работы в очень бедных неразвитых странах, с ограниченными местными ресурсами квалифицированной рабочей силы, стал одной из легальных форм выстраивания политики зависимости. Перенесение его на страны «второго мира», где уровень образования часто так же высок, как в донорских государствах «первого мира», вызывало массу непонимания и противоречий. Способствовать становлению плюралистичного и в то же время высокоинтегрированного гражданского общества недемократичными, жесткими и предельно идеологизированными способами было невозможно. Со временем большинство предоставляющих иностранную помощь институтов усовершенствовали обе эти первоначальные стратегии. Произошел отказ от прямого навязывания идеологических тестов, сместились акценты в пользу оценки показателей работы и прагматизма, «донорские» организации стали устанавливать более адекватные партнерские отношения с местными коллегами, воздерживаться от простого импорта западных моделей. В этом смысле стоит отметить, что, несмотря на официально провозглашаемое широкомасштабное институциональное влияние, наиболее важными достижениями этой помощи были возможности образования и роста, предоставленные тысячам граждан Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Кроме того, особую роль сыграло тесное знакомство с научной традицией и современными теоретическими и прикладными общественно-политическими разработками западных специалистов. Развитие российской политической науки в этом смысле прошло через этап «переводчиков»-актуализаторов зарубежных исследовательских парадигм к новому периоду самостоятельного творческого самоопределения *. В период выработки отечественной конституции в отечественной политической науке и науке государственного (конституционного) права произошел определенный прорыв. Были опубликованы на русском языке новые зарубежные работы по проблемам «институционального дизайна», появились отечественные исследования проблем функционирования различных форм правления в условиях модернизации, территориально-политической организации государства и др. Однако стоит отметить, что масштабы использования действительно серьезных научных исследований в ходе конституционного процесса 1991–1993 годов все же были незначительны. И дело здесь не в том, что не было заметных достижений в данной сфере. На наш взгляд, любая институциональная рецепция или практическая рекомендация будет неэффективна, если она игнорирует то, что политические акторы принимают решение об институциональном выборе исходя из учета его последствий для собственных властных шансов. --* Наиболее точно данную проблему развития отечественной политической теории раскрыл, на наш взгляд, известный эксперт-политолог А. Д. Богатуров (см.: Богатуров, 2000, с. 195–202). Таким образом, процесс глобализации сегодня преобразовывает власть и авторитет национальных правительств, меняет понимание сущности суверенного национального государства. Суверенитет сегодня, по мнению наиболее умеренных исследователей глобализации, именуемых «трансформистами» *, лучше всего понимать не столько как территориально ограничивающий барьер, а как переговорный инструмент, необходимый для проведения политики, для которой в наше время характерны сложные межнациональные отношения. Суверенитет, государственная власть и территориальность состоят сегодня в более сложных отношениях друг с другом, чем в ту эпоху, когда формировалось современное национальное государство. Некоторые даже предпочитают четко различать понятия «суверенитет» и «государственная автономия» (см.: Хелд, Голдблатт, Макгрю, Перратон, 2004, с. 17–21). Поэтому для нашей страны, в ее формате с 1991 г., проблема конституционализма изначально была вынесена за пределы обращения к исключительно отечественному опыту государственного строительства. Обращение к иностранным партнерам, консультантам по конституционному праву, теории политических институтов было призвано, помимо прочего, продемонстрировать готовность российских политических элит к открытому диалогу о судьбах демократии, конкретных проблемах обеспечения стабильности в международных отношениях после «холодной войны». Таким образом, учреждение новой государственности и оформление этого процесса в рамках Основного закона проходило с участием заинтересованных сил, находящихся вне России, но активно влияющих на ее внутреннюю политику. Об этом свидетельствует и косвенная поддержка лидерами Запада президентской стороны в ходе конституционного кризиса в РФ в 1992–1993 годах (см.: Ельцин, 1994, с. 177; Пискотин, 1994, с. 37). --* Наряду с «трансформистами» (Д. Хелд, Р. Кеохейн, Э. Гидденс, М. Кастельс и др.) дискурс проблем глобализации представлен «гиперглобалистами» и «скептиками», чьи позиции выражают скорее крайние позиции, в частности при оценке роли и места традиционного государства в современном мире (см. подробнее: Хелд, Голдблатт, Макгрю, Перратон, 2004, с. 3–11). Конституционализм, являясь идейно-политическим течением с глубокими и самобытными корнями в России, сегодня все больше соотносится не с отечественным политическим опытом и традициями, а с практикой современных либеральных демократий. Однако сердцевину современной системы демократических национальных государств характеризует ряд поистине поразительных особенностей: демократия в национальных государствах и недемократические отношения между государствами; укрепление подотчетности и законности внутри государственных границ и преследование национальных интересов, максимального политического преимущества за пределами этих границ; права гражданства и политические свободы для тех, кого считают «своими», и сплошь и рядом отрицание этих прав за теми, кто живет по ту сторону границы. Литература Батыр К. И. Институционализм в изучении революционной государственности XVIIXVIII веков // Право и идеология: Сб. науч. трудов / Отв. ред. И. А. Исаев. М.: МЮИ, 1991. Бирюков Н. И., Сергеев В. М. Становление институтов представительной власти в современной России. М., 2004. Богатуров А. Д. Десять лет парадигмы освоения // Pro et contra. 2000. Т. 5. № 1. С. 195– 202. Дубов И. От Монтескье до наших дней // Диалог. 1993. № 2. С. 48–54. Ельцин Б. Н. Записки Президента. М., 1994. Кандель П. Влияние косовского кризиса на политическую ситуацию в России // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1999. №3 (28). Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1998. С. 198–201. Каротерс Т. Помощь Запада становлению гражданского общества в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. 2000. №1 (30). Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. М., 1999. С. 114–115. Княгинин В. А. Рецепция зарубежного права как способ модернизации российской правовой системы // http://www.archipelag.ru/geoeconomics/kapital/system/modernization/] Конституционное совещание. 1993. № 1–3. Лазарев Б. М. Современные проблемы конституционного строя России // Вестник Российской АН. 1993. Т. 63. № 7. С. 609–614. Лесаж М. «Американская модель» и российская почва // Российские вести. 1993. 6 июня. Мау В. А., Яновский К. Э., Жаворонков С. В., Савицкий К. И. Проблемы импорта институтов и переходные страны на примере реформирования судебной системы Российской Федерации: проблемы отбора страны-экспортера и оценки издержек введения. М.: ИЭПП, 2004. Мау В. А., Яновский К. Э., Наставшев Д., Жаворонков С. В. и др. Импортированные институты в странах с переходной экономикой: эффективность и издержки. М., 2003. Овсепян Ж. И. Российский путь к разделению властей: анализ ситуации, сложившейся к началу 1993 г. // США: экономика, политика, идеология. 1993. № 5. С. 20–31. Осятынский В. Парадоксы конституционного заимствования // Сравнительное конституционное обозрение. 2004. № 3 (48). С. 53–67. Пискотин М. Политическая трагедия в России и Запад // Российская Федерация. 1994. № 14. Полтерович В. М. Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука современной России. 2001. № 3. С. 24–50. Пронина В. С. Органы исполнительной власти и их системы // Актуальная политика: Анализ и практика. 1993. № 2–6. С. 7–10. Рулан Н. Юридическая антропология. М., 1999. С. 194–196. Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. Саратов, 1996. Тоффлер О. Проблема власти на пороге XXI века // Свободная мысль. 1992. № 2. Хелд Д., Голдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура. М.: Праксис, 2004. С. 3–11. Чиркин В. Е. Нетипичные формы правления в современном государстве // Государство и право. 1994. № 1. Шайо А. Универсальные права, миссионеры, обращенные и «местные дикари» // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1998. №2 (23). Шарлет Р. Правовые трансплантации и политические мутации: рецепция конституционного права в России и новых независимых государствах // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1999. №2 (27). Шеппели К. Л. Конституционализм заимствования и отвержения: изучение кроссконституционного влияния с помощью негативных моделей // Сравнительное конституционное обозрение. 2005. №3 (52). С. 77–93. Scheppele K. L. Aspirational and aversive constitutionalism: The case for studying crossconstitutional influence through negative models // International Journal of Constitutional Law. 2003. Vol. 1. N 2. P. 296–324.