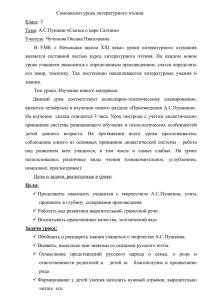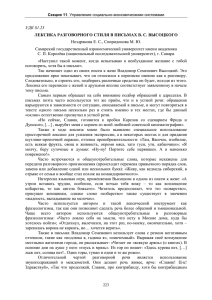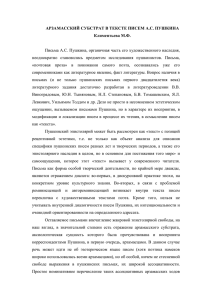сакральные темы и мотивы в письмах Пушкина
advertisement
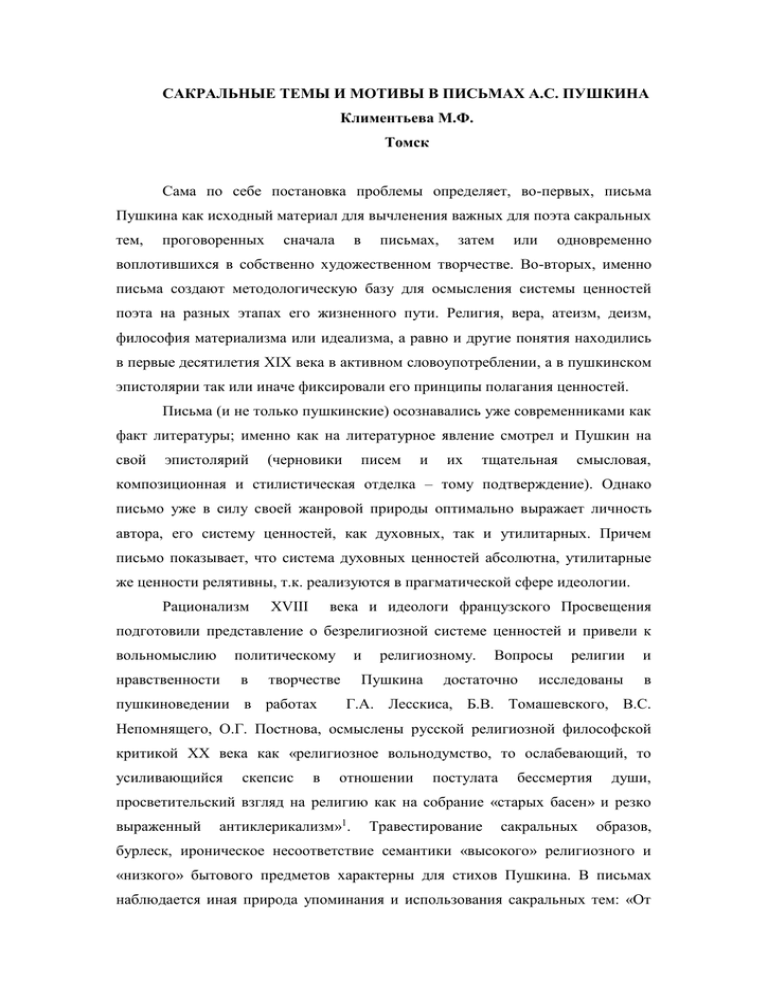
САКРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ И МОТИВЫ В ПИСЬМАХ А.С. ПУШКИНА Климентьева М.Ф. Томск Сама по себе постановка проблемы определяет, во-первых, письма Пушкина как исходный материал для вычленения важных для поэта сакральных тем, проговоренных сначала в письмах, затем или одновременно воплотившихся в собственно художественном творчестве. Во-вторых, именно письма создают методологическую базу для осмысления системы ценностей поэта на разных этапах его жизненного пути. Религия, вера, атеизм, деизм, философия материализма или идеализма, а равно и другие понятия находились в первые десятилетия XIX века в активном словоупотреблении, а в пушкинском эпистолярии так или иначе фиксировали его принципы полагания ценностей. Письма (и не только пушкинские) осознавались уже современниками как факт литературы; именно как на литературное явление смотрел и Пушкин на свой эпистолярий (черновики писем и их тщательная смысловая, композиционная и стилистическая отделка – тому подтверждение). Однако письмо уже в силу своей жанровой природы оптимально выражает личность автора, его систему ценностей, как духовных, так и утилитарных. Причем письмо показывает, что система духовных ценностей абсолютна, утилитарные же ценности релятивны, т.к. реализуются в прагматической сфере идеологии. Рационализм века и идеологи французского Просвещения XVIII подготовили представление о безрелигиозной системе ценностей и привели к вольномыслию политическому нравственности в и творчестве пушкиноведении в работах религиозному. Пушкина Вопросы достаточно религии и исследованы в Г.А. Лесскиса, Б.В. Томашевского, В.С. Непомнящего, О.Г. Постнова, осмыслены русской религиозной философской критикой ХХ века как «религиозное вольнодумство, то ослабевающий, то усиливающийся скепсис в отношении постулата бессмертия души, просветительский взгляд на религию как на собрание «старых басен» и резко выраженный антиклерикализм»1. Травестирование сакральных образов, бурлеск, ироническое несоответствие семантики «высокого» религиозного и «низкого» бытового предметов характерны для стихов Пушкина. В письмах наблюдается иная природа упоминания и использования сакральных тем: «От скуки часто пишу я стихи довольно скучные (а иногда и очень скучные), часто читаю стихотворения, которые их не лучше, недавно говел и исповедовался – всё это вовсе незабавно. Любезный арзамасец! Утешьте нас своими посланиями – и обещаю вам если не вечное блаженство, то по крайней мере искреннюю благодарность всего Лицея» (П.А. Вяземскому, 27 марта 1816 г. Из Царского Села в Москву) [Т. 10. С. 9]2. Эта фраза из лицейского письма вполне сочетается с арзамасским «новым Иерусалимом» и пародийно-травестийным смыслом протоколов и погребальных речей. Собственно сакральные темы, образы и мотивы достаточно часто встречаются во всем корпусе эпистолярия Пушкина, но мы считаем нужным ограничить материал данной статьи письмами 1816- 1824 гг., т.е. тем временем, когда молодой поэт очевидно переживал пору переосмысления ценностей христианства, что выразилось в создании небезопасных в этическом отношении стихотворных текстов, в написании «Монаха», «Тени Баркова», «Тени Фонвизина» и «Гавриилиады». Письма в этой особой мировоззренческой ситуации на разных уровнях текста отражают собственно пушкинское отношение к сакральным темам. «Милостивый государь! Мы возвращаем Вам Вольтера, девицу Орлеанскую, моего отца и мою мать, и т.д. – всего 4 + 3, Итого 7» (подлинник по-французски; из письма В.А. Жуковскому, 25-30 декабря 1816 г.) [Т. 10. С. 11]. В марте 1824 г. в письме к П.А. Вяземскому [В.К. Кюхельбекеру] упоминаются «уроки чистого афеизма» как мировоззренческая позиция, т.е. сохраняется скептическое отношение к религиозным догмам, существующее в общем комплексе арзамасских идей («<…> не может быть существа разумного, творца и правителя. <…> Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастию более всего правдоподобная» [Т. 10. С. 87]). Однако критике подвергаются в письмах не ценности христианской веры, а именно догматы религии. Но решить определенно, кем был в пору создания этих писем Пушкин – «афеем», скептиком или деистом – вряд ли возможно. Давний и спорный вопрос об отношении Пушкина к официальному христианству требует, по крайней мере, частичного уточнения. Суть в том, что антиклерикализм Пушкина, явно выраженный в письмах, утверждал новую систему ценностей, новые мотивы сакрализации жизни, где высшей ценностью является земное бытие, на нем и основывается нравственный мир человека. Известен ответ молодого Пушкина на образное замечание Ник. Тургенева «<…> беда, как мы и в просвещении пойдем назад. Мы на первой станции образованности» – «Да, мы в Чёрной Грязи»3. Первая станция радищевского путешествия для девятнадцатилетнего Пушкина семантически определяет степень просвещенности общества, для которого стесняющие рамки религиозных постулатов не только ограничивают движение по пути познания жизни, но просто чреваты «откатом» к прошлому. Этот зафиксированный Н.И. Тургеневым в письме к брату устный ответ Пушкина показателен: каламбур становится для поэта стилеобразующим и жанрообразующим принципом его языка; в первую очередь каламбуры, bon mot отрабатываются в письмах и именно на сакральных темах, как на темах, наиболее подверженных семантическому переворачиванию. Прежде всего можно говорить об общем снижении христианских образов, сакральных мотивов и моральных постулатов христианства как тенденции пушкинских писем: «… когда Вы увидите белоглазого Кавелина, поговорите ему, хоть ради вашего Христа, за Соболевского, <…> Кавелин притесняет его за какие-то теологические мнения. <…> зажмите рот доктору теологии Кавелину, который добивается в инквизиторы <…>» [Т.10. С.13], «с подобострастием предлагаю эти стихи на рассмотрение цензуры <…> она должна воздавать Кесареве Кесарю, а Гнедичеве Гнедичу, но мало ли что говорят» [Т. 10. С. 37], «уверены ли Вы, что цензура, поневоле пропустившая в первый раз «Руслана», <…> не заградит пути его второму пришествию?» [Т. 10. С. 59]. Частые в письмах просьбы «ради Христа» прислать, передать, не забыть то или это находятся, на наш взгляд, в пределах этой тенденции: обыденная речь вполне допускает употребление сакрального имени всуе, но и сводит святое имя на уровень бытовизма. Кроме того, в письмах наблюдается смешение христианских, языческих и общекультурных эпонимов, символов и тем: «Молю Феба и казанскую богоматерь, чтобы возвратился я к вам с молодостью, воспоминаниями и новой поэмой» (Н.И. Гнедичу, 24 марта 1821 г.) [Т. 10. С. 26], «новое издание очень мило – с Богом – милый ангел или аггел Асмодей» (П.А. Вяземскому, 4 ноября 1824 г.) [Т. 10. С. 54], «преосвященный владыко Асмодей» (П.А. Вяземскому, 15 июля 1824 г.). Это смешение не столь часто, как в стихах, однако с позиций официального ригорического православия может рассматриваться как кощунство, тем более что Пушкин активно использовал христианскую образную и тематическую этиологию как форму выражения мысли и эмоций: «Правда ли, что к вам едет Россини и итальянская опера? – боже мой! Это представители рая небесного. Умру с тоски и зависти» (А.А. Дельвигу, 16 ноября 1823) [Т. 10. С. 72]. В этом случае смешение подобного рода функционально уже по определению, т.к. становится каламбурным словом, игрой. Иной смысл имеют декларативные фразы из писем, принципиальные для понимания мировоззренческой позиции Пушкина в отношении сакральных тем и имен. «Я привезу Вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу Вам, христолюбивому пастырю поэтического нашего стада <…>» (А.И. Тургеневу, 7 мая 1821 г.) [Т. 10. С. 27] (речь о «Гавриилиаде»), «написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа (Изыде сеятель сеяти семена своя)» (А.И. Тургеневу, 1 декабря 1823 г.) [Т. 10. С. 75]. Стихотворение «Свободы сеятель пустынный», написанное два года спустя после «Гавриилиады», ни в коем случае не совпадает ни интонационно, ни стилистически, ни по смыслу с небезопасной фразой из письма к Тургеневу. Но эта фраза представляет собой завершение формального отказа от «либерального бреда»: «я закаялся <…>»; письмо адресовано арзамасцу, т.е. единомышленнику, хотя и не близкому, но знакомому, приятелю, который может понять пушкинскую филиацию идей. Недаром с этим письмом корреспондирует стихотворение 1817 года «Тургенев, верный покровитель», имеющее прозаическое пушкинское примечание к строкам «любовник страстный и Соломирской, и креста» – «креста, сиречь не Анненнского и не Владимирского, а честнаго и животворящаго» [Т. 1. С. 316]. Откровенная арзамасская скабрезность стихотворения находится в пределах мировоззренческой и эстетической позиции юного Пушкина: «поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст» и демонстрирует очевидный антиклерикализм поэта. В южный период сакральные темы сообщают стихам постоянную иронию и сохраняют ту же функцию в письмах. Можно предположить, что скепсис как результат кризиса 1823 г. приводит и к ироническому словоупотреблению в цитированном письме к А.И. Тургеневу (см. вариант: «произнес сию притчу в подражание басни Иисусовой») и впоследствии становится стилеобразующим принципом языка пушкинских писем. Не менее характерно привлечение сакрального языкового мотива к проблеме формирования и функционирования русского языка: «Меня ввел в искушение Бобров: он говорит в своей «Тавриде»: Под стражею скопцов гарема. Мне хотелось что-нибудь у него украсть, а к тому же я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности» (П.А. Вяземскому, 1-8 декабря 1823 г.) [Т. 10. С. 76]. Активное использование в стихотворной языковой игре христианских терминов и выражений наполняет их фривольным содержанием; та же тенденция наблюдается и в письмах («старший брат, как Вы уже заметили, глуп, как архиерейский жезл» – Ф.Ф. Вигелю, 22 октября – 4 ноября 1823) [Т. 10. С. 68]. Первое переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина появляется в письме к А,А. Дельвигу 23 марта 1821 г.: «<…> о путешествиях Кюхельбекера слышал я уже в Киеве. Желаю ему в Париже дух целомудрия, в канцелярии Нарышкина дух смиренномудрия и терпения, об духе любви я не беспокоюсь, в этом нуждаться не будет, о празднословии молчу – дальный друг не может быть слишком болтлив» [Т. 10. С. 25] Это не простое травестирование молитвенного сюжета, но выражение нравственной философии, которую сам Пушкин осознавал как антихристианскую, по крайней мере в стихах и «Гавриилиаде». В письмах использование сакральных тем и мотивов становится наиболее очевидным не как отвержение бытия Божия, а как поиск и игра, эти основные признаки пушкинской свободы. Лесскис Г.А. Пушкинский путь в русской литературе. М., 1993. С. 191 Пушкин А.С. Полн. Собр. Соч. в 10-ти тт. М., 1966. Т. 10. С.9. В дальнейшем текст писем Пушкина цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы 1 2 3 Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. Л., 1991. С. 167