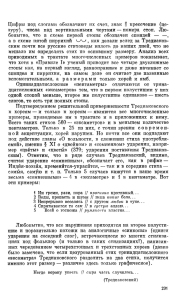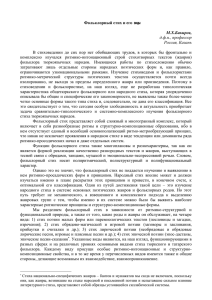Перебои ритма как средство выразительности В.Е.Холшевников
advertisement
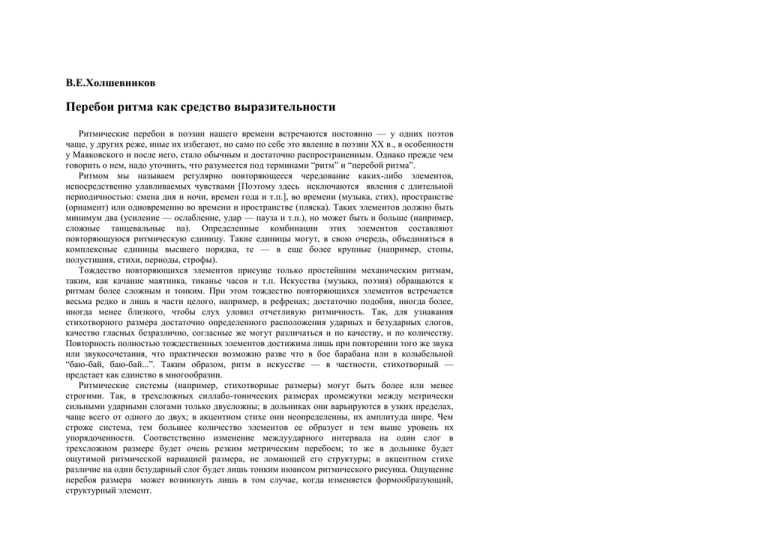
В.Е.Холшевников Перебои ритма как средство выразительности Ритмические перебои в поэзии нашего времени встречаются постоянно — у одних поэтов чаще, у других реже, иные их избегают, но само по себе это явление в поэзии XX в., в особенности у Маяковского и после него, стало обычным и достаточно распространенным. Однако прежде чем говорить о нем, надо уточнить, что разумеется под терминами “ритм” и “перебой ритма”. Ритмом мы называем регулярно повторяющееся чередование каких-либо элементов, непосредственно улавливаемых чувствами [Поэтому здесь исключаются явления с длительной периодичностью: смена дня и ночи, времен года и т.п.], во времени (музыка, стих), пространстве (орнамент) или одновременно во времени и пространстве (пляска). Таких элементов должно быть минимум два (усиление — ослабление, удар — пауза и т.п.), но может быть и больше (например, сложные танцевальные па). Определенные комбинации этих элементов составляют повторяющуюся ритмическую единицу. Такие единицы могут, в свою очередь, объединяться в комплексные единицы высшего порядка, те — в еще более крупные (например, стопы, полустишия, стихи, периоды, строфы). Тождество повторяющихся элементов присуще только простейшим механическим ритмам, таким, как качание маятника, тиканье часов и т.п. Искусства (музыка, поэзия) обращаются к ритмам более сложным и тонким. При этом тождество повторяющихся элементов встречается весьма редко и лишь в части целого, например, в рефренах; достаточно подобия, иногда более, иногда менее близкого, чтобы слух уловил отчетливую ритмичность. Так, для узнавания стихотворного размера достаточно определенного расположения ударных и безударных слогов, качество гласных безразлично, согласные же могут различаться и по качеству, и по количеству. Повторность полностью тождественных элементов достижима лишь при повторении того же звука или звукосочетания, что практически возможно разве что в бое барабана или в колыбельной “баю-бай, баю-бай...”. Таким образом, ритм в искусстве — в частности, стихотворный — предстает как единство в многообразии. Ритмические системы (например, стихотворные размеры) могут быть более или менее строгими. Так, в трехсложных силлабо-тонических размерах промежутки между метрически сильными ударными слогами только двусложны; в дольниках они варьируются в узких пределах, чаще всего от одного до двух; в акцентном стихе они неопределенны, их амплитуда шире. Чем строже система, тем большее количество элементов ее образует и тем выше уровень их упорядоченности. Соответственно изменение междуударного интервала на один слог в трехсложном размере будет очень резким метрическим перебоем; то же в дольнике будет ощутимой ритмической вариацией размера, не ломающей его структуры; в акцентном стихе различие на один безударный слог будет лишь тонким нюансом ритмического рисунка. Ощущение перебоя размера может возникнуть лишь в том случае, когда изменяется формообразующий, структурный элемент. Ритмичность присуща многим явлениям природы и, что для нас особенно существенно, многим сторонам жизни человека. Ритмичны многие внутренние процессы (дыхание, сердцебиение); ритмичность облегчает многие проявления жизнедеятельности человека (ходьба, трудовые движения и пр.). Объективно полезное часто становится субъективно приятным; это относится и к области ритма. Ритмичность движений и звуков становится приятной и может приобрести эстетическую функцию. В некоторых случаях даже трудно провести границу между наслаждением чисто физиологическим и эстетическим (например, в танце или детском беге вприпрыжку). Если ритм облегчает повторяющиеся движения и доставляет удовольствие, то нарушения ритма, напротив, их затрудняют и создают ощущение чего-то досадного, раздражающего. Каждый знает, что идти по неравномерно положенным шпалам не только утомительно, но и очень неприятно. Нарушение привычного ритма — очень сильный раздражитель, именно поэтому в поэзии оно может быть сильным выразительным средством, ритмическим курсивом, выделяющим важное для поэта слово, строчку, строфу. Наш слух очень быстро схватывает ритм. Мы подсознательно ожидаем повторения уже узнанного ритмического движения: за четырехстопным ямбом — четырехстопного же; если два стиха неравны — повторения такой же пары; созвучия А — б — А вызывают ожидание замыкания звукоряда — рифмы б; вслед за первым перекрестным четверостишием мы ожидаем следующего такого же — и так далее. Повторность в стихе не ограничивается рамками размера — повторяются рифмы, интонационно-ритмическая структура, строфическая композиция. Каждый повтор создает эффект удовлетворенного ожидания, существенного для восприятия эстетической структуры стиха. Важно отметить, что это происходит интуитивно. Если ставший привычным повтор любого элемента стихотворной структуры не наступнл, то создается ощущение ритмического перебоя. Последние обычно рассматриваются суженно, только как внезапное изменение стихотворного размера. Изучались они преимущественно в стихотворной практике Маяковского. В поэзии XIX в. обычно указывались ставшие хрестоматийными примеры из Тютчева (“Silentium!”, “Последняя любовь”). Но ритмические перебои такого типа — лишь частный случай более общего явления, наблюдаемого и в фонической, и в строфической, и в интонационно-синтаксической структуре стихотворной речи. Нарушение ритмической инерции любого повторяющегося элемента создает сходный эффект — эффект обманутого ожидания. Рассмотрим, как он проявляется в различных повторяющихся единицах, начнем с самой крупной — строфы. Эффект обманутого ожидания (для краткости будем обозначать его в дальнейшем словом “перебой”) может вызываться в строфе тремя способами: изменением порядка рифм, изменением длины стиха, изменением количества стихов в строфе. Первый — самый слабый, второй заметно сильнее, третий — очень резкий и заметный. Начнем с первого. Перебой ощутим в том случае, когда ритмическая инерция уже сложилась, в строфической композиции он ощутим не ранее третьей строфы. Если стихотворение состоит всего из двух строф разного строения (например, “Если жизнь тебя обманет...” Пушкина: за четверостишием с охватной рифмовкой следует четверостишие с перекрестной), то это различие, несомненно, воспринимается слухом, но восприятие это — особого рода: слуху неясно, свободная ли это строфическая форма с колеблющейся рифмовкой (а таких у Пушкина немало, например, “Друзьям” — неупорядоченное чередование охватных и перекрестных четверостиший) или перебой. Поэтому здесь рассматриваются стихотворения, состоящие минимум из трех строф. Если изменение рифмовки в строфе наступает в начале стихотворения (первая строфа одного строения, остальные — другого, как, например, в стихотворении Саши Черного “Анархист”: первое четверостишие охватное, остальные — перекрестные), то наш слух воспринимает изменение ритмического движения, но о перебое здесь говорить нельзя: ритмическая инерция еще не установилась. Перебой ощутим не ранее третьей строфы и на практике чаще всего оттеняет заключительную. Обычно это встречается в четверостишиях перекрестного и охватного строения. Так как первые два стиха в обеих формах однотипны (аб..), то ощущение перебоя возникает с третьего, выделяя, подчеркивая два последних стиха (..ба вместо ..аб или наоборот), т.е. именно концовку стихотворения, его лирическую вершину. (О значении концовки и способах ее семантического подчеркивания говорилось в предыдущей главе.) В классической русской поэзии подобные примеры встречались не часто, но многие из них очень выразительны. Для строфики Пушкина, например, характерны четверостишия либо неизменного строения, либо с неупорядоченной, свободной рифмовкой, в которой ритмическая инерция не успевает установиться. Но в нескольких стихотворениях переход от перекрестных четверостиший к охватному (“Желание”, “Аквилон”, “Приметы”, “Ода VI (из Анакреона)”) или от охватных к перекрестному (“Баратынскому”, “Кто, волны, вас остановил...”, “Ты богоматерь, нет сомненья”) отчетливо выделяет концовку, заключение лирической мысли и чувства. Для примера приведем “Приметы”. Я ехал к вам: живые сны За мной вились толпой игривой, И месяц с правой стороны Сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь: иные сны... Душе влюбленной грустно было; И месяц с левой стороны Сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши Так предаемся мы, поэты; Так суеверные приметы Согласны с чувствами души. Во всех названных стихотворениях, как и в “Приметах”, концовка так или иначе противопоставлена предыдущим строкам: как вывод, контраст и т.п. Во всех этих случаях композиционный, смысловой курсив концовки усилен курсивом ритмическим. У Лермонтова стихотворений подобной структуры еще меньше, чем у Пушкина (“Эпитафия”, 1832, “Великий муж! здесь нет награды...”, 1836, “Когда волнуется желтеющая нива...”, 1837, “Договор”, 1841, “Пророк”, 1841), но почти все они относятся к периоду зрелого творчества, половина их — программные. Вот их концовки, говорящие сами за себя: ...И счастье я могу постигнуть на земле И в небесах я вижу бога!.. (Когда волнуется желтеющая нива...) ...Была без радости любовь, Разлука будет без печали. (Договор) ...Смотрите, как он наг и беден, Как презирают все его! (Пророк) Изменение порядка рифм в строфе — перебой отчетливый, но сравнительно слабый; сильнее эффект изменения ставшей привычной длины стиха. Подруги милые! в беспечности игривой Под плясовой напев вы рéзвитесь в лугах. И я, как вы, жила в Аркадии счастливой, И я, на утре дней, в сих рощах и лугах Минуты радости вкусила: Любовь в златых мечтах" мне счастие сулила: Но что ж досталось мне в сих радостных местах? — Могила! (Батюшков. Надпись на гробе пастушки) В поэзии XIX в. подобные перебои редки, в XX в. встречаются гораздо чаще. Очень любил этот тип перебоя Маяковский. Он часто помещал важное для него слово в качестве отдельной короткой строчки в конец четверостишия, а первые три стиха делал длинными, добиваясь, сильного ритмико-смыслового эффекта. Так, например, в первом четверостишии стихотворения “Сергею Есенину” выделено знаменитое “Трезвость”: вольные хореи располагаются по схеме 6—5—5—1. В стихотворении “Товарищу Нетте, пароходу и человеку”, написанном тем же размером, контраст в первой строфе еще резче: 6—6—8—1 — выделена впервые упоминаемая в этом стихотворении фамилия Нетте; в этом случае строфический перебой усилен еще переносом. По подсчетам Л.И.Тимофеева, таких строфических перебоев у Маяковского более ста [Тимофеев Л. Из наблюдений над поэтикой Маяковского. // Творчество Маяковского: Сб. статей. М., 1952. С. 170]. В приведенных им примерах встречается усиление концовки и отдельных строф, и целых стихотворений. Но особенно резко подчеркнута концовка при изменении количества стихов в последней строфе, скажем, после ряда четверостиший — пятистишие, трехстишие, двустишие. Читателя, успевшего привыкнуть к ритмической и рифмической инерции, поражает и останавливает лишний стих или их нехватка. Смолкли честные, доблестно павшие, Смолкли их голоса одинокие, За несчастный народ вопиявшие, Но разнузданы страсти жестокие. Вихорь злобы и бешенства носится Над тобою, страна безответная. Все живое, все доброе косится... Слышно только, о ночь безрассветная! Среди мрака, тобою разлитого, Как враги, торжествуя, скликаются, Как на труп великана убитого Кровожадные птицы слетаются, Ядовитые гады сползаются... (Некрасов) Такую же функцию выполняет изменение стихотворного размера в концовке. Что ты, сердце мое, расходилося? Постыдись! Уж про нас не впервой Снежным комом прошла-прокатилася Клевета по Руси по родной. Не тужи! пусть растет, прибавляется, Не тужи! как умрем, Кто-нибудь и про нас проболтается Добрым словцом. (Некрасов. — В последнем стихе — дактиль вместо анапеста) Очень сильный строфический шеребой — неожиданное исчезновение рифмы, в особенности в концовке. Саша Черный очень эффектно заканчивает таким перебоем стихотворение “Переутомление”, изображающее муки бездарного поэта, “истратившего до конца” все рифмы: Нет, не сдамся... Папа — мама, Дратва — жатва, кровь —любовь, Драма — рама — панорама, Бровь—свекровь — морковь... носки! Все эти типы строфических перебоев могут комбинироваться друг с другом, вызывая усиленный эффект. Примером такого сочетания может служить стихотворение Блока “Я сегодня не помню, что было вчера...”: Я сегодня не помню, что было вчера, По утрам забываю свои вечера, В белый день забываю огни, По ночам забываю дни. Но все ночи и дни наплывают на нас Перед смертью, в торжественный час. И тогда — в духоте, в тесноте Слишком больно мечтать О былой красоте И не мочь: Хочешь встать — И ночь. До сих пор рассматривались перебои в концовках стихотворений и строф. В произведениях крупного размера (поэмы, большие лирические стихотворения) нередко ритмически выделяются важные для поэта места и в середине текста. Так, например, в стихотворении Маяковского “Сифилис” после четырнадцати перекрестных четверостиший появляется неожиданное пятистишие, а за ним идет еще десять четверостиший: Луна в океан накидала монет, хоть сбросся, вбежав на насыпь! Недели ни хлеба, ни мяса нет. Недели — одни ананасы. Опять пароход привинтило винтом. Следующий — через недели! Как дождаться с голодным ртом? — Забыл, разлюбил, забросил Том! С белой рогожу делит! Подчеркнутые строфическим перебоем два последних стиха лирически насыщенны и важны для последующего поворота темы — они объясняют психологически, почему верная жена Тома, которую прогнали с плантаций за отказ “платить натурой”, смогла продать свое тело сифилитику Свифту. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, Саша Черный, Маяковский — яркие и несхожие индивидуальности разных эпох и направлений. Но в приведенных примерах легко улавливается общая черта. Различные по характеру и интенсивности перебои подчеркивают наиболее важные для поэта места стихотворения. Таким образом, мы имеем полное право говорить о смысловом значении перебоев. Но семантика эта — особого рода. В наши дни, кажется, стала уже (или, во всяком случае, должна бы стать) вполне очевидной бесплодность поисков собственного постоянного значения стихотворных размеров (“веселые хореи”, “печальные анапесты”), семантики звуков (радостные “а”, заунывные “у”) и т.п. Как резонатор, сам не будучи источником звуков, усиливает их, так и перебой, не имея собственного постоянного значения, выделяет, подчеркивает строки, а следовательно, и смысл содержащихся в них слов. (Конечно, при этом следует помнить, что смысл в поэзии — не только логическое, но и экспрессивно-эмоциональное содержание слов и словосочетаний.) Сказанному, казалось бы, противоречит приведенный выше пример: концовка стихотворения Саши Черного “Переутомление”. Исчезновение рифмы в конце не только подчеркивает смысл последних слов, но и логически завершает тему стихотворения. Однако противоречие здесь мнимое: перед нами редкий случай — рифма в этом стихотворении не только, как обычно, один из признаков стихотворной формы, но и тема стихотворения. Весьма своеобразны такие интонационно-ритмические перебои, как перенос и внутристиховая пауза. Как и строфический перебой, перенос может подчеркнуть концовку небольшого лирического стихотворения. Так, стихотворение Фета “Я пришел к тебе с приветом...”, типичное для романсной композиции, построено очень симметрично: интонационно законченные стихи строятся в пары и четверки, скрепленные анафорами; лирическое напряжение возрастает от пары к паре, от четверостишия к четверостишию, разрешаясь в последней паре, неожиданно подчеркнутой сильным переносом: ...Что не знаю сам, чтó буду Петь. — но только песня зреет. Нередко, особенно в крупных произведениях, перенос, как и неожиданная внутристиховая пауза (эти явления тесно связаны), может подчеркнуть важные для поэта слова в любом месте стихотворения, не только в концовке. ...Вновь я посетил Тот уголок земли, где я провел Изгнанником два года незаметных. Уж десять лет ушло с тех пор — и много Переменилось в жизни для меня... Л. И. Тимофеев писал о психологической содержательности пауз в реплике Сальери: Постой, постой!.. Ты выпил!.. Без меня? [Тимофеев Л. И. Число и чувство меры в изучении поэтики // Слово и образ. М., 1964. С. 279] Вопрос об экспрессивной роли переносов и пауз достаточно изучен [Тимофеев Л.И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958], поэтому здесь можно ограничиться сказанным. Вероятно, самый сильный ритмический перебой — это внезапное изменение стихотворного размера. Встречается он в двух основных видах. Первый — включение в более или менее пространный монометрический текст стиха иного размера. В этом случае резко выделяется иноразмерный стих, контрастирующий с однородным общим фоном. Второй вид — столкновение в пределах одного стихотворения или главки в поэме небольших отрывков (одна строфа или небольшое их число), написанных разными, контрастирующими размерами. В этом случае выделяется граница между размерами, подчеркивающая обычно тематический или экспрессивный перелом. Между этими типами может не быть резкой границы, встречаются переходные формы, которые с равным основанием можно отнести к обоим типам (например, включение в монометрический текст не одного стиха, а строфы или более). Второй тип очень характерен для поэзии XX в., в которой развиваются и усиливаются полиметрические композиции. Если разноразмерные отрывки будут увеличиваться, то резкость переломов ослабеет и совершится переход к близкой, но не тождественной форме: произведению из обособленных главок, написанных разными размерами. В XIX в. перебои обоих типов встречаются реже. В поэзии господствует монометрия; иноразмерные вставки — это чаще всего “вставные номера” типа “Песни девушек” в “Евгении Онегине”. Особенно редок первый тип — именно поэтому исследователи так часто приводят одни и те же примеры. Особенно часто, что вполне естественно, привлекали внимание “Silentium!” и “Последняя любовь” Тютчева: ...Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне... (“Silentium”) О как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней... (“Последняя любовь”) Перебои здесь (строка амфибрахия в первом случае, лишний слог во втором) особенно резки, потому что разламывают самый традиционный, а следовательно, самый консервативный размер — четырехстопный ямб, составляющий основу обоих стихотворений. Очень интересны перебои размера у Некрасова. Все они очень экспрессивны потому, что встречаются как редкие исключения в пространных текстах, но мотивированы они различно. “Генерал Топтыгин” написан чередующимся четырех- и трехстопным хореем. В двух коротких строках встречается так называемая синкопа — перенос ударения с первого слога, стиха на второй. Заворочался в санях Михайло Иваныч... …………………………… Прибежали той порой Ямщик и вожатый... Этот ритмический ход, встречающийся в русской поэзии только в хорее, восходит, несомненно, к фольклору; им нередко пользовались Кольцов и Шевченко, от последнего он перешел к Багрицкому, широко применившему его в “Думе про Опанаса”: По откосам виноградник Хлопочет листвою... Замечательны дольниковые и даже тактовиковые строки среди трехсложников Некрасова. Дольники: Бедных, богатых не различающий (“Пожарище”), Колокола-то, колокола (“Деревенские новости”); в “Псовой охоте” дольники мотивированы синтаксическим параллелизмом в двухчастном стихе: Чтó твой Россини! чтó твой Бетховен!; Здесь он не струсит, здесь не уступит; Много травили, много скакали. В “Песне убогого странника” из “Коробейников” в каждом трехстишии третий стих — тактовик; в одном трехстишии он сочетается с дольником первого стиха: Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь? С холоду, странничек, с холоду, С холоду, родименькой, с холоду! Редактор первого посмертного издания сочинений Некрасова С.И.Пономарев самовольно поправлял мнимые ошибки поэта. Чернышевский справедливо писал: “Обыкновенно повод к поправкам подает ему “неправильность размера”; а на самом деле размер стиха, поправляемого им, правилен. Дело в том, что Некрасов иногда вставляет двусложную стопу в стих пьесы, писанной трехсложными стопами; когда это делается так, как делает Некрасов, то не составляет неправильности. Приведу один пример. В “Песне странника” Некрасов написал: Уж я в третью: мужик! Что ты бабу бьешь? В „Посмертном издании" стих поправлен: ...что ты бабу-то бьешь? Некрасов не по недосмотру, а преднамеренно сделал последнюю стопу стиха двусложною: это дает особую силу выражению. Поправка портит стих” [Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1939. С. 751]. Перебои размеров второго типа (частая смена размеров в небольших фрагментах), складывающиеся еще в XIX в. (самый яркий пример — “Современники” Некрасова), стали особенно популярными начиная с Блока, Хлебникова, Маяковского, Цветаевой. Этот тип перебоев изучен достаточно хорошо, поэтому на них можно не останавливаться. До сих пор говорилось о перебоях стихотворных размеров. Возникает вопрос, могут ли стать перебоями изменения ритмических вариаций одних и тех же размеров, а если могут, то какие именно. Этому вопросу посвящена изобилующая интересными наблюдениями и мыслями (хотя во многом спорная) статья С.П.Боброва [Бобров С. Синтагмы, словоразделы и литавриды // Рус. лит. 1965. № 4; 1966. № 1]. Однако автор анализирует тонкие ритмические нюансы, воспринимаемые воспитанным, изощренным слухом. Нас же здесь интересуют достаточно резкие ритмические контрасты, создающие ощущение перебоя; они возможны при столкновении привычных ритмических форм стихотворного размера с очень редкими, экзотическими. Как известно, в трехсложных размерах пропуски метрических ударений (трибрахии) в XIX в. были неупотребительны. У большинства поэтов XIX в. трибрахии не встречаются совсем, у нескольких они единичны, только у Некрасова их целых пятнадцать: три в дактиле: Полная духа античеловечного (“Литература с трескучими фразами...”), Лаяли, злились до самозабвения (“Пожарище”), Имя ей Тарбагатай (“Дедушка”); один в амфибрахии: Той благословляющей песни (“Княгиня Волконская”); одиннадцать в анапесте: И родню свою длиннобородую (“Современная ода”), Где с полугосударства доходы (“Убогая и нарядная”), Русокудрая, голубоокая (“Рыцарь на час”), Десятипудовый генерал (“О погоде”), Стройно шествовал кордебалет (“Притча о киселе”), Появляется кордебалет (“Балет”), Слышал, как князь NN говорил, Подкосила их ликантропия, Наезжали к ним славянофилы, Я, душа моя, славянофил (“Недавнее время”), Предприятья железнодорожные (“Современники”). Как видно из этого перечня, стихи с трибрахиями встречаются у Некрасова в качестве сильного ритмического курсива на протяжении всего творчества. (Заметим в скобках, что Некрасов до сих пор недооценен как смелый стихотворец-новатор.) У поэтов XX в. трибрахии встречаются чаще, но все же относительно редки и ощущаются как перебой, ритмический курсив. Больше всего их у Пастернака: в дактиле 20, анапесте 63, амфибрахии целых 123, всего — 206. Трижды у него находим даже по два трибрахия в одном стихе: Расскальзывающаяся артиллерия (“Дурной сон”), О, вольноотпущенница, если вспомнится (“Душа)”, Захлебывающийся локомотив (“Город”), В ямбах ощущение некоторого перебоя создают спондеи, особенно когда подряд идут три ударения (“Вон, пёс! Вот до чего меня доводит...”). Еще гуще скапливал ударения Державин: “Рéв крáв, грóм жóлн и коней ржанье” и даже единственное в русской поэзии: “Гдé ж óн? — Óн тáм. — Гдé тáм — Не знаем” — с шестью ударениями подряд. Но и обычные в двусложниках пиррихии могут создавать перебои при скоплении редких ритмических форм, особенно в четырехстопном ямбе — редчайшая V форма ППЯЯ и сверхэкзотическая одноударная VIII ПППЯ. В отличие от XIX в., в XX в. некоторые поэты хотя и крайне редко, но все же пользовались V формой. Рекорд и здесь поставил Пастернак, у него есть целых девять строк V формы. В “Высокой болезни” идут подряд два стиха этой формы, создавая сильный перебой. Бряцанье шпор ходило горбясь, Преданье прятало свой рост За железнодорожный корпус, Под железнодорожный мост. В стихотворении “Музыка” редкие формы количественно преобладают, в их числе — две V. У Кушнера встречается пятистопный ямб с тремя пиррихиями подряд: Поэзия, ты непереводима (Стихотворение “Где улица?..”). У Евтушенко мы услышим и два трибрахия в одном стихе: Я в трущобы входил. Две креольских наяды Были телохранительницами со мной... (“Фуку”) и даже почти неправдоподобную VIII форму четырехстопного хорея: Он остался чистым-чистым Интернационалистом. (“Допотопный человек”) Правда, до него Сельвинский в “Записках поэта” столкнул два стиха VIII формы четырехстопного ямба, но это было не в “нормальном” стихотворении, а в нарочитом эксперименте: Я человеконенавистник И не революционер. Подобные строки среди обыкновенных ямбов и хореев звучат ощутимым перебоем. Даже тот ограниченный материал, которого удалось здесь коснуться, подтверждает правильность высказанного ранее положения: чем строже стиховая система, тем сильнее воспринимается даже незначительное нарушение ритмической инерции; чем свободнее система, тем сильнее должны быть изменения, которые заставят читателя услышать перебой. В четком строфическом стихе изменение порядка рифм очень заметно, а в нестрофических поэмах Пушкина прихотливо чередующиеся рифмы создают общий фон свободной системы. Так же соотносятся стих мерный и изобилующий переносами, силлабо-тоника и акцентный стих и т.д. Чистые, отчетливо выраженные формы ясны и не введут исследователя в сомнение. Иное дело — переходные формы, которых в литературе великое множество и перечесть которые нет возможности. К ним относятся, например, неуравновешенные, асимметричные строфы, такие как пятистишия. При первом чтении такая строфа производит впечатление слабого ритмического перебоя, когда после двух стихов с рифмами аб ожидается повторение аб, а наступает ааб или абб. Тут, правда, необходима поправка на традицию: привычная форма, хоть и несимметричная, с самого начала не вызывает ощущения перебоя. Так, четверостишие на одну рифму с третьим холостым стихом для русского слуха экзотично, а в восточной поэзии — традиционное рубаи. Зато непривычная асимметричная строфа вызывает сильный эффект, ослабевающий по мере ее повторения, но не совсем исчезающий. Мастером подобных неожиданных, “обманных” строф с необычайным расположением холостых стихов был Саша Черный. Во имя чего уверяют, Что надо кричать: “Рад стараться!”? Во имя чего заливают Помоями правду и свет?.. (“Во имя чего?..”. — Схема бхбх вместо обычной обратной — хбхб) Окруженный кучей бланков, Пожилой конторщик Банков Мрачно курит и косится На соседний страшный стол... (“Страшная История”. — Второе двустишие неожиданно холостое) В некоторых случаях границу между ритмическим перебоем и очень свободной системой с широкой амплитудой колебаний провести просто невозможно, а пожалуй, и не нужно. Такая неустойчивая зыбкая система создает своеобразный эстетический эффект, несхожий с впечатлением от полярных форм, между которыми она располагается. Сравним в этом плане поэмы “Человек” Маяковского, “Ладомир” Хлебникова и “Торжество земледелия” Заболоцкого. В “Человеке” совмещаются резко контрастные размеры — от четкого ямба (преимущественно отрывки в 2—3 четверостишия) до акцентного стиха и даже прозы. Переходы от одного размера к другому ясно мотивированы тематически, обычно контрастны, иногда даже графически обозначены пробелами. Замкнуло золото ключом глаза. Кому слепого весть? Навек теперь я заключен в бессмысленную повесть! Долой высоких вымыслов бремя! Бунт муз обреченного данника. Верящие в павлинов — выдумка Брэма! — верящие в розы — измышление досужих ботаников!.. Совсем иная картина — в “Ладомире”. Его основа — ямб (473 строки — 84%), в основном четырехстопный (411 строк). 33 строки — амфибрахий, почти весь трехстопный, 31 строка — хорей, почти сплошь четырехстопный, 10 строк анапеста, почти целиком трехстопного, 1 — трехстопный дактиль, 18 стихов безразмерных или сомнительных. Так как трехстопные трехсложники по слоговой длине близки к четырехстопным двусложникам, то контраст размеров умеряется сходством стихов по длине. Основа поэмы — четырехстопный ямб, встречающийся большими тирадами до 34 стихов, но чаще — от 5 до 10, Большое количество относительно длинных пассажей устанавливает инерцию основного размера, что делает перебои ясно ощутимыми — но не так, как у Маяковского. В то же время тематические переломы не всегда ясны, порой даже внутри одного предложения происходит смена размеров, контраст метрический не совпадает с тематическим, что создает ощущение зыбкого, текучего, прихотливо меняющегося размера. Вот два примера: 222 В день смерти зим и раннею весной Нам руку подали венгерцы. Свой замок цен, рабочий, строй Из камней ударов сердца... Колено ставь на грудь, Будь сильным как-нибудь. И ветер чугунных осп иди Под шепоты “господи, господи>... [Первым смелым экспериментатором в этой области задолго до Хлебникова был недооцененный в этом плане поэт — А.И.Одоевский. Если бы его стихотворение “Брак Грузии с русским царством” включить в сборник произведений Хлебникова, то. читатель, недостаточно знакомый с творчеством обоих поэтов, мог бы не заметить вопиющего анахронизма] “Торжество земледелия” и по теме (что неоднократно отмечалось критикой), и по стиховой композиции перекликается с “Ладомиром”. В поэме Заболоцкого — тоже пестрый метрический состав, хотя и отличающийся от хлебниковокого. Из 799 стихов — 437 ямбов (из них четырехстопных 414), 340 хореев (из них четырехстопных 335), 22 стиха —прочие размеры. Основной фон — четырехстопные ямб и хорей. Кроме одной главы (сплошь хореической “Битвы с предками”), как и у Хлебникова, ритмическое движение строится на перебивах. Как и у Хлебникова, есть и дробные перебивы, и одноразмерные пассажи: хорея до 33, ямба — до 29 стихов (одна тирада — 91 стих). Но при всем внешнем сходстве есть и существенные отличия от Хлебникова. При общей неуравновешенной и зыбкой основе (ямб непривычно совмещается с хореем) у Заболоцкого чаще встречается тематическая мотивировка контрастных переходов, что сближает его в этом плане с Маяковским. Так, в прологе четким перебоем выделена концовка: после 5 четверостиший четырехстопного хорея (среди них оказался один ямбический стих) — три строки четырехстопного ямба и заключительная безразмерная строка. ..................... А над ним на небе тихом, Безобразный и большой, Журавель летает с гиком, Потрясая головой. Из клюва развивался свиток, Где было сказано: “Убыток Дают трехпольные труды”. Мужик гладил конец бороды. В главе I “Беседа о душе” каждая новая реплика крестьян отмечена переломом, большей частью сильным. ритмическим Меня, милую, берите, Скучно мне лежать одной. Хоть со мной поговорите, Поговорите хоть со мной. “Это бесконечно печально!” — Сказал старик, закуривая трубку... Из сказанного видно, как сложны и многообразны бывают даже внешне схожие перебои размеров (как и вообще ритмические перебои всех видов). За внешним сходством чередования размеров могут скрываться значительные функциональные различия, а схожие функции могут осуществляться очень несхожими формальными приемами. Как и вообще в искусстве, здесь каждая истина конкретна, каждое произведение — свой особый мир, и писателя надо судить по законам, им самим над собою признанным. Ритмическими перебоями как сильным выразительным средством пользовались очень непохожие поэты разных времен, и характер этих перебоев был различен. Очевидно, что и эту особенность стихотворной формы надо изучать исторически, и это требует подробного исследования. Здесь пунктирно намечены лишь основные типы перебоев. [1969] Впервые напечатано в сб.: Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969 Текст дается по изданию: Холшевников В.Е. Стиховедение и поэзия. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1991, 209-224