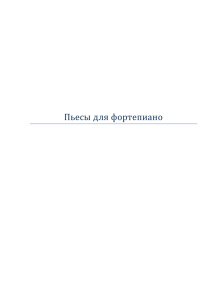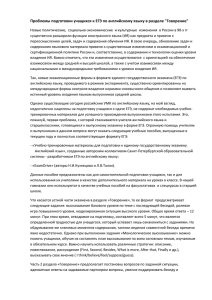Г. В. Зыкова ВСПЛЫВАЮЩИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ: ДОСТОЕВСКИЙ О СМЕРТИ И ВЕЧНОСТИ
advertisement
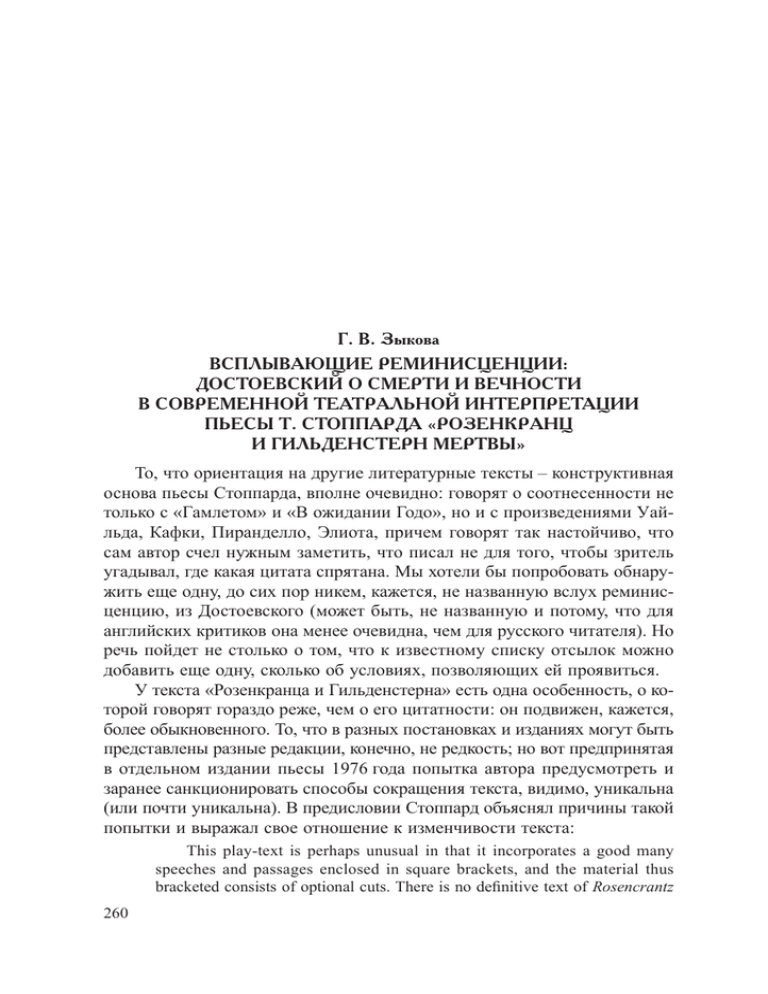
Г. В. Зыкова ВСПЛЫВАЮЩИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ: ДОСТОЕВСКИЙ О СМЕРТИ И ВЕЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПЬЕСЫ Т. СТОППАРДА «РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ» То, что ориентация на другие литературные тексты – конструктивная основа пьесы Стоппарда, вполне очевидно: говорят о соотнесенности не только с «Гамлетом» и «В ожидании Годо», но и с произведениями Уайльда, Кафки, Пиранделло, Элиота, причем говорят так настойчиво, что сам автор счел нужным заметить, что писал не для того, чтобы зритель угадывал, где какая цитата спрятана. Мы хотели бы попробовать обнаружить еще одну, до сих пор никем, кажется, не названную вслух реминисценцию, из Достоевского (может быть, не названную и потому, что для английских критиков она менее очевидна, чем для русского читателя). Но речь пойдет не столько о том, что к известному списку отсылок можно добавить еще одну, сколько об условиях, позволяющих ей проявиться. У текста «Розенкранца и Гильденстерна» есть одна особенность, о которой говорят гораздо реже, чем о его цитатности: он подвижен, кажется, более обыкновенного. То, что в разных постановках и изданиях могут быть представлены разные редакции, конечно, не редкость; но вот предпринятая в отдельном издании пьесы 1976 года попытка автора предусмотреть и заранее санкционировать способы сокращения текста, видимо, уникальна (или почти уникальна). В предисловии Стоппард объяснял причины такой попытки и выражал свое отношение к изменчивости текста: This play-text is perhaps unusual in that it incorporates a good many speeches and passages enclosed in square brackets, and the material thus bracketed consists of optional cuts. There is no definitive text of Rosencrantz 260 and Guildenstern Are Dead1: the New York production differed in many small textual ways from the London production, and the text performed for the American tour differs from both. I doubt that the same text has been performed in two different places anywhere in the world. This seems to me only sensible. A joke that is funny in London might be meaningless in Milan (or New Orleans), and there is no virtue in preserving it just because it was in the original script. Again, an expensive and visually exiting production using thirty-six actors might hold up well over three hours, while a very simple and small production might well work better in a version lasting two. So, on the one hand, I would like each director to control the length and complication of each production (as is usual), and, on the other hand, I would like to define the area in which he has a free hand with the text2. Видимо, вариативность текста пьесы Стоппарда представляется более заметной и удивительной тому, кто глядит на это со стороны, из другой (русской, например) национальной культуры, с другими «правилами приличия». Внутри английской театральной традиции это, наверно, выглядит иначе, нормальнее и привычнее: классическая основа английского театра – пьесы очень старые и потому провоцирующие их адаптировать; к тому же традиция свободного обращения с текстами елизаветинцев складывается раньше, чем появляется романтическое представление о 1 Отказ от понятия дефинитивного («основного») текста – как известно, распространенная тенденция в современной текстологии, в том числе отечественной; а вот прямые признания автора в том, что основной редакции его произведения не существует, встречаются, кажется, не так часто (хотя и вполне соответствуют т.н. постмодернистской эстетике). 2 «Это издание текста пьесы, ориентированное на потребности театра, возможно, необычно в том отношении, что здесь довольно много реплик и фрагментов разного рода заключено в квадратные скобки, и так помечено то, что может быть, если требуется, сокращено. Дефинитивного текста пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» не существует: текст нью-йоркской постановки отличался во многих частных деталях от текста лондонской постановки, а текст, исполнявшийся во время американских гастролей, отличался от них обеих. Я сомневаюсь, что в мире были две постановки с совпадающим текстом. Это представляется мне вполне разумным. Шутка, способная насмешить в Лондоне, может быть бессмысленной в Милане (или Новом Орлеане), и нет никакой заслуги в том, чтобы сохранять ее только потому, что она была в исходной авторской редакции. Кроме того, если дорогостоящая и визуально привлекательная постановка, где участвуют тридцать шесть актеров, может вполне не наскучить, продолжаясь много больше трех часов, то скромная малобюджетная постановка будет смотреться лучше, если использовать редакцию, рассчитанную на два часа. Так что, с одной стороны, я бы хотел, чтобы каждый постановщик сам определял продолжительность и степень сложности спектакля (как это обычно и бывает), и, с другой стороны, я бы хотел определить границы, внутри которых постановщик может свободно обращаться с текстом» [перевод наш. – Г. З.] (Stoppard T. Author’s note // Stoppard T. Rosencrantz and Guildenstern Are Dead. London, 1976). 261 индивидуальном стиле и авторской воле. У Шекспира не только сокращают и отдельные строчки, и целые сцены, но и, например, передают реплики одного персонажа другому и даже переносят фрагменты из одного произведения в другое: так, Оливье в «Ричарде III» увеличил знаменитый монолог «Now is the winter of our discontent», добавив строки из «Генриха VI», и никого тем не шокировал. Отсылки к Достоевскому проявились, как нам кажется, в одной из недавних театральных версий «Розенкранца и Гильденстерна». В 2013 г. на праздновании юбилея Национального театра (Лондон) пьеса Стоппарда (впервые поставленная профессионально именно в NT в 1967 г.) была представлена на основе трансформированного фрагмента3, одного из самых известных, с рассуждениями Розенкранца о смерти и вечности: сцена начиналась так, как начинается пьеса, с подбрасывания монетки («Heads…»), затем дана реплика Гильденстерна уже из второго акта, но превращенная из утверждения («Yes, one must think of the future») в вопрос («What do you think of the future?») и следующие за ней в основном тексте пьесы, как он обычно публикуется, семь реплик почти без лексических изменений. Интонационные изменения есть, видимо, чтобы усилить связность диалога: еще одно утверждение Гильденстерна («To have one») произносится актером (K. Holdbrook-Smith) опять-таки как вопрос. Завершающая сцену реплика Розенкранца сокращена больше чем наполовину, причем это сокращение «не предусмотрено» в издании 1976 г. Получается следующее: R. Heads… heads! heads… heads! G. What do you think of the future? R. It’s the normal thing. G. To have one? One is, after all, having it all the time – now – and now – and now… R. It could go on for ever. Well, not for ever, I suppose. (Pause.) Do you ever think of yourself as actually dead, lying in a box with a lid on it? G. No. R. Nor do I, really. – It’s silly to get depressed by it4. I mean one thinks of it like being alive in a box, one keeps forgetting to take into account the fact that one is dead – which should make all the difference – shouldn’t it? I mean, you’d newer know you were in a box, would you? It would be just like being asleep in a box. Not that I’d like to sleep in a box, mind you, not without any 3 Запись юбилейного представления демонстрировалась в первой половине 2014 г. в кинотеатрах, в том числе и в России (в рамках проекта TheatreHD) и продается на дисках Национальным театром; обсуждаемая здесь часть сразу стала доступна в Сети, напр., на YouTube и Vimeo: центральную в данном случае роль Розенкранца исполнял Б. Камбербэтч. 4 В тексте обычно «to be depressed», видимо, замена случайная. 262 air – you’d wake up dead, for a start, and then where would you be? Apart from inside the box. That’s the bit I don’t like, frankly. That’s why I don’t talk about it5. Because you’d be helpless, wouldn’t you? Stuffed in a box like that, I mean you’d be in there for ever. Even taking into account the fact that you’re dead, I mean, really… ask yourself, if I asked you straight off – I’m going to stuff you in this box now, would you rather be alive or dead? Naturally, you’d prefer to be alive! Because life in a box is better than no life at all, I expect. You’d have a chance at least. You could lie there thinking – well, at least I’m not dead! In a minute someone’s going to bang on the lid and tell me to come out. «Hey you, whatsyourname! Come out of there!» G. You don’t have to flog it to death! R. I wouldn’t think about it, if I were you. You’d only get depressed. Eternity is a terrible thought. I mean, where’s it going to end?6 5 В разных редакциях текста все-таки «I don’t think of it»; возможно, заменено сознательно, ради комического эффекта – и в записи слышно, как публика действительно здесь смеется. 6 Р. Орел… орел! орел… орел! Г. Что думать о будущем? Р. Это нормально. Г. Иметь будущее. В конце концов, человек его всегда имеет… сейчас… и сейчас… и сейчас… Р. Это может продолжаться вечно. Впрочем, нет, не вечно, я думаю. Ты представляешь себя когда-нибудь мертвым, по-настоящему, в ящике и с крышкой сверху? Г. Нет. Р. И я нет, на самом деле. – Глупо чувствовать себя подавленным из-за этого. Потому что думаешь о себе в ящике как о живом, все время забывая принять в расчет, что будешь мертвый – а ведь в этом вся разница, правда? Я имею в виду, ты никогда не узнаешь, что ты в ящике, правда? Это ведь как если просто спать в ящике. Не то чтобы мне нравилось спать в ящике, имей в виду, без воздуха, – потому что если проснешься, то ты уже мертвый, это во-первых; и где ты тогда будешь? Кроме как в ящике. Вот это-то мне и не нравится. Потому я и не говорю об этом… Потому что тогда ты уже беспомощен, правда? Запихнутый в ящик, я имею в виду, ты будешь там уже всегда. Даже учитывая, что ты уже мертвый, на самом деле… спроси себя, вот если бы я спросил тебя прямо сейчас – я собираюсь запихнуть тебя в ящик, что ты предпочтешь: быть живым или мертвым? Естественно, ты предпочтешь быть живым. Потому что жизнь в ящике лучше, чем никакой жизни вообще, я думаю. У тебя по крайней мере есть шанс. Ты можешь лежать и думать: ладно, по крайней мере я не мертвый! Каждую минуту кто-то может постучать по крышке и сказать: выходи. «Эй, ты, как тебя там! Вылезай!» Г. Ты не обязан талдычить это бесконечно! («to flog it to death» – непереводимый каламбур, объединяющий буквальное значение «забить до смерти» (Розенкранц в конце реплики бьет кулаком по полу) и сленговое «повторять много раз». В переводе Бродского на этом месте находится реплика, связанная с текстом Стоппарда только эмоционально: «Перестань! Ты способен свести с ума!». – Г. З.) Р. Я бы не думал об этом на твоем месте. Это просто будет тебя угнетать. Вечность – ужасная мысль. То есть где она все-таки кончается? (частично использован перевод И. Бродского. – Г. З.) 263 В тексте пьесы последняя реплика Розенкранца продолжается, герой еще дважды меняет тон, пытается бодриться, рассказывает анекдот, а потом опять впадает в отчаяние. В постановке NT 2013 года знаменитые – и смешные – слова Розенкранца о вечности ничто не заслоняет, они оказываются в сильной финальной позиции. Из пьесы, таким образом, оказался вычленен фрагмент, содержащий сразу две возможные отсылки к Достоевскому, обе к знаменитым, зацитированным местам из «Преступления и наказания». Человек, который предпочтет смерти жизнь в любых условиях, хоть и в коробке, – это почти что «подлец человек» Раскольникова: Где это… где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, – а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, – и оставаться так, стоя на аршине пространства (курсив мой. – Г. З.), всю жизнь, тысячу лет, вечность, – то лучше так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить – только жить! Второе возможное соответствие – соответствие слов Розенкранца о вечности как «ужасной мысли» «безобразному ответу» Свидригайлова о вечности как бане с пауками (кстати, у Стоппарда вечность – «thought», пугающая Розенкранца тем, что непонятно, когда она кончится; у Достоевского «нам всем представляется вечность как идея, которую понять нельзя»). Понятно, конечно, что и Достоевский, и Стоппард говорят о слишком важном, таком, что человечество обсуждает слишком часто; когда обращаются к таким темам, доказать реальность связи между определенными высказываниями особенно сложно. Но когда, как это произошло в постановке Национального театра, отдельный эпизод заменил собой пьесу в целом, в нем оказалось более ощутимым, чем в большом тексте, соседство слов Розенкранца про то, что жизнь в ящике лучше, чем никакой жизни вовсе, и про то, что вечность – страшная мысль, и возможная реминисцентная природа слов про ящик и про вечность оказалась усилена, когда соседство реплик было подано так подчеркнуто и сам эпизод рассмотрен театром под лупой. Конечно, страхи сложного героя Достоевского не такие, как у простодушного героя Стоппарда: в исполнении Б. Камбербэтча простодушие Розенкранца, его страх и мучительные попытки рассуждать на несвойственные ему отвлеченные темы – всё это передано резко комически, и эта откровенная комичность, между прочим, и провоцирует искать предмет высмеивания (т.е., например, пародируемый знаменитый текст). 264 В какой степени выбор фрагмента для постановки в Национальном театре были авторизованы, согласованы с живым и вполне деятельным автором, из доступных источников не ясно. Известно, что исполнитель роли Розенкранца Достоевского любит и знает (см., напр., его Ставрогина в радиопостановке «Бесов») – и, следовательно, сам мог интерпретировать речи героя как пародийные (тем более что для этой пьесы пародирование вовсе не предполагает плохого отношения к своему объекту, напротив). Известно также, что в фильме, поставленном Стоппардом (сценарий этого фильма оказывается в ряду разных редакций пьесы), соответствующий фрагмент выглядит совсем иначе: юмор здесь гораздо более мягкий, не позволяющий заподозрить пародию, Олдмен-Розенкранц не боится и не волнуется, внимание зрителя более равномерно распределено между Розенкранцем и Гильденстерном-Ротом (последнему придуманы дополнительные реплики и, кроме того, камера долго следит за молчащим Гильденстерном); наконец, и это самое важное, из сценария фильма выброшены слова о вечности как страшной мысли. Рамка, по-разному обводящая части текста, заставляет по-разному воспринимать их смысл. Прямых упоминаний о Достоевском у Стоппарда, насколько удалось понять, нет. Но тому, что мы знаем о истории восприятия пьесы как экзистенциалистской и об ироническом отношении самого Стоппарда к этой распространенной интерпретации, предположение о пародийной отсылке к Достоевскому не противоречит. Хорошо известно, что экзистенциалисты считали Достоевского своим предшественником; Стоппард уверяет (трудно понять, говорил ли правду), что о существовании экзистенциализма узнал только из академических работ про «Розенкранца и Гильденстерна», а слишком серьезные истолкования своей пьесы – комедии, как он на этом настаивает, – считает не вполне адекватными7. Так что передразнивать Свидригайлова и Раскольникова своим Розенкранцем Стоппард вполне мог, адресуясь при этом даже не столько к Достоевскому, а прежде всего к «слишком серьезным» экзистенциалистам. См., напр., в уже цитировавшемся предисловии к изданию 1976 г.: «Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, whatever else it is, is a comedy. My intention was comic, and if a play had not turned out funny I would have considered that I had failed. Quite a lot of solemn and scholarly stuff has been written about it, which is fine and flattering, but it is worth bearing in mind that among the productions staged all over the world, two were comparative failures, and both of these took the play very seriously indeed» («”Розенкранц и Гильденстерн мертвы”, что об этой пьесе ни говори, – комедия. В мои намерения входило смешить, и если бы пьеса не получилась смешной, я бы думал, что не справился со своей задачей. О пьесе было написано довольно много всего серьезного и ученого, и это прекрасно и лестно для меня, но стоит учитывать, что среди постановок ее по всему миру было два относительных провала, причем в обоих случаях постановки трактовали пьесу очень, очень серьезно» (перевод наш. – Г. З.)). 7 265 И напоследок еще два замечания, одно «серьезное», а другое не очень. В ремарке, открывающей «Розенкранца и Гильденстерна», место действия описывается как «a place without much visible character» (в фильме Стоппарда, понятно, место приходится все-таки визуально определить). Не отсылает ли это (как и философские беседы по преимуществу именно между двумя героями), пусть и через Беккета, к «двум существам» Достоевского, сошедшимся «в беспредельности» («Бесы»)? Легкомысленные сетевые источники довольно часто утверждают, что пьеса Стоппарда «The Gamblers», написанная незадолго до «Розенкранца и Гильденстерна», ставившаяся единожды и не публиковавшаяся, – это якобы инсценировка «Игрока» Достоевского. Из работ более серьезных можно узнать, что никакого отношения (по крайней мере, на уровне фабулы и системы персонажей) к «Игроку» Достоевского «Игроки» Стоппарда не имели. Интересно, что продолжает воспроизводиться в Сети – случайная ошибка или сознательная мистификация? 266