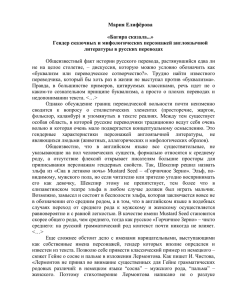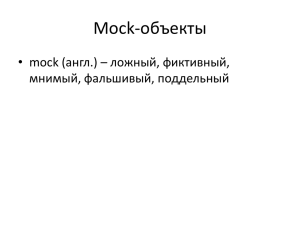Гендер сказочных и мифологических персонажей англоязычной
реклама
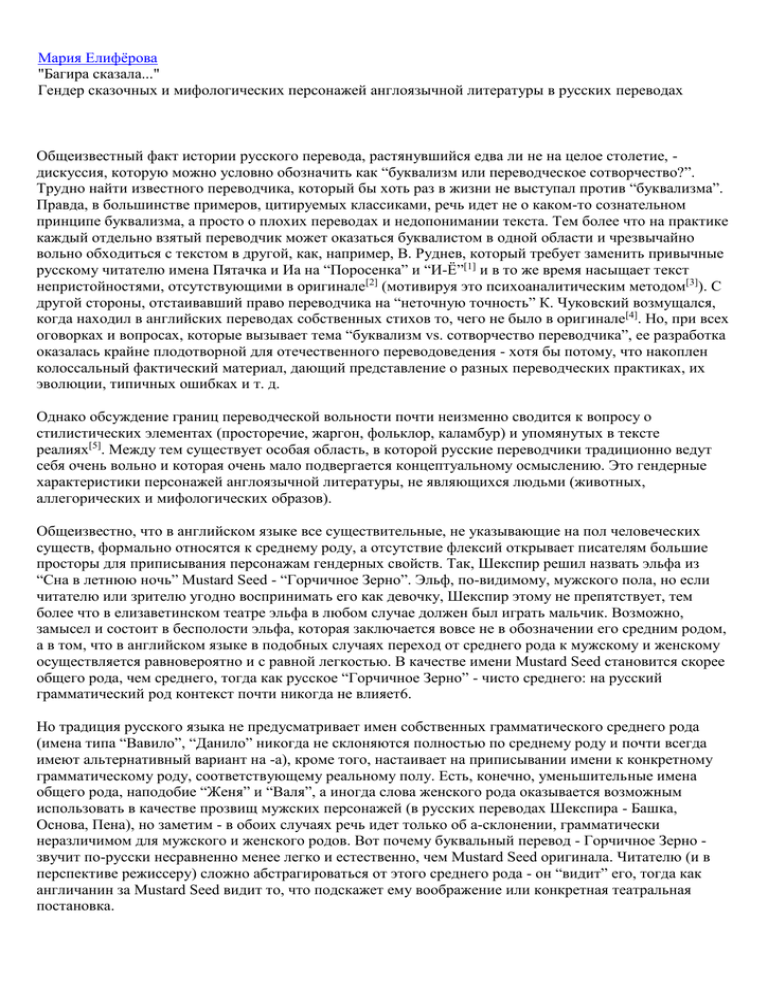
Мария Елифёрова "Багира сказала..." Гендер сказочных и мифологических персонажей англоязычной литературы в русских переводах Общеизвестный факт истории русского перевода, растянувшийся едва ли не на целое столетие, дискуссия, которую можно условно обозначить как “буквализм или переводческое сотворчество?”. Трудно найти известного переводчика, который бы хоть раз в жизни не выступал против “буквализма”. Правда, в большинстве примеров, цитируемых классиками, речь идет не о каком-то сознательном принципе буквализма, а просто о плохих переводах и недопонимании текста. Тем более что на практике каждый отдельно взятый переводчик может оказаться буквалистом в одной области и чрезвычайно вольно обходиться с текстом в другой, как, например, В. Руднев, который требует заменить привычные русскому читателю имена Пятачка и Иа на “Поросенка” и “И-Ё”[1] и в то же время насыщает текст непристойностями, отсутствующими в оригинале[2] (мотивируя это психоаналитическим методом[3]). С другой стороны, отстаивавший право переводчика на “неточную точность” К. Чуковский возмущался, когда находил в английских переводах собственных стихов то, чего не было в оригинале[4]. Но, при всех оговорках и вопросах, которые вызывает тема “буквализм vs. сотворчество переводчика”, ее разработка оказалась крайне плодотворной для отечественного переводоведения - хотя бы потому, что накоплен колоссальный фактический материал, дающий представление о разных переводческих практиках, их эволюции, типичных ошибках и т. д. Однако обсуждение границ переводческой вольности почти неизменно сводится к вопросу о стилистических элементах (просторечие, жаргон, фольклор, каламбур) и упомянутых в тексте реалиях[5]. Между тем существует особая область, в которой русские переводчики традиционно ведут себя очень вольно и которая очень мало подвергается концептуальному осмыслению. Это гендерные характеристики персонажей англоязычной литературы, не являющихся людьми (животных, аллегорических и мифологических образов). Общеизвестно, что в английском языке все существительные, не указывающие на пол человеческих существ, формально относятся к среднему роду, а отсутствие флексий открывает писателям большие просторы для приписывания персонажам гендерных свойств. Так, Шекспир решил назвать эльфа из “Сна в летнюю ночь” Mustard Seed - “Горчичное Зерно”. Эльф, по-видимому, мужского пола, но если читателю или зрителю угодно воспринимать его как девочку, Шекспир этому не препятствует, тем более что в елизаветинском театре эльфа в любом случае должен был играть мальчик. Возможно, замысел и состоит в бесполости эльфа, которая заключается вовсе не в обозначении его средним родом, а в том, что в английском языке в подобных случаях переход от среднего рода к мужскому и женскому осуществляется равновероятно и с равной легкостью. В качестве имени Mustard Seed становится скорее общего рода, чем среднего, тогда как русское “Горчичное Зерно” - чисто среднего: на русский грамматический род контекст почти никогда не влияет6. Но традиция русского языка не предусматривает имен собственных грамматического среднего рода (имена типа “Вавило”, “Данило” никогда не склоняются полностью по среднему роду и почти всегда имеют альтернативный вариант на -а), кроме того, настаивает на приписывании имени к конкретному грамматическому роду, соответствующему реальному полу. Есть, конечно, уменьшительные имена общего рода, наподобие “Женя” и “Валя”, а иногда слова женского рода оказывается возможным использовать в качестве прозвищ мужских персонажей (в русских переводах Шекспира - Башка, Основа, Пена), но заметим - в обоих случаях речь идет только об а-склонении, грамматически неразличимом для мужского и женского родов. Вот почему буквальный перевод - Горчичное Зерно звучит по-русски несравненно менее легко и естественно, чем Mustard Seed оригинала. Читателю (и в перспективе режиссеру) сложно абстрагироваться от этого среднего рода - он “видит” его, тогда как англичанин за Mustard Seed видит то, что подскажет ему воображение или конкретная театральная постановка. Еще сложнее обстоит дело с именами нарицательными, выступающими как собственные имена персонажей, гендер которых вполне определен и известен из текста. Позволю себе привести классический пример из немецкого - сюжет Гейне о сосне и пальме в изложении Лермонтова. Как пишет И. Чистова, “Лермонтов не принял во внимание существенных для Гейне грамматических родовых различий: в немецком языке “сосна” - мужского рода, “пальма” - женского. Поэтому стихотворение Лермонтова написано не о разлуке влюбленных, как у Гейне, а о трагедии одиночества, непреодолимой разобщенности людей”[7]. Лермонтова “потянула” за собой инерция русского грамматического рода. С английским переводчиком такого бы не случилось - он просто снабдил бы сосну и пальму соответствующими местоимениями he/ his и she/ her. Так же поступают и авторы оригинальных англоязычных произведений, чьи музы нимало не озадачиваются вопросом, как это будет в дальнейшем переводиться на другие языки. Как это ни странно, в большинстве случаев этим вопросом не озадачиваются и русские переводчики - они просто не осознают гендер персонажа как специальную проблему. ...Когда я сформулировала эту проблему, поделившись своими наблюдениями с одной старшей коллегой, она заметила: “Все это замечательно, только зачем это ужасное слово “гендер”? Говорите почеловечески - “пол”!” К сожалению, при дальнейшем анализе вопроса выяснилось, что без “ужасного слова” не обойтись, и отнюдь не только потому, что gender - по-английски грамматический род. Напомним, гендер является не биологическим полом, а социальной половой ролью - комплексом предписываемых норм общественного и сексуального поведения. Действительно, многие гендерные исследования компрометируют себя тем, что написаны в идеологических рамках постколониализма и феминизма, и уж совсем абсолютное большинство - тем, что гендер фактически приравнивается к современному образу биологического пола: о какой бы эпохе и культуре ни шла речь, используется одна и та же дихотомия маскулинности и феминности, в лучшем случае к этому прибавляются гермафродиты и трансвеститы[8]. (Хотя, например, совершенно очевидно, что в Древней Греции мужчина и юноша играли разные социополовые роли, а следовательно, представляли собой и разные гендеры?) Нередко бывает возможно выбросить слово “гендер” без потери смысла. Тем не менее именно перевод художественной литературы - та сфера, в которой видно, что понятие “гендер” имеет некий объективный методологический смысл. В самом деле, у животных есть самцы и самки (волк - волчица, петух - курица), но что если в тексте действуют неодушевленные предметы? Какой “пол” может быть у розы, в большинстве литературных традиций предстающей в женском роде, но в 99-м сонете Шекспира неожиданно принимающей мужской род? И это не грамматическая условность, так как образ розы во всех культурах, знакомых с этим цветком, тесно связан с любовной темой[9]. Роза как “она” традиционный субститут возлюбленной. А у Шекспира адресат сонетов - юноша, поэтому вполне логично и роза оказывается в мужском роде. Ботаники здесь могут вспомнить, что некоторые растения бывают раздельнополыми. Увы, как правило, это не те растения, на которые обращает внимание культурная традиция. И уж тем более нет пола у неживых предметов и абстрактных понятий. А ведь их тоже часто “одушевляет” литература - взять хотя бы незабвенный Самовар Иван Иваныч у Хармса. Здесь в дополнение к грамматическому мужскому роду слова “самовар” самовару приписываются мужские черты: характерные имя и отчество, ярость (“мужская” эмоция), властные полномочия (кому не давать кипяточку). Если бы на месте Самовара Ивана Иваныча была Кастрюля Марфа Ивановна, Хармс написал бы совершенно другой текст. Хотя воду для чая на практике можно вскипятить и в кастрюле. К сожалению, роль гендера в литературном контексте еще не стала обязательным предметом внимания переводчиков. В особенности это относится к литературе, маркированной в читательском сознании как “детская”. Переводчик литературы, заведомо предназначенной для взрослого читателя, еще может обратить внимание на гендерные характеристики персонажей и приложить усилия к их сохранению в переводе - например, А. Штейнберг в “Потерянном рае” сохранил женский гендер Греха и мужской Смерти, пожертвовав нормой русской грамматики для сохранения мильтоновской образности. (Насколько удачно это решение, другой вопрос. Можно было бы попытаться подобрать синонимы, которые не нарушали бы нормы русского языка, например, Мерзость и Тлен, - правда, тогда сущность этих персонажей станет понятной только практикующим христианам. Но, с другой стороны, сам Мильтон ведь и писал не для атеистов или буддистов?) Переводчики же “детской” литературы в большинстве случаев и не задумываются над тем, к какому гендеру относится персонаж. Механизм таков: сначала название персонажа буквально переводится на русский, а затем персонажу приписывается гендер по грамматическому роду русского слова. Полезно начать иллюстративный ряд с “Винни-Пуха”, поскольку там пример гендерного сдвига, с одной стороны, единичный, с другой стороны, структурно значимый для всего художественного целого. Речь идет о Сове, персонаже, который в переводе Б. Заходера впервые был интерпретирован как женский, а мультипликационный фильм Ф. Хитрука дополнительно усилил феминные черты Совы в русском восприятии: Сову в нем снабдили модельной шляпкой с лентами и наделили речевыми манерами школьной учительницы. Образ готов. Между тем все, на чем он держится, - женский род русского слова “сова”, ибо в оригинале А. Милна Owl - мужчина (вернее, мальчик, так как герои Милна представляют собой набор разных возрастных и психологических типов детей). А поскольку девочки не имеют склонности к псевдоинтеллектуальному щегольству научной терминологией и маскировке невежества риторикой, то Сова закономерным образом становится старухой-учительницей (вероятно, на пенсии). Кто же такой Owl в “Винни-Пухе”? Если мы учтем, что это мужчина, и к тому же юный (судя по тому, как он вписан в компанию зверей и как с ним обращаются, возрастной разрыв не должен быть большим)[10], - вывод очевиден: перед нами тип выпускника английской частной школы, неоднократно делавшийся мишенью сатириков в XIX-XX веках. Невежество, скрытое за квазиученым лексиконом, высокомерие по отношению к окружающим плюс склонность пускаться в сентиментальные воспоминания - стандартный набор характеристик этого типа, выведенного еще Л. Кэрроллом в образе the Mock Turtle из “Алисы в Стране чудес” (об этом персонаже мы поговорим в дальнейшем). Этот тип к моменту выхода в свет “Винни-Пуха” был уже известен английскому читателю. Милн добавил единственное новшество, доведя тем самым образ до уморительного гротеска: Owl на самом деле вообще никакой школы не кончал и даже читать толком не умеет (последнее обнаруживается в главе о пятнистом Щасвирнусе). Если бы гендерная функция этого героя ограничивалась только напоминанием о некоем социокультурном типаже (не имеющем аналогов в России), то радикальные сторонники переводаприсвоения могли бы возразить: мол, книжка детская, ее смысл не в том, чтобы знакомить детей с нюансами английской социальной жизни, а в том, чтобы они читали добрые, умные и смешные истории и т. д. Но в действительности мужская природа Совы влечет за собой гораздо более широкие и глубокие последствия для всей художественной структуры винни-пуховского цикла в целом. Учтя, что Сова мужчина, можно обнаружить, что до появления Кенги в Лесу вообще нет женщин[11]. Фрустрация, которую испытывают Винни-Пух и все-все-все при ее приходе в Лес, малопонятна читателю русского перевода. Дело в ее чуждости, в том, что она извне? Но ведь Тигра тоже приходит извне, однако его сразу принимают как своего и проявляют радушие, несмотря на то, что он заявляет о своем присутствии не самым вежливым образом - шумя среди ночи под окном. В оригинале источник фрустрации для героев (и комизма для читателя) несомненен: Кенга нарушает единство мальчишеского мира Леса тем, что она женщина и при этом взрослая. Феминность и одновременно взрослость Кенги выражаются через ее материнство. В дальнейшем она и проявляет материнское поведение по отношению ко всем, кроме Кристофера Робина (ввиду его особого статуса в художественном мире “Винни-Пуха”; примечательно, что он не участвует в совете по изгнанию Кенги). Поначалу план ее изгнания связан именно с тем, что обитатели Леса не знают, как с ней общаться. Впрочем, и в подготовке самого плана они исходят из неверных предпосылок относительно женского мышления. Вместо того, чтобы расстроиться при виде исчезновения Крошки Ру и согласиться на условия похитителей, Кенга хватает Пятачка и подвергает его ряду унизительных (в мальчишеских глазах) процедур: отмывает в ванне, нарочно тыкая ему в рот мыльной мочалкой, растирает полотенцем и поит солодовым экстрактом (в переводе Заходера - рыбьим жиром). Тем самым она демонстрирует, что не воспринимает ни “похищение”, ни “похитителей” всерьез, - она обращается с ними как с заигравшимися детьми, каковыми они на самом деле и являются. Тема вторжения женщины - в том числе в качестве воспитательницы-матери - в замкнутый мужской мир является традиционным источником комизма в мировой литературе и кинематографе (например, фильм “Семь стариков и одна девушка”, где комизм усилен инверсией возрастных ролей). Однако в английской литературе она приобрела особый оттенок благодаря специфической форме гендерной сегрегации, выработавшейся в викторианской и поствикторианской (до Второй мировой войны) Англии. Это не была сегрегация, свойственная патриархальным обществам, где мужчина и женщина были жестко разведены в пространстве и по социальным функциям и каждый пол обладал собственными табу, традициями и обрядами, вплоть до особого языка. Напротив, гендерная сегрегация английского общества возникла именно как реакция на исключительную по меркам XIX века свободу общения полов в Англии. Нормальный англичанин эпохи королевы Виктории проводил большую часть своей повседневной жизни в смешанной компании. Викторианство унаследовало просветительский взгляд на женское начало как на цивилизующее, противостоящее варварству[12], и вне этого представления не может быть понята пресловутая “викторианская чопорность”: присутствие юных девушек служило определяющей планкой приличия речи и поведения всех остальных. Именно поэтому мужская субкультура высших и средних классов Англии формируется как пространство, позволяющее “отдохнуть” от непосильных ограничений, налагаемых женским присутствием. Один из примеров такого “ослабления гаек” - обычай, согласно которому дамы после обеда удалялись в другую комнату, а мужчины оставались за портвейном (и получали возможность рассказывать непристойности). Следовательно, мотив вторжения женщины в мужское сообщество, сам по себе комичный, для англичан приобретает дополнительное культурное измерение. Английское мужское сообщество - это сообщество, боящееся женского присутствия, поскольку последнее ассоциируется с повышенной требовательностью к поведению и с дефицитом свободы. Женщина воспринимается как “домомучительница”, строящая всех по линейке. По канонам английского юмора, в таких случаях мужчины, мнящие себя героями, проявляют себя в роли беспомощных и невоспитанных детей (чем только доказывают необходимость их воспитывать)[13]. Именно это и происходит в эпизоде “пришествия” Кенги. Может показаться, что все эти тонкости не имеют отношения к переводу детской литературы и что это придирки взрослого ценителя “Винни-Пуха”, то есть нецелевой аудитории. Почему-то детей считают равнодушными к подобным вопросам. Но жизненный опыт свидетельствует, что в России, где половое воспитание детей до сих пор считается чуть ли не сатанизмом, в то же время гендерное воспитание навязывается детям с младенчества и довольно агрессивно. Оно не ограничивается различиями в игрушках и одежде: слова “ты же мальчик”, “ты же девочка” повторяются постоянно, как мантры. Любой читатель может припомнить, как когда-то считал своим долгом презирать “девчонок”, а любая читательница - как она морщилась: “Фу, дружить с мальчишками?” Принуждаемый с самых ранних лет к гендерной самоидентификации, ребенок должен быть еще чувствительнее к таким вопросам, чем взрослый. Милн прекрасно отдавал себе отчет в этой чувствительности (существующей также и у английских детей, хотя им и не говорят прямым текстом “ты мальчик”, “ты девочка”). И он играл с ней. Из перевода Б. Заходера выброшен большой отрывок в начале первой книги, объясняющий имя Винни-Пуха. То, что имя Винни женское, большинству русских читателей неведомо. Единственный намек на это, оставшийся у Заходера, - указание на медведицу в зоопарке, в честь которой назван Винни-Пух[14]. (У Милна говорится просто Bear, но для англичанина имя Winnie столь безошибочно женское, что пояснений женской природы этого зверя не требуется.) Пух - не вторая часть имени, а прозвище, поскольку перед ним следует определенный артикль: Winnie-the-Pooh, как перед прозвищами королей и эпических героев. Комизм имени состоит не только в гендерной инверсии, но и в несоответствии эпической формы имени его случайному, “с потолка”, содержанию. Будь это русский медведь, его бы, возможно, звали Оля Пыхович. Но, возвращаясь к Сове, - что же делать переводчику в таких случаях? Есть “медведь” и “медведица”, но мужской формы от “совы” русский язык не знает. Ясно, что писать “Сова сказал”, “Сова полетел” будет насилием над русским языком[15]. Единственный возможный выход - подобрать близкие по значению слова мужского рода. Можно согласиться с выбором В. Руднева, заменившего Сову на Сыча (едва ли не единственный бесспорный случай, когда его переводческая альтернатива Б. Заходеру удачна). Я бы предложила еще один вариант: Филин. На мой взгляд, потери смысла текста при замене Совы на Филина/Сыча пренебрежимо малы по сравнению с потерями смысла при смене гендера персонажа. Таким образом, можно сформулировать следующие ключевые положения: 1) гендер сказочных (мифологических, аллегорических и т. д.) персонажей являет собой специальную переводческую проблему; 2) эта проблема в принципе решаема. Как будет показано ниже на материале переводов “Алисы в Стране чудес”, положение 3 звучит так: “Но большинство переводчиков решать ее даже не пытаются”. Переводов “Алисы” начиная с XIX века в России сделано огромное количество. Знатоки называют цифру 14, но вряд ли в настоящее время могут быть учтены все - в эпоху Интернета и всеобщего владения начатками английского было бы странно, если бы “Алису” не переводили любители: этот текст в России издавна служит таким же полигоном для переводческих упражнений, как сонеты Шекспира. В качестве иллюстративного материала мною отобраны восемь переводов (не в последнюю очередь по степени их распространенности и доступности). Переводчики: В. Набоков, Б. Заходер, Н. Демурова, Л. Яхнин, Ю. Нестеренко, А. Кононенко, Н. Старилов, А. Щербаков. Следует оговориться: у меня вызывает сомнения категоризация текста Л. Яхнина как “перевода” (сам он именует его “пересказом”) и даже как “перевода-пересказа”, поскольку сомнительно само знакомство Л. Яхнина с оригинальным текстом - “пересказ” демонстрирует удовлетворительное знакомство с содержанием “Алисы” и нулевое - с кэрролловским языком и стилем[16] (у переводчиков, читавших оригинал, это всегда сказывается на результате, даже если они ставят задачу осовременить текст). Тем не менее я включаю этот текст в список как интерпретацию “Алисы”, поскольку у Л. Яхнина, несомненно, присутствует свое видение кэрролловского сюжета, и выбор им имен и гендерных характеристик персонажей следует считать сознательным. Начать необходимо с того, что ни в одном из восьми переводов не сохранился целиком гендерный состав dramatis personae. У Кэрролла присутствуют как минимум четыре персонажа мужского пола, именования которых в словарном переводе на русский язык приобретают грамматический женский род: Mouse, Caterpillar, Dormouse, the Mock Turtle (Мышь, Гусеница, Соня, Фальшивая Черепаха). Больше всех повезло the Mock Turtle: пять переводчиков из восьми поняли необходимость передать мужской пол персонажа. Возможно, благодаря эксплицитности контекста: the Mock Turtle и его соученик Грифон предаются воспоминаниям о школе, а в XIX веке ни в Англии, ни в России юноши и девушки не обучались в школах совместно. Следовательно, оба рассказчика должны быть одного пола. В случае с the Mock Turtle дополнительным фактором, не позволяющим отделаться калькой, является сама трудность перевода имени этого персонажа. Кэрролл обыгрывает фразеологию, отсутствующую в русском языке: по-английски “фальшивым черепаховым супом” называется суп из телячьей головы. А с детской точки зрения, фальшивый черепаховый суп делается из фальшивой черепахи. Поэтому Дж. Тэнниел, первый иллюстратор “Алисы”, изобразил the Mock Turtle как черепаху с телячьей головой. Большинство переводчиков не сумели выпутаться из этой игры слов, и для читателя она осталась темной - в лучшем случае текст снабжают громоздкими сносками. Эпизод с the Mock Turtle настолько затруднителен для русского восприятия, что из русских адаптаций “Алисы” (радиопьесы 1976 года и мультфильма 1981 года) он вообще выпал. Только двое из переводчиков попытались решить проблему игры слов, основанной на подстановке пищевых продуктов, чтобы она стала понятной русскому читателю: Б. Заходер и А. Кононенко. У первого возник загадочный “Рыбный Деликатес”, что сохраняет гендер и дает возможности для игрового осмысления, но, к сожалению, не оставляет места кэрролловской ясности - новый образ темен и расплывчат. Очень симпатична находка А. Кононенко: “Минтакраб”. Этот образ зрим и понятен русскому читателю, ибо “крабовые палочки” из минтая - вполне функциональный аналог “черепахового супа” из телячьей головы. Единственной претензией может быть то, что этот перевод анахронистичен. Но у А. Кононенко осовременена вся “Алиса”, и если возражать, то не против конкретного переводческого решения, а против всей концепции перевода, который у него абсолютно органичен и стилистически выдержан. Остальные шесть переводчиков даже не попытались уйти от слова “черепаха”. В результате у трех из них этот персонаж все-таки оказался женским (Л. Яхнин, Н. Старилов и, как ни странно, В. Набоков). Еще трое пытаются употреблять слово “черепаха” в мужском роде: Н. Демурова, А. Нестеренко и А. Щербаков. Последнее, конечно, чуждо русскому языку, тем более что наблюдения К. Чуковского показывают: дети крайне чувствительны к грамматике мужского/женского рода[17]. Интересно, что ни один из переводчиков не попытался пойти обратным путем и превратить Грифона в Грифоншу - для сохранения гендерной однородности бывших соучеников (в этом случае слово “черепаха” могло бы без помех употребляться в женском роде). Как мне представляется, вопрос о гендере the Mock Turtle и вместе с тем о русском эквиваленте этого имени следовало бы решать каким-то иным способом. Переводчики традиционно пытаются переводить это имя как “вещь в себе”, рассматривая свою задачу как словарную (подыскать русское слово на место английского). Между тем ресурсы для перевода, вероятно, нужно искать не только в имени, но и в контексте. Проза - не строфическая форма поэзии, чтобы соблюдать в ней эквилинеарность, и многим переводчикам приходилось прибегать к поясняющим вставкам даже во “взрослой” литературе. Почему бы не произвести такой опыт в данном случае? Это могло бы звучать примерно так: - Ты знакома с Черепухом? - спросила Королева. - А кто это? - удивилась Алиса. - Это такой зверь, из которого варят фальшивый черепаховый суп. - А мама говорила, что фальшивый черепаховый суп варят из телячьей головы, - возразила Алиса, которая, как мы знаем, для своего возраста была очень умной. - Все правильно, - сказала Королева. - У него и есть телячья голова. И мозги в ней телячьи. Сохраняется и реалия английского быта, и игра слов, которая переносится с имени на контекст (в данном случае - двусмысленность выражения “телячьи мозги”). Принципиально важно то, что при таком подходе переводчик более свободен в выборе имени[18] (поскольку на имя уже не ложится все бремя объяснения сущности персонажа), а значит, может уделить больше внимания гендерному соответствию. Если в случае с the Mock Turtle абсолютное большинство переводчиков (пятеро из восьми) все же пытаются сохранить гендер, хотя только двое из пяти при этом не нарушают грамматики русского языка, то с остальными персонажами дело обстоит гораздо хуже. Caterpillar (буквально “гусеница”) становится женщиной у шести переводчиков из восьми: у пяти из них - Гусеница, а Л. Яхнин зачем-то заменяет Гусеницу на Бабочкину Куколку, тоже даму. Маскулинность сохраняется только в переводах Б. Заходера (Червяк) и А. Щербакова (Шелкопряд - лучший, на мой взгляд, эквивалент). Несчастный Dormouse поменял пол у пяти переводчиков из восьми, видимо, под влиянием русского женского имени Соня. Из оставшихся троих двое пытаются употреблять слово “Соня” в мужском роде, добавляя к нему слово “зверек” (В. Набоков, Н. Старилов), и только А. Кононенко подыскал любопытный вариант замены: Сурок. Вариант А. Кононенко удовлетворяет всем основным условиям функциональной эквивалентности: это название грызуна, оно мужского рода и также связано с темой сна (“спит как сурок”). Впрочем, можно обойтись и без замены: ведь один из видов сонь называется “соня-полчок”, и если назвать персонаж Соня-Полчок, то первая компонента приобретет искомый общий род и будет однозначно ассоциироваться с любителем поспать, а не с женским именем[19]. Больше всех пострадал Mouse из слезного моря - он стал Мышью в женском роде у всех переводчиков. Хотя можно было сделать его, например, Мышонком (манера читать лекции по истории этому не противоречит - возможно истолковать Мышонка как школьного отличника-зануду). При этом сами переводчики рассматривают подобную практику как норму. Например, Ю. Нестеренко со всей откровенностью пишет в предисловии: “У Кэрролла практически все существа, в том числе Мышь, Гусеница, Соня, - мужского рода (кстати, он довольно неряшлив в этом плане и периодически называет их то it, то he [“он”]). Понятно, что порусски это звучало бы достаточно коряво, так что мне, вслед за другими переводчиками, пришлось “поменять пол” этим персонажам”[20]. Даже не комментируя тон, в котором высказано отношение к тексту Кэрролла, заметим: точное словарное наименование персонажа для переводчика важно, а вот гендер представляется чем-то несущественным, и то, что он легко заменяем, - “понятно” и легитимировано переводческой традицией. Переводчик даже не задается вопросом, для чего в книге Кэрролла столько мужчин и почему писатель, располагая столь гибким в грамматическом отношении языком, не сделал их женщинами (сказка-то предназначалась для женской аудитории!). Чтобы меня не заподозрили в филологическом педантизме, постараюсь объяснить, почему гендерная принадлежность персонажей не является простым вопросом выбора между “он сказал” и “она сказала”. Caterpillar, превращенный в даму большинством переводчиков, курит кальян, а Алиса обращается к нему, используя слово “сэр”. Положим, мы выбросим “сэра” или заменим его на “мадам”, но что делать с кальяном? Из русских переводов “Алисы” читатель может сделать вывод, будто степенные дамы викторианских времен курили кальян, - на самом деле это так же невообразимо, как гуляющая с распущенными волосами Аксинья из экранизации “Тихого Дона” Бондарчука. Еще хуже с Dormouse. У Кэрролла ясно указано, что Шляпник и Мартовский Заяц ставили на него локти, когда он спал, и большинство переводчиков этот момент не опускают. Манеры Шляпника и Зайца хоть и скверные для английских джентльменов XIX века, но облокачиваться на девушку - явный перебор. Да и что это за английская леди, которая засыпает, упав мордой на стол? Тот факт, что общество, собравшееся за безумным чаепитием, сугубо мужское, делает понятным многое: и манеры героев, и их демонстративную враждебность к Алисе, нарушившей границу маленького мужского мирка. Безумное чаепитие, хоть на нем и потребляют исключительно чай, имеет все признаки товарищеской пирушки: Алисе даже чуть не предлагают вино (отсутствующее де-факто, оно, выходит, присутствует символически - уж не выпил ли его перед тем Dormouse?). Dormouse замещает роль пьяного, чья функция - изредка поднимать голову от стола и рассказывать бессвязные байки, непонятные посторонним. Очень важна ситуация miscommunication: речь и поведение трех персонажей понятны только им самим, как посвященным, Алисе они чужды, а сама троица, в свою очередь, не знает, как разговаривать с Алисой, - отсюда разброс в интонациях - от натянутых любезностей до откровенного хамства. Представим, что юная девушка или девочка случайно забредает на междусобойчик трех оксфордских студентов (разумеется, в XIX веке). Общение с большой долей вероятности будет развиваться по кэрролловской модели. Единственный персонаж, чей гендер не столь важен для понимания событий, - Mouse. Правда, чтение лекций во времена Кэрролла все же было мужским родом деятельности. Мир Страны чудес вообще по преимуществу мужской, а если там и попадаются женщины, то разнузданно грубые, агрессивные и лишенные женского обаяния (Герцогиня и Королева). Здесь вновь вступает в силу викторианская оппозиция “мужского” как “варварского”, “необузданного” и “женского” как “кроткого” и “разумного”. Алиса - образцовая викторианская героиня, обладающая свойствами, которые в ту эпоху считались женскими добродетелями: хорошим воспитанием, терпеливостью и здравым смыслом. Именно в этом качестве она и преодолевает абсурдные испытания хаотического мира Страны чудес. В финальной сцене все эти добродетели торжествуют: Алиса объявляет самодержавных лжемонархов “колодой карт” (победа здравого смысла), сокрушает скамью присяжных, ведущих неправедный суд, подолом юбки (феминность!) и возвращается от сна к реальности, где ее встречает старшая сестра (женская фигура, тогда как проводником в Страну чудес служит подчеркнуто маскулинный Кролик - в жилете, с часами и с повадками чиновника). Моя цель в данном случае показать, что вовсе не так безразлично для художественного целого, в каком грамматическом роде говорится о Гусенице или Соне, и что стремление переводчиков цепляться за словарную точность в ущерб гендерному содержанию образа ничем не оправдано, кроме, скорее всего, нежелания тратить лишние усилия. В каждом случае нашелся хотя бы один пример, когда данная переводческая проблема была поставлена и успешно решена: Сыч вместо Совы, Сурок вместо Сони, Шелкопряд вместо Гусеницы и т. д. Это показывает, что ресурсов русского языка вполне достаточно для решения вопроса - если только переводчик им задается. Практика игнорировать авторскую гендерную идентификацию персонажа и исходить вместо этого из буквального русского перевода его именования в некоторых случаях приводит к анекдотическим искажениям восприятия. Самый курьезный пример - Багира из “Книги Джунглей” Киплинга. Новеллы о Маугли в переводе Н. Дарузес были в свое время извлечены из сборника и публиковались отдельным циклом как “Книга о Маугли”. Такое редакторское решение может быть спорным, но в качестве адаптации для детей оно имеет право на существование (хотя “Книга Джунглей” в целом тоже писалась Киплингом если не для детей, то для юношества - не случайно туда не вошел рассказ о женитьбе Маугли, упоминаемый в одной из новелл “Книги Джунглей” как “рассказ для больших”). Гораздо более непродуманным решением стала замена пола Багиры, который в оригинале, увы, самец. О чем подавляющее большинство россиян, которым так полюбился этот персонаж, не подозревают. Вообще, имя Bageerah мужское. Гораздо чаще оно встречается в форме “Багир” (в том числе у некоторых народов России). В оригинале образ Багиры совершенно однозначен - это герой-воин, снабженный ореолом романтического восточного колорита. Он противопоставлен Шер-Хану как благородный герой разбойнику. В модель поведения аристократичного джигита вписываются и его инициатива примирения враждующих сторон с помощью выкупа за Маугли, и его ретроспективно рассказанная история о пленении и побеге (последнее - топос ориенталистской литературы). Отношения Багиры и Маугли в оригинале - это отношения мужской дружбы, а вовсе не материнства/сыновства. Превращение Багиры в самку делает ясный и прозрачный киплинговский сюжет затруднительным для понимания: зачем, например, удвоение материнской опеки - разве Волчица не справляется с обязанностями по воспитанию Маугли? Затуманивается истинная природа отношений между Багирой и Шер-Ханом (герой - антигерой). Наконец, при такой трактовке образа Багиры выпадает целый ряд фрагментов из новеллы “Весенний бег”, с которыми переводчица просто не в состоянии справиться. Речь идет об одном из самых прекрасных в мировой литературе лирических изображений пробуждения юношеской сексуальности. В переводе Н. Дарузес от этих частей текста остаются только неясные намеки. Можно, конечно, предположить, что здесь сыграла свою роль советская цензура, - хотя и удивительно, что текст, вполне годившийся для викторианских подростков, мог быть сочтен неприемлемым для советских[21]. Но, по крайней мере частично, причиной редактуры служит именно смена пола Багиры. В оригинале Багира готовится к свиданию с самкой, и смысл вопроса Маугли (к лицу ли Багире резвиться и кататься кверху лапами?) совершенно очевиден: Маугли обвиняет Багиру в недостаточно мужественном поведении. Маугли испытывает и мальчишескую ревность - оттого что Багира, прямо-таки в соответствии с песней о Стеньке Разине, “на бабу променял” боевую мужскую дружбу, и, сам себе еще не отдавая в этом отчета, - зависть, так как обнаруживается, что у Багиры есть что-то, чего нет у него. В переводе из диалога Маугли и Багиры трудно извлечь какой-либо внятный смысл, кроме того, что Маугли почему-то недоволен. Само развитие событий в результате выпадения нескольких важных фрагментов утратило в “Весеннем беге” стройность и логику, так как выпала смысловая ось всей новеллы: Маугли считает, что боевые друзья предали его, увлекшись чем-то, с его точки зрения, недостойным мужчин. Разумеется, при женском облике Багиры ревность Маугли меняет вектор, и вся психологическая драма приобретает непредусмотренные зоофильские тона - поэтому вполне понятна попытка Н. Дарузес свести к минимуму психологизм и эротизм Киплинга путем радикального сокращения текста. Но даже трансформации, которым подвергся текст Киплинга, можно счесть “погрешностью в пределах нормы” по сравнению с тем, что произошло с образом Багиры в русской массовой культуре - в особенности после того, как в мультфильме пантера приобрела вызывающую женственность, заговорив томным контральто и кокетливо потягиваясь чуть ли не при каждой реплике. В сознании россиян Багира является эталоном женственной сексуальности. Запрос в Яндексе на слово “Багира” дал около миллиона ссылок, поэтому пришлось ограничиться просмотром первых тридцати. Среди этих тридцати (без учета повторяющихся ссылок): три салона красоты, две студии танца живота, один магазин, торгующий костюмами для танца живота, один салон эротического массажа и одно использование в качестве женского ника в Интернете. Киплинг бы удивился. Должны ли происходить такие вещи в процессе межкультурной коммуникации? Как мне представляется, все-таки не должны, и то, что они периодически имеют место, - не основание для их легитимации. Например, уже давно принято с высокомерием относиться к переводческой традиции XIX века менять западные имена героев на русские[22], и многие возмущаются В. Набоковым из-за того, что в “Ане в Стране чудес” он предпринял попытку эту традицию возродить: современный читатель хочет видеть в чужестранной литературе чужестранную же реальность, а не то, что и так видит каждый день вокруг себя[23]. Но чем замена мужчины на женщину лучше замены Смита на Кузнецова? Пожалуй, в первом случае степень miscommunication даже серьезнее. Если рассмотреть причины, по которым с Багирой произошло столь затянувшееся недоразумение, то на входе обнаружится опять-таки единственная сколько-нибудь основательная мотивировка: грамматический род русского слова “пантера”. Уже говорилось о том, что средством преодоления гендерных затруднений является правильный подбор синонимов. О богатстве русского языка много и часто говорится, но на практике им не умеют и не хотят пользоваться. Если Багира мужского пола, то он леопард. Существует ошибочное бытовое убеждение, что только черная разновидность леопарда называется пантерой. Это неверно. “Леопард” и “пантера” - синонимы. Слово “пантера” в настоящее время не является зоологическим термином. В XIX веке пытались различать два отдельных вида - леопарда и пантеру, но не по цвету, а по телосложению или месту обитания, причем некоторые зоологи и тогда считали эти понятия синонимами[24]. Багиру просто достаточно несколько раз назвать “черным леопардом” - а для пущей воинственности и ориентальности он мог бы зваться и “черным барсом”, поскольку “барс” - одно из обиходных русских названий леопарда в старину, и тот барс, с которым сражался Мцыри, с зоологической точки зрения был леопардом. Печально то, что перевод Н. Дарузес (как и перевод “Винни-Пуха” Б. Заходера) в самом деле очень хорош и воспринимается как канонический. Для того чтобы перевести и Киплинга, и Милна заново, исправив гендерные недоразумения, нужны как минимум столь же гениальные переводчики, иначе их переводы заведомо проиграют. Как максимум - эти переводчики должны суметь убедить читателя в том, что их переводы действительно обладают превосходством, так как их все равно будут сравнивать с Дарузес и Заходером, и чаще всего в пользу последних (есть такая вещь, как инерция первого впечатления). Пространство перевода Кэрролла намного гибче и демократичнее. В этом отношении “Алисе” одновременно и не повезло (отсутствие канонического русского текста и какого бы то ни было консенсуса между сторонниками разных переводов), и повезло (открытость для дальнейшего совершенствования переводческой практики). Наблюдения над гендерными сдвигами в русских переводах выявляют любопытную картину: во всех без исключения случаях, известных автору настоящей статьи, сдвиг происходит в одном и том же направлении - мужской персонаж в переводе превращается в женский. Возникает искушение истолковать эту тенденцию как своеобразную советскую “политкорректность” - стремление разбавить мужскую компанию женскими образами[25]. Но при разборе каждого конкретного случая за ним не обнаруживается специальных мотивировок - лишь механический подход к передаче имени персонажа и неотрефлексированность гендера как особой переводческой проблемы. И в заключение хочется привести пример с переводчиком, который не игнорировал описанную здесь проблему, а подходил к ней осмысленно и с большим тактом. Правда, речь пойдет не об английском языке, а о французском. Это Нора Галь, переводившая “Маленького принца”[26]. Вопросы гендера занимают несколько страниц в ее воспоминаниях о том, как она работала над переводом. Например, Роза в сказке - женщина; по-русски и по-французски род слова “роза”, слава богу, совпадает. Но что делать с начальными строками, в которых цветок еще не распустился и герой пока что не знает, что это роза? “Цветок” (la fleur) по-французски женского рода, и его женственность заявлена у Экзюпери с самого начала. Переводчица трудится над подбором слов, которые могли бы на это указать: “красавица”, “гостья”...[27] А вот другой вопрос: кого встретил Маленький принц в пустыне - Лиса или Лису? Некоторые коллеги Н. Галь полагали, что Лису. Но переводчица выбирает Лиса и убедительно обосновывает свой выбор, заодно демонстрируя, как может меняться смысл текста от гендерной перестановки[28]. Хочется верить, что будущее перевода за подходом Н. Галь, вне зависимости от того, идет ли речь о “детской” или “взрослой” литературе. СНОСКИ [1] Руднев В. П. Винни-Пух и философия обыденного языка. М.: Аграф, 2000. С. 55. [2] См., например, Руднев В. П. Указ. соч. С. 148, 209. [3] Там же. С. 19-26. [4] Чуковский К. И. Высокое искусство. М.: Советский писатель, 1968. С. 266-274. Существует, конечно, еще вопрос о передаче стихотворных форм на языке перевода, но он касается только переводов поэзии, то есть не является общепереводческим. [5] Класс существительных общего рода в русском языке (типа “сирота”, “разиня”) ничтожно мал и представлен только а-склонением. [6] [7] Лермонтов М. Ю. Сочинения в 2 тт. Т. 1 / Сост. и коммент. И. С. Чистовой. М.: Правда, 1988. С. 691. Интересное и плодотворное исключение из мейнстрима представляет собой австрийская исследовательница А. М. Феллер, чей доклад ““Compleat Body of Divinity”: Visions of Sexuality and the Body in Puritan New England” был прочитан 25 августа 2008 года на 9-м съезде Европейской ассоциации англистов (ESSE) в Орхусском университете. Она продемонстрировала позднее происхождение “биологизации” пола и необходимость осторожности в приложении современной оппозиции “мужское женское” (как биологически детерминированной) к культурам даже относительно недавнего прошлого. В беседе с ней я упомянула, среди всего прочего, абсолютный статус границы между женщиной и девушкой в Средневековье - как подтверждение ее выводов. [8] См.: Веселовский А. Н. Из поэтики розы // Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л.: ГИХЛ, 1939. С. 133. [9] Для преодоления “возрастной” проблемы в мультфильме, еще более заметной на экране, чем в тексте, Ф. Хитруку пришлось сделать самого Винни-Пуха более взрослым и агрессивным, перевалив бремя инфантилизма целиком на Пятачка. [10] В сцене совета по изгнанию Кенги говорится о 16 или 17 детях Кролика, однако нигде в “ВинниПухе” не упоминаются крольчихи - как и не говорится о каких-либо формах отцовского поведения со стороны Кролика. Дети эти нигде в дальнейшем не фигурируют. Очевидно, они вставлены Милном исключительно ради шутки насчет ношения детей в карманах. [11] Наиболее отчетливо викторианская гендерная модель сформулирована в сказке Р. Киплинга “Кошка, которая гуляла сама по себе”. В этом отношении викторианство прямо противоположно модернистским философским течениям, отождествляющим женское с природным, а мужское с культурным. [12] [13] Подобная коллизия часто встречается в прозе П. Вудхауса. Вопреки В. Рудневу, считающему этот эпизод сновидением (Руднев В. П. Указ. соч. С. 292), медведица существовала на самом деле. Любопытно, что ее полное имя не Winifred, а Winnipeg, поскольку родом она была из Америки. [14] Именно так поступили Т. Ворогушин и Л. Лисицкая в двуязычном издании “Винни-Пуха” (М.: Моимпекс, 1996). Явную безграмотность такого согласования можно с натяжкой оправдать целью дать подстрочный перевод, но фактически перевод Т. Ворогушина и Л. Лисицкой подстрочником не является - он полон немотивированных отступлений от оригинала, а также таких погрешностей против русской стилистики, которые не оправдываются ссылкой на задачи подстрочника. [15] Дополнительные сомнения вызывает название первой главы - “Нырок в кроличью норку”, под копирку повторяющее набоковское (вариант перевода, отсутствующий у кого-либо еще). [16] [17] См.: Чуковский К. И. От двух до пяти. М.: Детгиз, 1961. С. 129-130. [18] Абсолютно не настаиваю на варианте “Черепух” - имя может быть и другим. На рисунке Тэнниела, судя по всему, изображен именно полчок, а не садовая или орешниковая соня. Ср. иллюстрации в репринтном русском издании “Жизни животных” А. Брема (М.: Терра, 1992. Т. 1. С. 348, 350). [19] [20] http://lib.ru/CARROLL/alisa_yun.txt, доступ свободный, ноябрь 2008. Мультипликационная версия восстанавливает мотивы поведения Маугли, вводя эпизод, где он с огорчением наблюдает, как все животные образуют пары. Пол Багиры в мультфильме женский, но она мельком показана в паре с пятнистым леопардом. [21] См., например, уничтожающий отзыв об этой традиции К. Чуковского (Чуковский К. И. Высокое искусство. С. 118-124). [22] Это приводит к обратной крайности в виде дополнительного “обыностранивания” текста: например, некоторые переводчики “поправляют” Кэрролла и заставляют Шляпника пить чай в пять часов вместо шести - ибо, по представлениям россиян, все англичане пьют чай в пять часов. [23] [24] См., например: Брем А. Указ. изд. Т. I. С. 201-202. По крайней мере, это имело место применительно к оригинальной русской литературе. Мне довелось видеть в 1989 году театральную инсценировку “Старика Хоттабыча”, где Женя Богорад стал девочкой. [25] Однако, поскольку Н. Галь переводила и с английского языка, было бы нелогично полагать, что она придерживалась указанного принципа только применительно к французскому. [26] [27] Галь Н. Слово живое и мертвое. М.: Международные отношения, 2001. С. 222. [28] Там же. С. 227-229. Информация с сайта http://magazines.russ.ru/voplit/2009/2/eli12.html