АЛЬМАНАХ - Кафедра эстетики и философии культуры СПбГУ
advertisement
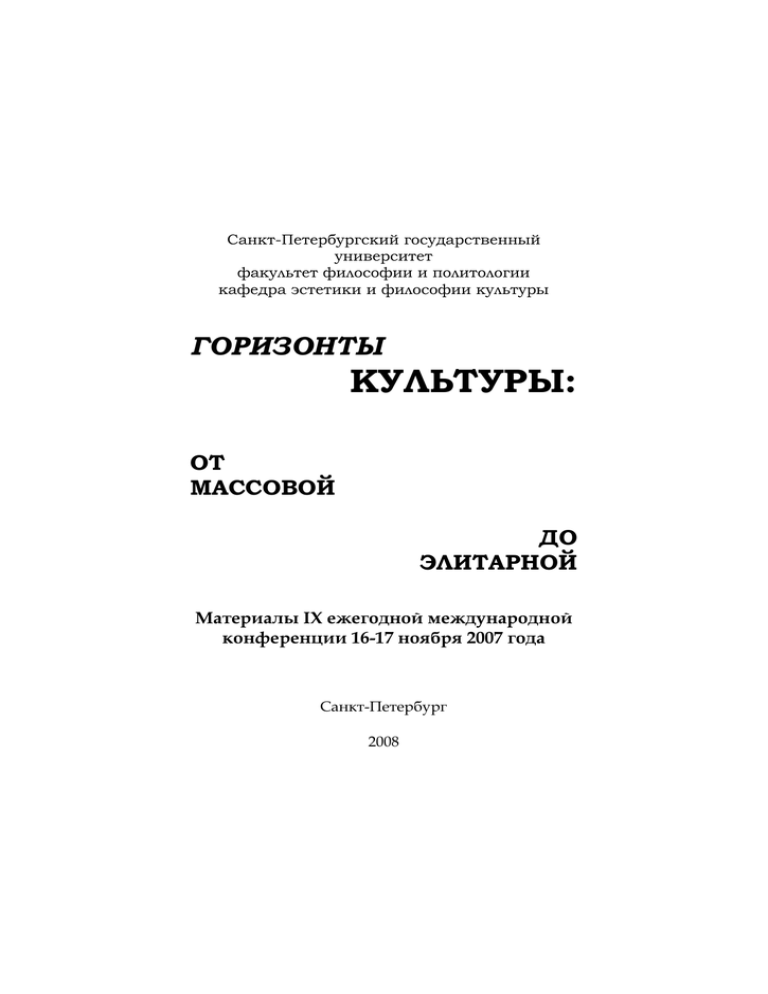
Санкт-Петербургский государственный университет факультет философии и политологии кафедра эстетики и философии культуры ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ: ОТ МАССОВОЙ ДО ЭЛИТАРНОЙ Материалы IX ежегодной международной конференции 16-17 ноября 2007 года Санкт-Петербург 2008 ББК 87 Горизонты культуры: от массовой до элитарной. Материалы IX ежегодной международной конференции 16-17 ноября 2007 года – СПб., Санкт-Петербургское философское общество, 2008. – 343 стр. Редакционная коллегия сборника: д.ф.н., проф.Голик Н.В., д.ф.н., проф.Акиндинова Т.А, д.ф.н., проф.Прозерский В.В., д.ф.н., проф.Устюгова Е.Н., д.ф.н., проф.Юровская Э.П., к.ф.н., доц.Никонова С.Б., к.ф.н., ст.преп.Радеев А.Е., асп. Цимошка Д.А. Ответственный редактор: Н.В. Голик Дизайн обложки: А.Гринчель с использованием рисунка К.Ерохиной Оригинал-макет: С.Б. Никонова Санкт-Петербургское философское общество Лицензия ЛП № 0000217 от 20.07.1999 ©Санкт-Петербургское философское общество, 2008 2 ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ: ОТ МАССОВОЙ ДО ЭЛИТАРНОЙ 4 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 5 Абрамов П.Д. Москва Смысл игры Игра является одной из констант человеческой культуры, хотя способность к ней присуща также представителям животного мира. Игра существовала у всех народов и во все времена. Человек изначально вовлечен в процесс игры и не может выйти из него. Игра и как ее суть – эстетическая деятельность лишь с определенной долей условности могут быть ограничены какимлибо направлением искусства. Во всех направлениях деятельности наряду с трудом и организующей работой сознания мы можем усмотреть и игровой элемент. Философы с древности обращались к понятию игры. Однако фундаментальный труд, обосновывающий ее значение, появился лишь в 1938 году, это Homo Ludens Й.Хейзинги. Основной тезис работы Хейзинги следующий: для обозначения нашего вида наряду с homo sapiens и homo faber необходимо поставить homo ludens (человек играющий). Хейзинга обосновывает этот тезис на материале поэзии, философии, права, мудрствования и других форм культурной деятельности[1]. Приведем определение, которое дает Хейзинга «Суммируя, мы можем назвать игру …некоей свободной деятельностью, которая осознается как “ненастоящая”, …которая не обуславливается никакими ближайшими материальными интересами или доставляемой пользой; которая протекает в особо отведенном пространстве и времени, упорядоченно и в соответствии с определенными правилами»[2]. Выделив главное из этого определения, можно сказать, что игра – свободная, неутилитарная деятельность, протекающая в особом пространстве и времени. В конце своего труда Хейзинга добавит еще один неотъемлемый признак игры – состояние радостного воодушевления. Метод Хейзинги, состоящий в выявлении сущностных черт различных культур, вероятно, является более глубоким по сравнению с попытками классификации и выделения культурно-исторических типов. Так, например, с позиций О.Шпенглера кризис современности можно объяснить сменой одного цивилизационного типа другим. Если же мы наблюдаем, что происходит изменение атрибутов человеческого существования, тех констант, которые оставались неизменными от начала культуры, то, значит, кризис действительно глубок и на смену нашей цивилизации придет не какая-то другая, аналогичная ей, а во многом иной тип существования. Примерно то же происходит и с содержанием, и, соответственно, с формами выражения игры. Теряются устоявшиеся функции, смешиваются, казалось бы, несопоставимые понятия и представления. Подобное размывание привычного содержания игрового Хейзинга обозначает термином пуэрилизм. 6 Материалы международной конференции «Подлинная игра исключает всякую пропаганду. Ее цель – в ней самой. Ее дух и ее настроение – атмосфера радостного воодушевления, а не истерической взвинченности»[3]. Человек находился всецело под властью природы, со страхом и трепетом взирал на ее грозные явления. Затем, благодаря общественной организации и технике он отвоевал себе ограниченное пространство свободы в беспредельном Космосе, сам начал повелевать природой, использовать ее процессы в своих целях. Однако в самом обществе каждый индивид включен во множество властных отношений. Даже если ты находишься на вершине власти, обладаешь значительными правами и возможностями, то все равно не свободен окончательно, так как обратной стороной прав являются обязанности – если ты не будешь их исполнять, то лишишься своего положения и, следовательно, прав. Затем, благодаря развитию тех же общественных отношений и техники появляется возможность обретения человекам все большей и большей свободы от общественных отношений. Очевидно, что полная свобода от общества невозможна, но также невозможна и полная независимость от природы. Под техническими средствами здесь подразумевается развитие средств коммуникации, особенно сети Internet, а также технологий, позволяющих радикально трансформировать телесность человека. Человек с помощью Интернета обретает доступ к практически неограниченному количеству информации, то есть он потенциально способен к генерации бесконечных единиц смысла. Такая деятельность подпадает под данную Хейзингой дефиницию игры: налицо наличие определенных правил, функционирование в выделенном пространстве и времени, а также отсутствие ближайшей материальной заинтересованности играющего. Человек благодаря технике приобрел, казалось бы, идеальные возможности для игры. В качестве источника, проливающего свет на проявление игрового и эстетического, рассмотрим творчество латиноамериканского писателя и философа Х.Л.Борхеса. В его произведениях достаточно ясно и отчетливо, хотя и в образной форме, выражены основные черты мировосприятия постмодернизма. К ним можно отнести утрату веры в способность достижения объективного и достоверного знания, склонность к эстетизации действительности. Понятие игры занимает в мировоззрении Борхеса важное место, лучше всего можно выявить механизмы становления игры, проанализировав эссе «Лотерея в Вавилоне»[4]. Сначала лотерея была игрой плебеев, где проигравший мог потерять лишь поставленные на кон деньги. Подобная ставка показалась недостаточной, и проигравший стал выплачивать значительный штраф, затем его уже сажали в тюрьму. Появилась всемогущая контролировавшая лотерею компания. Однако в подобной, сулившей большие возможности игре, могли участвовать лишь богатые, и тогда бедняки подняли восстание. Началась продолжавшаяся много лет смута, но бедные добились сво- 6 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 7 его: лотерея стала тайной, бесплатной и всеобщей. Она была осмыслена как интерполяция случая в миропорядок, причем случай присутствовал на всех этапах розыгрыша, число экспериментов было доведено до бесконечности. Закончилась все тем, что «бесконечная игра случайностей» распространилась на все сферы, стала определять все действия. Все книги содержали искажения и интерполяции, сотрудники компании, которые, казалось бы, и должны вносить порядок, были неотличимы от обманщиков. Это эссе является аллегорией на состояние современного мира. Среди сил, ведущих к становлению игры можно отметить желание использовать в своих целях обретаемую человеком свободу в игровом пространстве: руководители компании (если таковые вообще есть) обладают, по сути, неограниченной властью в данном обществе. Однако, более глубокой причиной является стремление уравнять все со всем, поставить каждого в равное положение с каждым, причем здесь подразумевается не абстрактное равенство возможностей, а именно реальное равенство, когда царь будет не больше раба и гений будет тем же, что и дебил. Но как это сделать, если очевидно, что люди неравны, во-первых, по способностям, данным от природы, вовторых, каждый обладает определенным, отделяющим его от других местом в общественной системе. Путь к этому уравнению лежит через понятие абсурда и случайности. Зачем читать книгу, если истина перемешана в ней с внесенной туда по жребию ложью. Даже сама, «истина» получена случайным образом в результате бесконечного числа жеребьевок. Властитель, управляющий жеребьевкой, может оказаться лишь марионеткой, контролируемой нищим идиотом. Существование в подобной системе может привести к двум видам мировосприятия. Во-первых, если человек все-таки ищет смысл, то цепь причинно-следственных связей уведет его в дурную бесконечность, так как каждое событие является следствием неисчислимого количества жеребьевок. Вторая возможность состоит в том, что человек не ищет объективного смысла, наоборот он подвергает сомнению все существующие ценности и нормы. На примере творчества Борхеса можно выявить внутренние, глубинные причины становления игры. Основной причиной является разрыв противопоставления игровое – серьезное или, если брать более широко, этическое – эстетическое. Само противопоставление существует объективно, независимо от нашего сознания, человек не в силах его снять, он лишь может посредством сведения к абсурду противоестественно отторгнуть один из полюсов. Уместно вспомнить понятие пуэрилизма И.Хейзинги, которое состоит в том, что человек в различных сферах своей деятельности ведет себя “словно бы по мерке отроческого или юношеского возраста”[5]. Это не поведение ребенка с усердием и детской непосредственностью изучающего мудрость великой Культуры, но юноши, который, почувствовав данные ему от природы немалые способности уверился в своей “независимости”, не желает прислушиваться к опыту веков. Он не хочет познавать, восполняя свою субъек- 8 Материалы международной конференции тивность и расширять горизонты своего сознания. Вместо диалога с миром посредством разума и чувств он придумывает живущий по своим правилам мир. В 1943 году Г.Гессе написал свой знаменитый роман «Игра в бисер», произведение представляет собой утопию, описывающую отдаленное будущее человечества. В ту эпоху люди признали ценность учености и культуры. Практически все действие романа разворачивается в провинции Касталия. Главным искусством и достоянием жителей этой провинции является игра в бисер, представляющая собой некую неутилитарную деятельность по сочетанию (разыгрыванию) явлений из различных сфер культуры. Игра имеет свой чрезвычайно сложный, доступный лишь немногим, язык. Приведем следующее высказывание главного героя романа Йозефа Кнехта о сути Игры в бисер. «Я вдруг понял, что в языке или хотя бы в духе игры все имеет действительно значение всеобщее, и каждый символ и каждая комбинация символов ведут не туда-то или туда-то, не к отдельным примерам, экспериментам или доказательствам, а к центру, к тайне и нутру мира, к изначальному знанию. …А теперь до меня впервые дошел внутренний голос самой игры, ее смысл, голос этот достиг и пронял меня, и с того часа я верю, что наша царственная Игра это действительно lingua sacra, священный и божественный язык»[6]. По мнению В.В.Бычкова, Игру можно рассматривать как самую суть, квинтэссенцию подлинного эстетического опыта[7]. Однако игра не снимает противопоставление эстетического и исторического. Касталийцы с помощью медитации, Игры в бисер, изучения наук и искусств достигают радостного, умиротворенного состояния, но за стенами самой Касталии протекает бурная, полная страстей и тревог жизнь. В беседах с отцом Иаковом Йозеф Кнехт был вынужден признать правомерность исторического подхода, ведь само возникновение Касталии было подготовлено всем ходом предшествующей истории, эта провинция возникла под влиянием социальных, экономических, политических сил, точно так же она может быть уничтожена под влиянием этих же сил. Существуя в дистиллированной атмосфере, касталийцы не создают ничего нового и лишь используют достижения предшествующих культур. В жизни часто болезни и страдания испытывают и углубляют мировосприятие художника. Страдания вырывают из круга благополучия, заставляют острее воспринять боль и радости другого человека. Жизненные неурядицы и испытания способствуют духовному росту. Человек может реализовать себя не только в области искусства или науки, но и, например, в педагогическом, врачебном служении или в семейной жизни. В обыденном сознании игра неразрывно связана с детством, ребенку полагается играть в игры. С философской точки зрения философии можно рассматривать детство как чрезвычайно глубокий и содержательный символ, который может помочь прояснить соотношение игрового и серьезного. 8 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 9 Евангелие от Матфея повествует о следующих действиях Иисуса Христа в ответ на вопрос учеников о Царствии Небесном. «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное; итак, кто умалится как это дитя, тот и больше в Царствии Небесном, и кто примет одно такое дитя во имя мое, тот и меня примет»(Мф. 18: 2-5). Если понимать Царствие Небесное, не как область потустороннего мира, а как преображенное состояние самого человека, то данное высказывание можно проинтерпретировать следующим образом. Человек может достичь детского, незашоренного отношения к миру. Ребенок лишен всего того наносного, что присуще миру взрослых, его восприятие чисто и открыто к истине и красоте. Детское и игровое не отменяет взрослого и серьезного, но дополняет и придает ему другое качество. Как это ни парадоксально, человек полагающий игровое в основание своих действий обретает более прочное основание, чем тот, кто признает лишь серьезное. Диалектику игрового и серьезного можно сопоставить с идеей Николая Кузанского об «ученом незнании». Согласно этому философу, сколь бы умножалось познание относительного, с его помощью никогда не постигнешь абсолютную реальность, но в то же время сама это реальность выступает в качестве основы всякого познания[8]. Способность играть, как свободная необусловленная деятельность, наряду со способностями мыслить и трудиться является сущностным, неотъемлемым свойством человека. Философия должна стремиться проникнуть в самую суть, потому анализ данной категории представляется чрезвычайно важным и плодотворным. Здесь нужно отметить несколько моментов: человек как существо свободное может вместо прекрасной возвышенной игры создавать игры, ведущие к саморазрушению. При такой игре происходит выделение какого-то участка действительности и организация его в соответствии с субъективными требованиями эго, что приводит к разрыву связей с космосом и обществом. Однако, возможно создание Игры, в рамках которой, посредством особого языка творчески объединяются различные явления духовной культуры человечества. Такая игра развивается из жизни и призвана преобразить ее в соответствии с идеалами красоты. Подлинная игра основывается в человеке на способности детского, искренне-непосредственного восприятия мира, она есть изначальная радость, творчество. Эта игра – творчество утонченных чувств, организует и направляет другие способности. Примечания 1. См. об этом: Хейзинга Й. Homo Ludens. М., 1997. C.13. 2. Хейзинга Й. Там же, С.210. 3. Хейзинга Й. Там же, С. 210. 4. Борхес Х. Л. Коллекция (Сборник рассказов ) // http://www.dstu.edu.ru/liter/BORHES/kniga.htm 10 Материалы международной конференции 5. Хейзинга Й. Homo Ludens. М., 1997. С.203. 6. Гессе Г. Избранное. СПб., 2003. С.90. 7. Бычков В. В. Эстетика. М., 2004. С.217. 8. См. об этом: История философии / под. ред. Васильева В.В., Кротова А.А., Д.В. Бугая. М., 2005. С.243. Авксентьевская М.В. Санкт-Петербург «Массовость» и «элитарность» в эстетике М.К.Мамардашвили Для авторского метода М.К.Мамардашвили характерно выявление пустот и расширение структуры философской терминологии. Попытка заполнения видимых лакун философского знания приводит к изменениям в поле философских смыслов и требует собственных средств для их описания. Мысль Мамардашвили движется и обостряется в смысловой напряженности метафор, в качестве которых выступают различные феномены мировой культуры. Событие культурного феномена выявляет затемненность внутри поля философского понимания, прозревающая сила метафоры проясняет темноты, среди которых усматривается новый смысл, сдвигающий границы объемов философских понятий. Новообретенный смысл затем закрепляет собственную форму, кристаллизуясь в одно из понятий измененного философского поля. Особый интерес, как в отношении демонстрации метода, так и для целей настоящей рубрики, представляет работа «Эстетика мышления». Внерациональный момент понимания обозначен как перворождение смысла в чувственной ткани сознания, в материи еще не сформированного слова, которая амплифицирует возможности разума к событию мысли, пониманию и собственному бытию. Культура – пространство усиления природных возможностей человека, в котором свершается акт понимания. Типология культурных феноменов выделяется по основанию амплификации. По способу амплификации человеческих возможностей культура включает в себя в частности научнотехническое и гуманитарное «понимание»[1]. По свершенности амплификации, т.е. по свершенности события мысли в акте понимания в рамках культурного феномена – на ницшеански аристократичную, индивидуальную, актуально-творческую свершенную мысль и массово-психологичные, отчужденные, механические продукты, потребляемые в часы досуга[2]. Таким образом, явлениям культуры могут быть типологически присущи полярные характеристики «элитарности» и «массовости», в зависимости от степени завершенности акта понимания в рамках культурного феномена. Событие мысли – одно из ключевых понятий эпистемологии Мамардашвили. Как следует из приведенного выше описания авторского метода, в событии мысли рождается новый смысл, который первоначально появляется 10 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 11 во внерациональном регионе сознания. Таким образом, согласно автору «Эстетики мышления», внерациональное и чувственное оказывается включенным в историю акта понимания в качестве исходного, эмбрионального состояния мысли. В историчном акте понимания происходит событие мысли, которое можно представить как путь мысли от внерационального состояния к состоянию кристаллизации в языке и речи. Мысль – некоторое содержание, претерпевающее на вышеупомянутом пути качественное изменение, которое возможно описать как рождение, явление из смутно различимого. Событие мысли можно описать как выход некоторого содержания из внерационального региона сознания на сцену умозрения. По мысли Мамардашвили, важнейшей характеристикой культурного феномена является присутствие или отсутствие, свершенность или несвершенность в нем события мысли. Характеристика культурного феномена в отношении события мысли может рассматриваться как основание для причисления данного феномена к явлениям «элитарной» или «массовой» культуры. Таким образом, для прояснения специфики «элитарности» и «массовости» в эстетической теории Мамардашвили необходимо более детально рассмотреть сущность события мысли в акте понимания. Историчность акта понимания различается нами ретроспективно, в процессе рефлексии, как смена состояний мысли в событии мысли. Исток события мысли расположен во внерациональном регионе сознания, который можно представить как топос чувственных состояний. Исходным состоянием мысли оказывается состояние чувственного впечатления, в котором возможно различить психическое переживание – трепета или удивления. Особенностью данного психического переживания является отстранение от всех прочих эмпирических свойств субъекта и предельная захваченность некоторым чувственным впечатлением. Яркое чувственное впечатление возникает по поводу налично имеющихся смыслов, но состоит в усмотрении в абсолютной ясности некоего сцепления обстоятельств – связи между исходно различными смыслами. Дальнейшее порождение смысла происходит в попытке выразить это впечатление. В исторической канве акта понимания состояние мысли как чувственного впечатления сменяется состоянием мысли как образа. Граница между этими состояниями характеризуется сменой направленности интенции: впечатления возникает помимо воли субъекта, в то время как появление образа предполагает призвание к поиску форм для выражения и передачи чувственных впечатлений. Автор «Эстетики мышления» рассматривает это призвание скорее как заданную сущность человеческого, нежели как явление воли или желания индивида[3]. Чувственное впечатление – эмпирическое событие усмотрения связи между различными смыслами, неполнота и незавершенность которого требуют придания формы и упорядочения. Образ возникает из чувственного впечатления как его рефлексия, явление из внерационального региона сознания во внутреннем созерцании. Характерно, что образ представ- 12 Материалы международной конференции ляет собой новую чувственную конструкцию, форма которой схватывает содержание вышеупомянутых объединенных смыслов. Мысль в состоянии образа – заново оформленного чувства – обладает отчетливостью чувственных свойств, что создает предпосылки для дальнейших изменений ее состояний в акте понимания. Из состояния образа мысль развивается в состояние символа, в котором чувственная конструкция впервые обретает словесное очертание. Символ – языковое из-обретение, которое позволяет подвести индивидуальные чувственные конструкции под всеобщие и коммуницируемые описания. Нахождение места в языке и выведение содержания мысли в пространство сознательных операций позволяет увидеть потенциальные возможности данного содержания. При обозначении содержания мысли как «любовь», становится возможной рефлексия полноты накопленного мировой культурой опыта переживаний любви и наиболее полного переживания чувства любви. При обозначении содержания мысли как «сущее», становится возможной рефлексия опыта понимания вопроса о сущем в рамках философского образования индивида. Таким образом, нахождение языкового эквивалента содержания мысли в акте понимания амплифицирует возможности человеческого познания[4]. Свершение события мысли в акте понимания происходит при участии способности индивида к продуктивному воображению и состоит в расшифровке усмотренной связи между смыслами, что создает возможность извлечь опыт и чему-то научиться. В то же время, событие мысли всегда избыточно по отношению к собственному содержанию. Любое утверждение содержит в себе некоторое смысловое поле, омывающее это утверждение[5]. Актуализация в речи выделяет мысль из чувственной среды, но ее рудименты не утрачивают важности в событии мысли. Чувственная среда мыслепорождения сохраняется в событии мысли в виде семантико-ситуативного поля, расположенного вокруг найденной словесной формы. Данное поле наполняется уникальным содержанием личностного богатства индивида как совокупности предшествующего опыта понимания. Событие мысли не является эмпирическим событием и происходит в отвлечении от свойств эмпирического субъекта, привходящим образом присутствующих в свершения акта понимания. Однако событие мысли невозможно вне личности, в него человек привносит наиболее существенное в самом себе [6]. Акт мысли совершается свободно в индивидуальном сознании, этот опыт имеет бесконечную ценность, являясь основанием достоинства личности. Интенциональность мысли, призвание к поиску форм для выражения и передачи чувственных впечатлений в возмещение неполноты эмпирических событий является специфически человеческой особенностью. Мировая культура, живая продуктивная форма мысли[7], совокупность истинно человеческого, представляется совокупностью смыслов, рожденных в актах понимания как содержаний мысли: «Реальная культура находится вовсе не в музеях 12 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 13 и не сводится к их посещению, а состоит в чувстве бытия или небытия [мысли]»[8]. Событие мысли свершается в индивидуальном сознании, чье продуктивное воображение использует поле достигнутых культурных смыслов для амплификации собственных возможностей в порождении новых смыслов в дальнейших актах понимания. Свершенность события мысли оказывается важнейшей характеристикой культурного процесса во всех его проявлениях и может выступить основанием типологического различия между характеристиками «элитарности» и «массовости» в явлениях культуры. Ключевой метафорой для понимания различия между данными характеристиками может послужить обозначение рефлексии. Рассмотрение акта понимания в аспекте рефлексии начинается с привлечением платоновского образа «пещеры самих себя» как психологических существ, эмпирических субъектов. Следующий момент рефлексии обозначен как «отказ от самих себя» в пользу собственного существования как континуума событий мысли. Дальнейший рефлексивный элемент акта понимания автор «Эстетики мышления» описывает как «рождение в самих себе» символического выражения содержания мысли. Рефлексивный аспект события мысли в целом обозначен как рождение нового смысла «из самих себя», т.е. из различения наиболее и наименее существенного в самом себе и осуществления выбора в пользу наиболее существенного. Именно данный акт выбора как возвышение самого себя над самим собой, оказывается культурным феноменом в собственно авторском смысле[9]. Свое представление о культурном феномене Мамардашвили иллюстрирует мыслью Кьеркегора о недопустимости понимания акта рефлексии, словно он совершается относительно пассивного мира, и рефлектирующее сознание не претерпевает при этом никаких изменений. Согласно Мамардашвили, напротив, именно преображение рефлектирующего сознания между полюсами эмпирического и трансцендентального субъекта позволяет свершиться акту понимания, завершиться событию мысли и сформировать культурный феномен. Событие мысли как рефлективное преображение совершается в сопричастности рефлектирующего сознания полю наличных культурных феноменов, т.е. собственного переживания акта понимания, представленного в содержании явления культуры. С точки зрения феноменологии культуры, прочтение литературного произведения аналогично его написанию, поскольку для обоих актов наиболее существенным является проведение процедур понимания на сходном чувственном материале[10]. В эстетике Мамардашвили ключевым основанием различия вышеупомянутых полюсов элитарного и массового оказывается наличие или отсутствие в явлении культуры признаков культурного феномена как воспроизводства события мысли и порождения собственной, уникальной смысловой единицы в акте понимания. События мысли, как уже говорилось выше, представляет собой смену состояний мысли от чувственного впечатления до кристаллизо- 14 Материалы международной конференции ванного понятия. Событие мысли как целостный акт не происходит, если какое-либо из состояний мысли оказывается редуцированным; понимание понятия невозможно при недоступности чувственного впечатления, в котором оно было «изобретено»; чувственное впечатление не становится событием мысли при незавершенности этапов рефлексии. Свершенность и несвершенность событий мысли в поле явлений культуры не обязательно обуславливается характеристиками мысли создателя воспринимаемого явления, поскольку акт понимания предполагает свободное, в том числе и внешнее по отношению к данному явлению, комбинирование различных смыслов в одном из ранних состояний мысли как чувственного впечатления. Массовость и элитарность понимаются не как характеристики явлений культуры, но как наличие или отсутствие подобного комбинирования, а также завершенность попытки порождения собственно-нового смысла, что образует культурный феномен как таковой. Необходимо отметить, что культурное поле понимается здесь достаточно широко и может в равной степени включать в себя феномены научной мысли, искусства и нравственности. Таким образом, в отношении характеристик элитарности и массовости явлений культуры, можно говорить не только об «элитарном» и «массовом» искусстве, но также, например, о массовой науке и массовой нравственности. Мамардашвили предостерегает против различения характеристик элитарности и массовости культурных процессов по основанию владения умственными орудиями культуры, особенно в применении к современной культурной ситуации, поскольку в индустриальном обществе, в условиях проникновения индустриальных форм в производство идей, инструментарием культуры владеют многие[11]. Социально-культурное положение индивида также не обуславливает абсолютным образом свершенность актов понимания. Невозможно ни привилегированное, ни пораженное в правах сознание. Культурные продукты должны быть социально доступны всем, но актуально могут быть доступны лишь в индивидуальном событии мысли, вне которого они остаются продуктами, потребляемыми аналогично природным. Иллюстрируя свое понимание элитарности, Мамардашвили приводит высказывание Ницше о возможности уравнивания индивидов в культурном отношении. Внешние условия прохождения пути мысли могут быть уравнены, но степень усилия, на которую способен индивид для свершения рефлексивного акта, определяется им самим, что является единственной мерой элитарности, и в этом смысле культура элитарна как таковая. Единственное основание привелигирования – полнота акта понимания, акта «когито», который впервые был описан Декартом и лег в основу философии Нового времени. Акт понимания – момент привелигирования настоящего, которое есть не какой-либо из моментов течения времени, но представляет вневременную полноту акта[12]. 14 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 15 Примечания 1.См. об этом: Мамардашвили М. К. Наука и культура//Как я понимаю философию. М., 1992. С.294-299. 2.См. об этом: Мамардашвили М. К. Литературная критика как акт чтения//Как я понимаю философию. М., 1992. С.158. 3.См. об этом: Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М., 2000. С.98-100. 4.См. об этом: там же, С.265-267. 5.См. об этом: там же, С.83-84. 6.См. об этом: там же, С.85. 7.См. об этом: там же, С.300-301. 8.Мамардашвили М. К. Мысль в культуре//Как я понимаю философию. М., 1992. С.147. 9.См. об этом: Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М., 2000. С.321324. 10.См. об этом: там же, С.354-355. 11.См. об этом: Мамардашвили М. К. Интеллигенция в современном обществе//Как я понимаю философию. М., 1992. С.285-286. 12.См. об этом: Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М., 2000. С.235236. Акопян К.З. доктор философских наук, доцент Москва Шлягеризация, шоуизация и эксгибиционизация в современной культуре Масштабы настоящей работы фактически принуждают автора ограничиться истолкованием тех терминов, которые включены в ее название. Как мне кажется, несколько оправдывает меня то, что эти термины пока еще никак не могут претендовать на общепризнанность и общеупотребительность. Начну я если и не с определения, то с краткой классификации шлягера, предложенной Т.Чередниченко, которая, идя от музыковедческой проблематики, выделяла три употребительных значения этого понятия: популярная и имеющая коммерческий успех песня танцевального характера, наиболее модная в настоящее время песня, а также «любой продукт массовой культуры (не только музыкальной), находящийся в зените популярности…»[1]. Следует также напомнить, что немецкое существительное Schlager (популярная песенка, гвоздь сезона) происходит от глагола schlagen (бить, колотить, вколачивать). Что можно сказать о генезисе шлягера? Во-первых, «собственно» шлягер, т.е. некий артефакт, именно как шлягер и задуманный, а значит, не претендующий ни на что большее типичный продукт потребительской культуры 16 Материалы международной конференции (масскульта), производится сознательно и целенаправленно. В этом случае он изначально должен удовлетворять определенным требованиям: отличаться подчеркнутыми броскостью, аттрактивностью (в данном случае речь не идет об оценке) и содержательной однозначностью (отсутствием хотя бы относительно сложных символов, аллюзий, метафор и т.п.), нести минимальную смысловую нагрузку (уплощение и упрощение смысла), обладать простейшими формой и структурой, быть предназначенным и удобным для практически неограниченного тиражирования и/или повторения и благодаря всему этому – легко восприниматься в том числе и человеком, не имеющим специальной подготовки и, более того, не располагающим хотя бы относительно значимым интеллектуальным багажом. Во-вторых, шлягер может возникнуть квазиспонтанно – в результате неумеренной «эксплуатации» артефакта и использования его «не по назначению», иначе говоря, в результате навязывания ему не свойственной для него функциональной (или квазифункциональной) роли (музыка, звучащая в телефоне, рисунки на сувенирах, образ в рекламе и т.п.) посредством вдалбливания его в сознание потребителей. По существу, в данном случае происходит, как это ни парадоксально, фактическое превращение не имевшего изначально никакого отношения к потребительской культуре артефакта (не столько внешнее, сколько внутреннее, о чем в свое время писали М.Маклюэн, В.Беньямин и многие др.) в ее продукт. Возможность достижения подобного результата далеко не всегда до конца осознается и, безусловно, не формулируется в качестве задачи. Как уже было сказано, достигается подобная «цель» посредством многократного повторения, бесконтрольного тиражирования конкретной «вещи», которая вполне может обладать неоспоримыми художественными достоинствами (Вивальди – «Времена года», Моцарт – 40-я симфония, Бетховен – «К Элизе», Чайковский – «Танец маленьких лебедей», Леонардо да Винчи – портрет Моны Лизы и многое др.). Превращение в шлягер произведения, по своему генезису и формальным признакам относимого к разряду художественных, происходит в результате практически полной утраты им этого свойства — художественности, которое прежде всего выражается в диалектически гармоничном взаимодействии и взаимообогащении интеллектуальной и эмоциональной его составляющих. Иначе говоря, любой «будущий» шлягер независимо от своего происхождения может изначально обладать свойством художественности, однако в конечном итоге он его всегда утрачивает. Подлинный шлягер не обладает статусом «станкового» произведения искусства; он функционален как типичный объект массового потребления. Неконтролируемое тиражирование (повторение) артефакта (или же его фрагмента, чаще всего специально подобранного) приводит к обретению им черт «полноценного» шлягера благодаря изначально отличавшей его простоте формы, структуры, творческих и композиционных приемов, видимых «невооруженным взглядом», «вынесению за скобки» отличающих его глубинной 16 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 17 содержательности и подлинной художественности, а также специфически шлягерному его воспроизведению с помощью современных технических средств (что нередко сопряжено с внесением в него более или менее серьезных изменений, «уточнений» и даже существенных искажений). Итак, благодаря совокупному действию двух факторов – упрощению (или изначальной простоте, которая сама по себе, естественно, не может оцениваться ни как положительная, ни как отрицательная особенность того или иного артефакта) и многократному повторению (вдалбливанию) – явление культуры практически неотвратимо превращается в «вещь», пользующуюся повышенным спросом широких потребительских масс. И происходит это за счет того, что в сознание и, что особенно важно, подсознание последних оказываются «вбитыми» некие умышленно примитивизированные идеи и образы. Фигурально выражаясь, шлягер — это плоть, утратившая (в результате упрощения и обессмысливающего повторения) смысл плоти. (Попутно нужно заметить, что, к примеру, многие оригинальные рок- и джазовые композиции, практически в той же мере, что и сочинения, гораздо более сложные по сравнению с названными выше опусами выдающихся композиторов и художников, никогда не могут стать шлягерами именно из-за тех трудностей, с которыми сопряжены их восприятие и запоминание рядовым потребителем масскульта.) В результате шлягер может рассматриваться как некий первокирпичик, как «атом» потребительской культуры, как продукт популизма в сфере культуры. Исходя из этого я могу констатировать, что шлягер как явление, родившееся в лоне потребительской культуры, ныне решительно и достаточно уверенно вышел за рамки музыкальной сферы и обрел «общемасскультовское» (а может, даже шире – общекультурное) значение (об этом, по существу, и говорится в третьем пункте пересказанной выше словарной статьи Т.Чередниченко). Поэтому я полагаю возможным в поисках сущностных характеристик шлягера не преувеличивать факторы моды и актуальной его популярности, а определить его как специфическое явление культуры, для которого характерны минимизация смысловой нагрузки, примитивизация формы, упрощение структуры и практически ничем не ограниченное тиражирование (повторение). (Хочу заметить, что все сказанное в данной работе не следует рассматривать как выражение принципиально отрицательного отношения автора к потребительской культуре.) Как уже было отмечено, влияние шлягера в настоящее время не ограничивается художественной сферой; оно уже распространилось практически на всю культуру: «шлягер как прием» заявляет о себе и в политике, и в науке, и в религии, и, естественно, на уровне повседневной жизни общества. На этом основании появляется возможность говорить о превращении конкретного явления в художественный, политический, научный, религиозный суррогат и соответственно о значительном расширении сферы эрзац-культуры или хотя бы о серьезных качественных изменениях в культуре вообще. Этот процесс 18 Материалы международной конференции превращения, качественного изменения артефакта и расширения сферы господства шлягера я и обозначаю при помощи понятия «шлягеризация культуры». (Истоки шлягеризации в известном смысле можно обнаружить уже в том, что культура, искусство практически начинаются с повтора – в игре, в ритуале, в мифе, хотя, естественно, повтором не ограничиваются.) Можно предположить, что Ф.Ницше, говоря о филистеризации культуры, имел в виду нечто подобное тому, что происходит в мире сегодня. Шлягеризация – это процесс экстенсивный, поскольку прежде всего он опирается на количественные «факторы» – многократное повторение и максимальное упрощение. Вторым исходным ключевым словом для настоящей работы является «шоу», понимаемое мной как феномен культуры, в котором ведущую роль играет внешнее, формальное, связи которого с сущностным, глубинным если и не отрицаются, то не могут рассматриваться в качестве имеющих существенное значение. Шоу – это прежде всего зрелище, потребность в котором человек обнаруживал еще в глубокой древности (к примеру, охотничьи и военные, религиозные и магические, свадебные, похоронные и иные ритуалы могут быть поняты в том числе и как некий общекультурный исток шоу, а требования «хлеба и зрелищ» имеют уже непосредственное отношение к потребительской культуре и т.д.). Его привлекательность на потребительском уровне достигается максимально возможным обнажением поверхностного и пренебрежением либо полным отсутствием интереса к глубинному, содержательному. Зрелищность (как существенная черта) изначально присуща культуре вообще и искусству в частности. Это проявляется хотя бы в том, что созидатель-художник всегда стремится выставить напоказ опредмечиваемое им в произведении (от рассуждений о сложностях, возникающих в трактовке этого вопроса в связи с позицией постмодернистов, я, естественно, в этой работе воздерживаюсь) свое сокровенное (при этом следует подчеркнуть, что опредмечивание не является для него самоцелью и что традиционную зрелищность искусства от современного шоу потребительской культуры отделяет дистанция огромного размера). Если шлягер в наибольшей степени связан со слуховым восприятием (хотя в результате превращения его в общекультурное явление все большую роль в его восприятии, как это ни парадоксально, стало играть зрение), то шоу практически исключительно рассчитано на восприятие зрительное. В то же время смысл описываемого в данной работе процесса раскрывается в том числе и через то обстоятельство, что в современных условиях шлягер и шоу не просто объединяют свои усилия, но уже, пожалуй, образовали некий симбиоз, в котором играют равно значимые и равно существенные роли. (К сказанному можно добавить, что многократно повторенное шоу с неизбежностью становится шлягером.) Как и шлягер, шоу успешно преодолело свою масскультовскую ограниченность, охватив практически все области современной культуры – науку, 18 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 19 спорт, религию, политику, образование. На мой взгляд, распространение шоу как специфического социокультурного феномена можно рассматривать в качестве относительно самостоятельного процесса, который я и называю шоуизацией. Самое печальное состоит в том, что в шоу превращается в том числе и то, что таковым быть не может в принципе. Можно, к примеру, напомнить о той суете, которая обычно окружает выступления звезд академического искусства мировой (да и не только!) величины, о презентации теоретических работ и научных проектов (особенно в ситуации подачи заявок на получение грантов), о телевизионных трансляциях богослужений (публичность которых обманчива, поскольку им, на мой взгляд, должен быть присущ специфически интимный характер), о всевозможных политических акциях, проводимых самыми разными партиями и организациями, о том, как ныне проходят спортивные соревнования, о наглядности и унифицированности, за которые борется современная педагогика всех уровней, о прилюдных и детальных обсуждениях частной жизни VIP и т.д. (Естественно, далеко не все конкретные факты и события, которые формально могли бы быть включены в приведенный список, следует безоговорочно и в полном объеме относить к потребительской культуре, но в то же время не замечать роста общекультурного влияния последней невозможно.) Как и в случае с шлягеризацией, максимальный эффект «в ходе» шоуизации достигается при помощи экстенсивных приемов: к примеру, звук должен быть на пределе безболезненно переносимой громкости, а иногда и превышать его, свет – насколько возможно ярким, цвета – предельно пестрыми, ритм – рваным, заостренным, движения участников шоу – максимально динамичными и быстрыми, их внешность – в наибольшей степени нарушающей «устаревшие» нормы и т.д. Двигаясь в том же направлении, «высшей формой» шоуизации можно признать «тотальную обнаженность», или, условно говоря, «культуральный эксгибиционизм», основу которого составляет стремление привлечь внимание к акту демонстрации того, что ранее, еще совсем недавно, демонстрировать было не принято или даже запрещено. Раскрывая смысл того процесса, который, на мой взгляд, подпадает под определение «эксгибиционизация», прежде всего нужно указать на наличие объекта, табуированного в соответствии с определенными этическими, цивилизационными, культуральными или иного рода критериями. Именно нарушение табу можно рассматривать как смысловое ядро эксгибиционизации. Здесь имеется в виду акт «радикального» снятия с объекта покровов (т.е. его обнажение – в самом широком понимании как самого этого слова, так и стоящего за ним действия). Особое значение в связи с этим пунктом приобретают характер и степень как самой табуированности демонстрируемого объекта (respective – присущий ему «потенциал» непристойности, шокирующего, эпатирующего смысла), так и его принадлежности лицу, осуществляющему эксгибиционистский акт. И если «в лоне» сексопатологии фактически обязательной является «неотчуждаемость» подобного объекта от его «носителя», то в сфере культуры эта принадлежность 20 Материалы международной конференции может быть как бы опосредованной, скрытой. Иначе говоря, в виду имеется опять-таки «эксгибицианизация как прием»: речь, к примеру, может идти о предмете, который представляет собой результат действия индивида, совершающего «культур-эксгибиционистский» акт (например, на фотографиях Т.Либерман изображены фрукты, которые напоминают половые органы, будто бы выступая в качестве антиподов таких традиционных для искусства образов, как «щечки, как персики», «груди, как виноградные грозди», «лоно, как нераскрывшийся бутон» и др.), и просто им демонстрируется и т.д. Таким образом, в связи с эксгибиционизацией следует говорить о выставлении напоказ определенного объекта, о сознательной и преднамеренной его демонстрации перед достаточно многочисленной группой зрителей (хотя практически тот же эффект возникнет и в том случае, если подобный акт будет совершен перед лицом всего лишь одного свидетеля) ради того наслаждения, которое испытывает субъект как от самого процесса выполнения данного действия (поэтому особо следует подчеркнуть, что само удовлетворение приносит не демонстрация объекта, а демонстрация объекта), так и от осознания того, что этот объект созерцают (шире — воспринимают) другие — посторонние, мало знакомые или вовсе не знакомые люди. (Получение подобного удовольствия, собственно, и является целью любого эксгибиционистского действа, как «драматургия», так и «сценография» которого преследуют достижение именно этой цели.) Речь идет о страстном желании индивида обязательно совершить этот акт, придав ему предельно театрализованный, броский, привлекающий к себе внимание характер. Наиболее ярким примером подобного акта является, пожалуй, скандал, который, имея собственную историю «в культуре», в «творчестве» современных любителей эпатажа обрел исключительную значимость и в настоящее время решительно претендует на самоценность. С недавнего времени «просто» открытости уже стало мало: обнажение скрываемого усиливается его назойливым, навязчивым показом; для придания же показываемому большей аттрактивности и даже известной брутальности демонстрируется не сама по себе обнаженность, но «показательное» физическое проникновение инородного тела в обнаженную плоть, образно говоря, обнажение обнаженного (имеются в виду металлические украшения, вживленные в самые различные части лица и тела и, по возможности, предъявляемые окружающим благодаря соответствующим образом сконструированной одежде). Процессы шлягеризации, шоуизации и эксгибиционизации прекрасно рифмуются с современными процессами цивилизации (имеется в виду возрастание технической вооруженности повседневного быта современного человека) и глобализации. Однако обсуждение этой связи может быть продолжено автором лишь в последующих его работах. 20 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 21 Примечания 1. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культуры ХХ века. М., 2003. С. 498. Баркова Э.В. доктор философских наук, профессор Москва Классика в структуре современного культурного пространства Культурный универсум России, сформировавшийся в последние десятилетия, радикально изменил эстетическую картину мира современного человека и профессиональные установки эстетиков. Обновление всей художественной жизни и связанной с ней информации, перевод многих новых текстов классиков мировой философии, эстетики и искусствознания ХХ века – все это на фоне динамики процессов, протекающих в пространстве глобализации, существенно трансформировало не только эстетическое восприятие и представления о художественном процессе, но и бытие человека в целом. Однако сами эти трансформации, благодаря которым, бесспорно, произошло расширение границ и горизонтов культуры, по моему убеждению, требуют сегодня специального исследования с точки зрения экологии культуры и гуманистики, ибо их содержательность отличается непростым и противоречивым характером. Одно из главных таких противоречий мне видится в том, что искусство и принципы его обоснования, которые традиционно были призваны «очеловечивать человека», гуманизировать его природу, на практике все чаще становятся проводниками и трансляторами простейших форм технологизации и коммерциализации жизни. Искусство при этом утрачивает свою самодостаточность и автономность, поскольку его язык и воздействие оказываются перехваченными овеществленной средой. А эстетическое пространство в силу диспропорций в развитии высокой (элитарно-профессиональной и народной) культуры и культуры кичево-массовой становится на наших глазах все более «мелким» и плоским. Это во многом объясняет, почему содержание представлений об элите и элитарной культуре трансформировалось самым существенным образом: от верности высоким ценностям и идеалам, от чувства ответственности за судьбу всего подлинного в искусстве и жизни не осталось и следа. И напротив, стереотипы массы и ее культуры – утверждение права на пошлость и пошлости как права - стали основой новых элит. А.П.Люсый, исследуя концепцию К.Лэша, правильно подчеркнул: в современной социальной структуре «элиты озабочены не столько руководящей и направляющей ролью, сколько ускользанием от общей судьбы… При этом вероятность того, что элиты будут 22 Материалы международной конференции пользоваться своей властью безответственно, лишь усиливается», ибо они и сегодня немного обязанностей признают перед предшественниками[1]. В этих условиях бытие классики как недосягаемого образца и идеала искусства и ее место в перспективе развития культуры предстает все более проблематичным. Уже сегодня ее роль в обществе заметно упала. Следствием этого оказалось ее реальное положение: она – существует, но существует как изолированный «островок духовности» в информационном космосе и океане массовой культуре. При этом статус классики в общественном сознании и ее влияние на все социальные и культурные процессы продолжает снижаться. Неудивительно поэтому, что представители и носители высоких традиций художественной культуры все больше выглядят как реликты – странные и несколько экзотические. В такой ситуации представляется исключительно важным поставить вопрос о глубине как необходимом и реальном – а не метафорическом - измерении эстетического и культурного пространства современного мира. Пока, как видим, эта задача остается в большой степени за границами интересов большей части эстетико-культурологических и философских исследований. Абсолютное, вечное, высокое начало искусства и самой жизни исключены релятивистско-игровыми установками из сферы эстетической мысли, и это – что симптоматично – не вызывает тревоги в сообществе эстетиков и представителей гуманитарного знания. Между тем, классика всегда была и остается необходимым условием существования глубины культуры. Конечно, «надо радоваться, – справедливо замечает В.А.Кутырев, – что философы и гуманитарии тоже участвуют в информатизации и компьютеризации окружающей среды, но печалит, что при этом они плохо выполняют свою главную роль – осуществление рефлексии происходящих процессов, показу их значения для судеб мира и человека. Их (не)осмысление оставлено журналистам, фантастам и прогрессивным обывателям»[2]. Нельзя не видеть, что введение в обиход информационных и телекоммуникационных технологий привело к изменению всей культурно-ресурсной базы общества, многократному увеличению скорости протекания всех социальных и культурных процессов. На наших глазах модерн оказался реликтом, сметенным постмодерном, а тот, в свою очередь, уходит в небытие, рождая еще неясные очертания нового проекта, в центре которого специфика существования уже совсем не структурированного – даже языковыми практиками – субъекта в новом пространстве искусственной среды. Он уже заместил любые социальные нормы, границы, установки и приоритеты только и исключительно преференциями массовой культуры. Вследствие этого формы идентификации в новой эстетической среде осуществляются все чаще на основе абсолютно произвольной трактовки знаков, не обладающих никакой ценностью, кроме ситуативно и индивидуально воспринятых своих потребностей. Могут ли в таких условиях выжить гиганты культуры и действитель- 22 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 23 но высокие идеалы искусства, удерживающие органичную связь вечного и преходящего, бесконечного и конечного? И не стоит ли за такой постановкой проблемы обычная ностальгия, сопровождающая смену парадигм, эстетических канонов и знакомых художественных форм? Думаю, ситуация последних лет отличается существенной особенностью. Новизну ее содержания зафиксировал и замечательно исследовал У.Эко в работах последних лет, изданных с характерным названием «Полный назад!». Смысл этой новизны заключен в вопросе - «при такой оргиастической толерантности, в таком абсолютном и неограниченном многобожии сохранится ли хоть какая-то линия водораздела, хоть какая-то мембрана между миром отцов и миром детей? Граница, которая необходима и детям, – чтоб они могли совершить… отцеубийство в ознаменование бунта и почтения, и отцам» (курсив мой – Э.Б.)[3]. Однако, раньше, бунт молодых был формой естественного протеста против уходящего, отжившего свое время искусства, против застывших и омертвевших норм жизни. И то, что приходило на смену понимавшемуся как высокое, или элитарное в культуре, представлялось низким, безвкусным, второсортным. Сегодня новации почти исключительно связаны с компьютером, но «первый компьютер, замечает У.Эко, – в семью, как правило, приносил отец»[4]. Эстетические формы современного протестного молодежного движения и эпатажа, которые характеризуют язык, формы поведения молодежи, имеют одну особенность: «большинство этих новаций технологичны. Они вырабатываются транснациональным и корпорациями (которыми обычно руководят пожилые люди) и маркетируются так, чтобы разжигать аппетит людей молодых»[5]. И «не в том дело, что отсутствует замещение моделей, – просто замещение проходит ускоренным порядком. …Если поначалу какая-нибудь молодежная хреновина (кроссовки «Найки», серьга в ухе) и оскорбляет эстетический вкус поколения отцов, она столь незамедлительно внедряется в сознание, благодаря информационной бомбардировке, что почти сразу же становится приемлемой и принятой даже пожилыми членами общества»[6]. В этой ситуации «возникает риск для всех», без наималейшей чьей бы то ни было вины, что непрерывные инновации приведут одних карликов на плечи к другим карликам»[7]. А великаны, гиганты – вымрут? Возможно ли человеческое общество без гениев-«великанов»? Понятна, не случайна, ибо исторически оправдана надежда У.Эко, для которой пока не видно оснований – «верю: из потемок уже бредут незнакомые гиганты, готовые сесть плотно нам с вами, карликам, на плечи»[8]. Но к этой встрече нам, «карликам» следует готовить почву – формировать установку на узнавание именно высокого, полноценного искусства, захватывающего дух, а не щекочущего нервы мещанина. Высокое, великое необходимо, и у У.Эко, безусловно, в этом сомнения нет. 24 Материалы международной конференции В связи с этим возникает проблема: как возможно в наше время обеспечение классикой на основе глубины культурного пространства ее гуманистической социально-воспроизводственной, «человекообразующие» функции? Заметим, сегодня ряд исследователей, отмечая кризис социокультурной жизни, связывают его с утратой высокого начала, высших ценностей бытия, в силу чего общество не может выполнять свои важнейшие функции. Так, – отмечает В.Н.Иванов, – «все возрастающие темпы производства энергии никак не соотносятся с высшими ценностями и смыслом человеческого существования, наоборот, все в большей мере вступают в противоречие с ними и грозят человечеству необратимыми последствиями…. Сегодня главным условием выживания мира является ускорение темпов социального прогресса, повышение его социальной зрелости, включение коллективного разума, инновационных ресурсов регулирования социального пространства» (курсив мой – Э.Б.)[9]. Уже это обстоятельство указывает на реальную потребность в сохранении и развитии не любых, а именно высших ценностей. Иначе говоря, между состоянием устойчивого развития социума и статусом высокого начала в жизни и классической культуры с ее высокими нормами и требованиями к воспринимающему ее человеку существует органичная и существенная связь. Классика оказывается не случайной для воспроизводства полноты и бытия целостности культуры. А раз так, то и в структуре современного общества могут быть открыты и исследованы (а не придуманы) новые формы этой связи. В чем же основания для надежды на сохранение классического искусства в структуре современного информационного пространства? Обратим внимание, в этой связи, прежде всего, на субстанциальную обособленность классики в социальном пространстве как особой человекообразующей нормы. Она всегда самодостаточна, поскольку моделирует целостность культуры и общества, создавая формы, в которых человеческие отношения выявляют свой конкретно-исторический предел. Можно сказать, поэтому, что классика представляет собой особое идеальное метапространство, задающее нормативно-ценностные установки и целевую направленность всей общественной жизни. В этом – одно из проявлений ее глубины. В силу этого статус классики в современном культурном пространстве оказывается двойственным: она включена внутрь культурного пространства и одновременно всегда выходит за его границы. Но потому и место классики оказывается здесь неопределенным, что и подтверждается реалиями современности. Возникает характерная антиномия: классика уже сегодня и существует и не существует. Как реальность, проявляющаяся в процессах трансцендирования и фиксирующая реально несуществующие феномены – идеалы, образы, ценности, она в современное социальное пространство «не помещается». Действительно, если учесть, что пространство современной культуры наполнено почти исключительно инструментальными формами и отношениями и 24 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 25 реалиями настоящего времени, то трансцендентные сущности здесь и должны казаться бесполезными и бессмысленными. Там, где публика ориентирована на матрицу «здесь и теперь» и интересуется лишь результатами действия и рационально выверенными средствами его достижения, все движения и вещей происходит лишь в пространстве определенно заданных программ, технологий и стратегий. Ясно, что результатом этого становится одномерный, или частичный человек, которому комфортно существовать в таких рамках, превращаясь в проводника информационных процессов, смысл которых до него часто не доходит, да и не представляет интереса. Такому человеку не нужна классика и глубокие переживания. Однако такая культура оказывается незавершенной, недостроенной: она не может восстановить полноту бытия человека как субъекта. Культурное пространство, таким образом, должно из технически-инструментального стать человекообразующим. Возможно ли это? Думаю, возможность роли классики в этом смысле выражается в превращении информационно-технологических характеристик человека и общества в гуманистичски и ценностно ориентированные. Уже само совершенство художественной формы связано с нераскрытой пока тайной - возможностью классики «очеловечивать человека». Это значит, что внутри современного культурного пространства сохраняется потребность в «человекообразующем центре», в связи сакрального и профанного, целостности-тотальности и частичности-единичности, свободой и нормативностью. Если так, то классика, составляющая основу целостности и реальной высоты культуры, открывает здесь свою социально-воспроизводственную функцию. Традиционно считалось, что классика выполняет функции познания, воспитания, трансляции связи поколений, коммуникации и общения, она обеспечивает непрерывность духовного опыта, учит ориентироваться в мире ценностей. Но в этом смысле ее воздействие оказывается скорее социальнопсихологическим и регулятивным, чем онтологическим. Однако поскольку она живет до сих пор как одно из востребованных проявлений социального бытия, то, по-видимому, она необходима не только в этих качествах, но, прежде всего, в более общем – онтологическом и духовновоспроизводственном плане. Отсюда следует, что и в современном пространстве должен существовать способ развертывания классики. И таким способом, по моему мнению, являются межкультурные коммуникации, благодаря которым публика включает в свое мышление, поведение и отношения трансцендентные смыслы, которые она осваивает через язык классики. Коммуникация при этом важна для того, чтобы само трансцендентное приобрело социальный статус, стало основой порождения норм и традиций, правил и условий социального поведения и общения людей. Поэтому межкультурные коммуникации выступают как особая форма социализации классики - нахождения той меры, в рамках которой трансцендентное пространство может быть сегодня реально освоено. 26 Материалы международной конференции Вот почему так важно вернуть высокому (в этом смысле элитарному) началу его место в современном обществе. Но для этого необходимо переосмыслить роль классики в системе образования и воспитания. Она должна сохраниться в качестве стержня в процессах формирования личности. Следовательно, изменено должно быть соотношение классического и неклассического, элитарного и массового и в средствах массой коммуникации. Это требует корректировки системы культурной политики, в соответствии с которой содержание классики должно быть выведено за границы рынка. Это важно потому, что классика представляет первичность бытия человека как субъекта и его независимость от любых конкретно-исторических форм существования. С этим связано еще одно направление возможного восстановления статуса классики, речь идет о процессе обеспечения социокультурной идентичности общества. В чем же состоит роль и место классики в современном обществе? Во-первых, она формирует те цели и идеалы, в направлении которых должен развиваться человек. Именно эти идеалы будущего не только проясняют смысл настоящего в существовании человека, но и фиксируют деструкции и издержки, которые при этом возникают. Во-вторых, классика позволяет отделить субъективность, духовность, свободу от унифицированной овеществленной среды. Если этого нет, происходит подмена роли человека как субъекта безликими информационномассовыми потоками. Растворенный в таких потоках человек превращается в лишь некое чувствующее тело. В-третьих, сохранение высокого смысла классики позволяет трактовать обыденность и повседневные отношения и общение в контексте высоких смыслов в отличие от того, как это принято в последнее время в массовой культуре и социологии. Таким образом, классика должна рассматриваться не только как часть эстетического и художественного пространства, но как важное проявление социокультурного бытия, как его необходимое человеко-созидающее основание, которое регулирует весь духовно-культурный процесс через глубину и универсальность своего особого пространства. Примечания 1. Люсый А.П. Тексты восстания и ускользания // НГ-ЕХ. 2007. № 17. 24 мая. С.4. 2. Кутырев В.А. Крик о небытии. // Вопросы философии. 2007. № 2. С.79. 3. Эко У. Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ. М., 2007. С.568. 4. Там же. 5. Там же. С.569. 6. Там же. С.570. 7. Там же. С.571. 26 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 27 8. Там же. С.573. 9. Там же. С.10. Беккер М. кандидат философских наук Санкт-Петербург – Лейпциг Шиллер о выражении человеческой индивидуальности в контексте эстетики и ее отношения к массовой культуре Фридрих Шиллер (1759-1805) считается вместе с Гете представителем немецкой классической литературы. Оба они писали не только художественные произведения, но и статьи и эссе философского характера, многие из которых посвящены проблемам эстетики. Философское наследие Шиллера состоит из многочисленных статьей, написанных в первой половины 1790-х годов. Вершину его философских занятий этого времени, с особым вниманием к кантовской эстетике и этике, представляют собой три объемных эссе, в которых Шиллер истолковал свои идеи об эстетической категории грации и об этической категории достоинства, об эстетическом воспитании человека и о классификации творчества в категориях наивности и сентиментальности. Первое эссе, «О грации и достоинстве», завершенное в 1793 году, больше чем другие указывает на влияние Канта и одновременно, при всей близости к нему, изменение Канта в направление переложения его этики в эстетику. Это особенно заметно, помимо прочего, в «смягчении» Кантовского категорического императива и в особенном значении эстетической категории «грации». В отношении к категорическому императиву позиция Шиллера оказывается достаточно ясной, при этом не совсем новой в контексте современного ему обсуждения этики Канта: «В нравственной философии Канта идея долга выражена с жесткостью, отпугивающей всех граций и способной легко соблазнить слабый ум и поиском морального совершенства на путях мрачного и монашеского аскетизма. Как ни старался великий мудрец оградить себя от этого ложного толкования, самого возмутительного для его ясного и свободного духа, он все же, на мой взгляд, сам подал к тому значительный (хотя в виду его целого, пожалуй, неизбежный) повод суровым и резким противоположением обоих действующих на человеческую ролю начал»[1] Как раз в этой моральной «жесткости» и «суровости» следование Канту, заявленное кантианцем Шиллером, находит свои границы. У Канта выражается ненужный аскетизм и в его этических и эстетических трактатах отсутствует, по мнению Шиллера, именно понимание грации. Почему Шиллер придает грации такое значение, чтобы оторвать себя в этом, можно сказать, принципиальном пункте от поклонения учителю? Для понимания этой категории является крайне важным, обратить внимание на немецкое понятие, потому что перевод слова на русский язык не совсем сов- 28 Материалы международной конференции падает с содержанием этого слова в немецком языке. Несомненно, немецкое слово «Anmut» имеет что-то общее с итальянским словом «gracia» и в немецком языке также существует заимствованное из французского языка слова «Grazie», но немецкое слово «Anmut» дает еще и другой акцент, который перекликается в русском переводе со словом «привлекательность». Поэтому с грацией у Шиллера связаны не только привлекательные нежность и тонкость, но и вообще привлекательность и более того намерение человека стать привлекательным, общеуважаемым и общепризнанным. Другими словами, акцент переносится на оформление этой привлекательности и грации в отношении к собственным предпосылкам человека. В этой связи ясно, что Шиллер имеет в виду – отношение к собственной природе. Формулируя этот взгляд на собственную природу, он именно в выражении грации и привлекательности усматривает функцию внутренней организации человека за пределами этики Канта и переносит моменты самоопределения человека в область эстетики. Это самоопределение средствами грации и привлекательности Шиллер предпочитает моральному самоопределению в этике Канта, так как в ней исключается чувство и доминируют рассудочность и разумность, в то время как посредством грации человек сохраняет связь со своей собственной природой, укрепляет свою чувственность, не забывая свою разумность. Обеспечивается это единство чувственности и разумности в грации именно тем, что выражение грации и привлекательности выходит из человека как органическое целое, которое не допускает дальнейших рассудочных разделений и в моменте выражения полностью и неразделимо утверждает индивидуальность человека. В связи с этим Шиллер делает в области эстетики отходит от общей, просто данной красоты. Мы не находим у него никаких возражений против определения прекрасного в эстетике Канта, но он добавляет другое понимание красоты. В понимании Шиллера данная человеку красота только архитектоническая, и выражается она в рамках воззрения на другого человека, существует независимо от него, но естественно, по Канту, у нее есть субъективный и объективный характер в одном. Он написал о границах такой красоты: «… хотя архитектоническая красота человеческого тела определяется понятием, лежащим в его основе, и обусловлена природными целями, вложенными в него, эстетическое суждение совершенно отделяет от них красоту, понимая под последней лишь то, что непосредственно и по существу принадлежит явлению»[2]. Что имеет Шиллер в виду, когда говорит о красоте, которая лежит «непосредственно и по существу» в явлении? Разве архитектоническая красота не лежит в явлении? На самом деле, Шиллер видит такую красоту, в которой выражается высшая степень явления, чем в так называемой архитектонической красоте, которую мы просто созерцаем. В дальнейшем он видит две черты красоты: «И потому красота может считаться гражданкой двух миров, к одному из которых она принадлежит по рождению, а к другому – по усыновлению; она получает бытие в чувствен- 28 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 29 ной природе, а права гражданства – в мире разума. Этим объясняется также, каким образом вкус, как способность оценивать прекрасное, является посредником между духом и чувственной природой, объединяя в счастливом согласии оба отвергающие друг друга начала,– каким образом он снискивает у разума уважение к материальному, а у чувств – склонность к рациональному, возводя непосредственные созерцания в сан идей и превращая в известной степени чувственный мир в царство свободы»[3]. Иными словами, свободу человека или сущность человека придется добавить, чтобы явления получили такой уровень настоящего или полноценного эстетического явления. И здесь, в настоящем эстетическом, соединяется свобода и необходимость, которые у Канта совпадает, на самом деле, в области этики, а не в области эстетики. Однако, что касается понятия свободы, то свобода у Шиллера понимается действительно в качестве некой свободы игры, а не просто как устойчивое совпадение необходимости свободы. Именно эта возможность игры является принципом индивидуальности, которая у Канта совсем исключается перед властью нравственного закона, который человек просто применяет. Иными словами, в области явлений человек может на основе игры соединить свободу и необходимость, и в пространстве игры развертывается его индивидуальность на основе его собственной природы. Таким образом в грации Шиллер связывает эту индивидуальную и настоящую красоту и со свободой человека, и с его собственной природой. Но эта природа имеет не только такой статус, она сама выражается в движении, в процессуальности и отличается поэтому от недвижимости архитектонической красоты: «Таким образом, принимая на себя управление игрою явлений и вмешательством своим отнимая у природы возможность охранять красоту ее создания, личность или свободное начало в человеке становится на место природы и, если позволительно так выразиться, вместе с ее правами принимается на себя и долю ее обязательств. Вовлекая подчиненную ему чувственность в свою судьбу и ставя ее зависимость от своих состояний, дух сам в известной мере становится явлением и признает себя поданным закона, властвующего над всеми явлениями. Ради себя самого он обязуется и на своей службе оставить зависящую от него природу и не будет обращаться с нею противно ее прежнему долгу. Я называю красоту обязанностью явлений, потому что соответствующая ей в субъекте потребность коренится в разуме, и потому должна считаться всеобщей и необходимой. Я называю ее прежней обязанностью потому, что чувство уже произнесло свой приговор раньше, чем приступил к своему делу разум. Итак, теперь свобода правит красотою. Природа дала красоту сложения, душа дает красоту игры. И теперь мы знаем также, что должно разуметь под изяществом и грацией. Грация есть красота тела под воздействием свободы, красота тех явлений, которые зависят от личности. Архитектоническая красота делает честь творцу природы, грация, изящество – своему носителю. Первая есть дар, вторая – личная заслуга. Грация может быть свойственна только движению, так как изменение в душе 30 Материалы международной конференции может проявиться в чувственном мире только как движение. Это, однако, не значит, что в чертах неподвижных и спокойных не может сказываться грация. Эти неподвижные черты первоначально были не чем иным, как движениями, но от частого повторения стали в конце концов привычными и запечатлелись непреходящими чертами. Однако не всем движением человека свойственна грация. Грация всегда лишь красота движимого свободою тела, и движения, вызванные только природою, никак не могут заслуживать названия грациозных»[4]. Чтобы посмотреть на эстетику Шиллера в рамках истории эстетики, и особенно на его понятие грации, придется разделить два общих направления эстетики, связанные с именами двух современников Шиллера, хотя на протяжение истории эстетики оба направления претерпели видоизменения. Первая линия – линия эстетического созерцания, самым влиятельным представителем этого направления стал Кант, а вторая линия была связана, помимо прочего, с Гете. Писатель, поэт и естествоиспытатель Гете является также мыслителем и философом, который рассмотрел область эстетики, прежде всего, исходя из перспективы творчества, при этом не просто специфического творчества отдельного человека, а творчества гения, – каковым он был, естественно, сам. Эстетика у Гете представляет собой эстетическое созерцание и ощущение мира, и воплощается, в конце концов, в гении, который создает это единство всеобщего и чувственного в художественном объекте. С точки зрения Гете и других представителей этой линии в философской эстетике, творческий процесс представляет собой необходимость и свободу художественного субъекта, через личность которого воплощается единство отдельного, произвольного и чувственного, с одной стороны, и необходимого и всеобщего, с другой. Вершиной этого синтеза является гений, который соединяет всеобщность художественной и исторической эпохи с собственной биографией и отдельными предметами искусства. Творчество Гете самого как художника и философа олицетворяет этот синтез в ярком неразделенным виде: как художник он является всегда также философом, и как философэссеист также всегда художником. И с этой точки зрения, через гения больше проходит именно это неразделимое, чисто человеческое единство эстетического соединения чувственного и всеобщего, чем в простом эстетическом созерцании, где это единство дано в первую очередь в эстетическом объекте, который только воспринимается. Несомненно, у Шиллера в эстетической категории грации выражается близость к позиции Гете, и разные аспекты творчества он глубже исследовал в своем последнем эстетическом эссе с помощью категорий наивности и сентиментальности. Однако близость к преобладанию рассмотрения творческого субъекта в шиллеровских взглядах не может скрыть, что с определенной точки зрения его позиция еще сильно связана с философией Канта, и не только в отношении к этике, но и к эстетике. В приведенных цитатах уже заметно, что Шиллер исходит не только из позиции творчества человека, но 30 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 31 и из статуса эстетического явления, т.е. в явления, которое воспринимается. На самом деле, с работой Шиллера связана не только попытка соединения структур необходимости этики со свободой и чувствительностью эстетического восприятия, но и стремление определить какую-то среднюю позицию между эстетическим созерцанием и творчеством особенного человека, так называемого гения. Все это станет очевиднее, если мы обратим внимание на ключевое звено всех размышлений Шиллера. А именно человек является ключевым звеном, т.е. когда он мыслит о красоте, об архитектонической красоте, о человеческом теле и.т.д. все его эстетические позиции только связаны с человеком, например о красоте в природе он вообще не рассуждает. Шиллер объясняет прекрасное именно тем, что настоящее эстетическое явление связано с человеческой свободой, с человеческой индивидуальности, с человеческом движением, с человеческой сущностью, со способностью человека попытаться воспользоваться разными вариантами, связанными с игрой, с баловством, с забавой, с шуткой. И все это становится возможным с помощью выражения грации и привлекательности. Однако, с другой стороны, мы можем видеть, что все это, несомненно, также относится к творчеству гения, но ведет за пределы творчества превосходных людей; скорее всего, мы видим здесь черты такого явления, которое просветительная и классическая литература определила с помощью понятия «прекрасного сообщества», отличающегося свободным кругом общения, среди которого каждый свободно и легко приносит свой взгляд в это сообщество, становится привлекательным и приятным и может таким образом действительно выразить свою индивидуальность среди других людей в рамках определенного, изысканного, сообщества. Таким образом, мы обнаружим у Шиллера, с одной стороны, тенденцию, ограничить эстетическое явление чем-то связанным с человеческой телесностью и человеческой свободой, а с другой стороны, стремление, дать творчеству общественный, более доступный каждому человеку в рамках прекрасного сообщества характер. Можно сказать, что с обеих сторон проявляются специфические формы целостности и совершенности, а с этим соединяется единство прекрасного, с одной стороны, у явления прекрасного, и с другой стороны, у действия гения. Если мы увидим у выражения прекрасного в явлении именно целостность и совершенность этого явления, которое свое единство утверждает в качества целостного и совершенного явления, и если мы увидим в творчестве гения целостность и совершенность в нем самом, чтобы действовать ради создания прекрасного, – то у Шиллера это является соединенным в человеке с помощью грации. А это завершается только в человеке, а не вне его, и только в этом определенном моменте проявления грации в общественных ситуациях. Человеческая телесность и человеческая свобода являются с двух сторон, со стороны эстетического явления (телесность человека) и со стороны проявления человеческой природы на основе свободы игры (человеческая свобода), целостным и совершенным проявле- 32 Материалы международной конференции нием в определенном индивидуальном человеке. Хотя все это завершается в ограниченных условиях, связанных с достаточно специфическим пониманием и ощущением грации, здесь можно найти утверждение такого определения прекрасного, которое дал Ницше: только человек прекрасен, а все остальное находится лишь в статусе второстепенной красоты. Несомненно, грация оказывается чем-то временным и связана со случайностью выражения индивидуальной природы человека, но обеспечивает единство индивидуальной человеческой телесности и свободы в самом человеке, а не вне его, в художественном предмете или предмете красоты. Что касается темы конференции, то надо сказать, что как раз в этом открывается, по-моему, ключ для понимания настоящего массового и элитарного в культуре. Стремление Шиллера к распространению индивидуальной свободы в области эстетики ведет к тому, что необходимость человеческой природы выражается не только в высших сферах искусства, воплощенных в творчестве гения, но и в таких сферах, которые мы связываем с массовой культурой. Но это распространение имеет свое границы в том, что в области грации и привлекательности мы встречаем совпадение необходимости выражения индивидуальной человеческой природы со свободой в процессе осуществления этой природы. Иными словами, с одной стороны, мы встречаем какую-то случайность в этих эстетических проявлениях, с другой стороны, какую-то необходимость. Сказать, что это специфическое индивидуальное совпадение человеческой свободы и необходимости оправдывает массовую культуру, это еще не все. Дело в том, что в грации, а также в последующем достоинстве, у Шиллера выражено нечто, что соединяется под эгидой эстетического проявления в рамках человеческого общества, хотя только в узких условиях временного и иногда случайного явления в человеке. В конце концов, есть область эстетики, где мы можем встретить понимание совершенства и целостности индивидуального и ограниченного человека вне понимания его превосходства в качестве гения или в качества интеллектуального человека, который только может воспринимать произведения гения. Однако этим также ограничивается ценность массовой культуры, потому что признак массы не обеспечивает такую индивидуальность человеческой природы и процессуального воплощения его с помощью грации и привлекательности, с помощью игры, с помощью свободы. С помощью эстетической категории грации мы истолковываем, поэтому, не только понимание индивидуальной целостности и совершенности за пределами гениальности, но и ограничение массовой культуры самой по себе, которое не препятствует увлеченности массой. Грация, или привлекательность, гарантирует нам такую промежуточную эстетическую область, где царствует индивидуальное человеческое, которое связано с какой-то временной целостностью и совершенством, но не обязательно связано с гениальным и превосходным и не поглощено массовым духом и поэтому отграничено от него. 32 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 33 Шиллер приписал грацию, прежде всего, женщинам: «В общем, грация чаще встречается у женского пола (красота, быть может, чаще у мужского), причину чего понять нетрудно. В грацию должны внести свою долю как строение тела, так и характер, первое – своей восприимчивостью для впечатлений и податливостью в игре движений, второй – нравственной гармонией чувств. В обоих отношениях природа благосклоннее к женщине, чем к мужчине». С этой точки зрения, массовая культура не случайно исторически связана со значением творчества женщин и их эстетическим вкусом. Но именно с этой точки зрения гарантировано то, что в рамках массовой культуры сохраняется отграничение от массового характера и возникает дух индивидуальности уже тогда, когда мы еще не говорим о творчестве и о превосходстве гениальных творческих людей. Как раз женщины играет огромную роль в неэлитарной области культуры, сохраняя или добавляя индивидуальность и человеческую природу, чтобы индивидуальность не была уничтожена массовой культурой. Примечания 1. Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6, статьи об эстетике. М., 1957. С.146. 2. Там же. С.120. 3. Там же. С.124. 4. Там же. С.127-128. 5. Там же. С.150 Белоцерковский О.В. Саратов Массовое и элитарное музыкальное искусство на арт-рынке Резкое изменение политического курса нашей страны, свершившееся в последние десятилетия XX века, повлекло за собой серию социальноэкономических реформ, создавших новые условия для развития маркетинга, составной частью которого является и музыкальный менеджмент. Понятие «музыкальный менеджмент» чаще относят к сфере шоу-бизнеса, охватывающего, прежде всего, массовое музыкальное искусство. Будучи открытой сложной и специфически развивающейся социокультурной системой, музыкальный менеджмент способен удовлетворять художественноэстетические потребности общества. Он сосредоточен на обеспечении запросов слушательской аудитории, воспитании ее вкусов и пр. Однако не меньшую, а даже более существенную роль в культурном развитии социума играет элитарное музыкальное искусство, представленное бессмертными творениями композиторов-классиков. Вот почему процесс организации концертной деятельности классической направленности непосредственно входит в музыкальный менеджмент как наиболее значимая его сторона. 34 Материалы международной конференции В основном, музыкальный менеджмент должен обеспечивать культурные запросы разных социальных групп населения, но его конечной целью является все-таки воспитание слушательской аудитории. Представители музыкального менеджмента, а речь идет, прежде всего, о профессиональных продюсерах, призваны формировать вкусы публики, например, посредством выбора концертного репертуара исполнителя, качественного звучания музыкального произведения, анализа и оценки звучащей музыки. В этом, собственно, и заключается истинное предназначение продюсера. Таким путем музыкальный менеджер не только руководит процессом организации и проведения концерта, но и, занимая активную жизненную позицию, интенсивно вмешивается в проходящие культурные процессы. Он по-своему руководит слушательской аудиторией, воспитывает ее: формирует ценностные ориентиры слушателя, его художественно-вкусовые пристрастия, углубляет познание, расширяет кругозор и др. Вместе с тем, современная ситуация на «рынке искусства» зависима от ценностных установок потребителей. Как это ни парадоксально звучит, бизнесу, работающему в этой сфере, экономически выгодно, чтобы уровень ценностей был низким. Подобное отношение музыкального менеджерапредпринимателя к покупателям товара вызвано тем, что создать и продать такой товар, как хит (песню года), гораздо проще, нежели великие творения В.А.Моцарта и Л.В.Бетховена, П.И.Чайковского и С.В.Рахманинова, С.С.Прокофьева и Д.Д.Шостаковича. Помимо этого, данный менеджер управляет ценностными установками потребителей для того, чтобы продать тот или иной товар (допустим, хит популярного эстрадного певца) с большим ажиотажем со стороны покупателей и тем самым искусственно создать особое общественное мнение. В погоне за материальным доходом никто из представителей такого рода бизнеса не задумывается о том, что подобная продюсерская деятельность негативно сказывается на интеллектуальнонравственном уровне потребителей, а ведь за ним понимается слушатель – российский народ, который, в свою очередь, сотворит новые поколения зомби-потребителей… Таким путем эволюционирует и, со всей очевидностью, модифицирует (увы, в сторону деградации) и даже уничтожается веками взращенный ген, несомый населением России, ее высочайшей культурой прошлого. Несмотря на широкую и активную демонстрацию музыкального менеджмента в концертной практике, сама сущность этого явления пока не получила адекватного научного осмысления. Литература касается преимущественно конкретных вопросов продюсерства в области экономики, права, проявления творчества и управления проектами в системе шоу-бизнеса, но никак не организации концертов классической музыки, что существенно отличается от предыдущего (шоу-бизнеса) своей спецификой. Так, в учебном пособии С.М.Корнеевой «Музыкальный менеджмент», адресованном студентам вузов, обучающимся по специальности «Музыкальный менеджмент» и специ- 34 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 35 альностям культуры и искусства [М., 2006] говорится об условиях, необходимых для проведения успешной продюсерской деятельности. Согласно автору, в книге «рассмотрен комплекс ролей продюсера, стили управления, формальное и неформальное управление, авторитет и престиж продюсера; в области творчества – креативная деятельность, технология клипмейкерства, постпромоушн, роль PR и рекламы в продвижении артиста; в области экономики – явление фандрайзинга в России, жизненный цикл музыкального проекта; в области права – контракт с артистом: «за» и «против», деятельность авторско-правовых обществ, их функции и задачи» (цит. с. 3). Различия между демонстрацией и продажей продукций массового и элитарного искусства на арт-рынке очевидны. Предопределяет такое различие сам объект музыкального искусства, представленный многообразием сложившихся жанров и форм, творческих стилей, художественных направлений, школ. Так, «показом» образцов классического искусства в форме классического концерта занимается музыкант-профессионал, в лице которого иногда могут совмещаться функции продюсера, исполнителя и даже лектора, знакомящего слушателя с прозвучавшими произведениями (творческое начало в данном случае, конечно, превалирует). Ведь профессиональное ведение музыкальной пропаганды – чрезвычайно важный акт в работе со слушателем. Не случайно, деятельность музыкантов-просветителей, несущих искусство в народ, всячески поддерживал Б.В.Асафьев, считавший саму идею культурной пропаганды преемственным продолжением дела композиторовкучкистов и рассматривавший ее как одно из великих завоеваний отечественной мысли XIX века. В «пропаганде» же массового искусства, где больше проявляет себя, например, поп-музыка, облаченная в форму крупных театрализованных шоу-концертов, зачастую преобладающим становится командный вид деятельности. Здесь скооперирована творческая группа из менеджеров-предпринимателей, продюсеров (художественных руководителей), самих исполнителей, звукорежиссеров, художников, имиджмейкеров и мн. др., составляющих целый штат обслуживающего персонала. Различие касается коммерческих вложений в концерты, что получают отнюдь не равный уровень финансового снабжения. Так, концерты классической музыки имеют весьма скромное оснащение. Например, в концертах фортепианной музыки наряду с профессиональным пианистом, чувствующим и передающим все тончайшие оттенки фортепианной игры, важно иметь в наличии качественный (фирменный), точно настроенный инструмент и хороший по акустике зал. Как отмечал в свое время Ф.Лист, «чтобы дать концерт, необходимы соответствующее помещение и подходящий музыкант». Продукт же «шоу-бизнеса» больше прельщает спонсоров, отсюда – богатая красочная реклама, постановочные видеоклипы, восхитительные по зрелищности концертные программы, прекрасное техническое оснащение крупных залов, усиленный интерес со стороны масс-медиа и пр. Такой продукт непосредственно направлен на удовлетворение вкусовых запросов пуб- 36 Материалы международной конференции лики, что, казалось бы, можно объяснить комплексным воздействием на слушателя, провоцирующим усиленное зрительно-слуховое восприятие реципиента (кстати, как раз здесь наглядно выражает себя гедонистическая функция искусства). Но одновременно нельзя забывать и о главном: все это реально сказывается на формировании его художественно-эстетических потребностей, воспитании личности, ее вкусовых пристрастий, развитии нравственности и пр. Фактически таким путем (и часто неосознанно) проводится действенная идеологическая работа, что напрямую сказывается на воспитании молодого поколения, а это – одна из больных проблем, кардинально определяющих будущее современной России. В концертах элитного искусства действуют несколько иные «законы», влияющие на формирование слушателя, его воспитание и пр. Истинные любители настоящей музыки достаточно воспитаны (и порой достаточно образованы) в плане музыкального восприятия. К этой категории публики в России относится своя элита: интеллигенция, музыканты-профессионалы, особый контингент молодежи, получающей или имеющей музыкальное образование, меломаны, немало в этих рядах пенсионеров и бюджетников. С сожалением можно констатировать, что социальное расслоение мешает приобщению к высотам классического искусства не только малоимущих, но и детей богатого круга, поскольку для «избранных» становится не престижным посещение концертов классической музыки (исключение составляет своеобразная «дань моде» и концерты знаменитостей, прежде всего, зарубежных артистов, на которых, собственно, и «тусуется» столичный бомонд). Следует отметить и тот факт, что массовое искусство лучше приспособлено к жизни, оно более конкурентоспособно, нежели классическое. Во многом это объясняется опять-таки его лучшим финансированием, что сказывается на массовом звучании и продаваемости его продукции, которой фактически принадлежит большая часть звукового пространства необъятной России. В любом случае, наряду с творческим начинанием музыкальных менеджеров массового и элитного искусства объединяет ряд общих черт: профессионализм, коммуникабельность, ум и интеллект, рискованность, ответственность, знание рынка и коньюнктуры, умение предвидеть, владеть интуицией и проявлять в деле рациональное начало. Кроме этого, важно удовлетворять эстетические, вкусовые потребности публики, о чем говорилось выше, а также стремиться к постоянному обновлению концертной жизни. Последний тезис связан не только с обновлением «застойного» репертуара, с введением на сценическую площадку новых имен, с приглашением заграничных исполнителей, но и с особым синтезом музыкальных стилей, жанров, видов исполнительства. Такой экспериментальный симбиоз концертной жизни нередко основывается на смешении массового и элитного искусства, выбрасывая на арт-рынок новый «диковинный» продукт. 36 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 37 В настоящее время важной составляющей в деятельности музыкальных продюсеров становится использование инновационных, нередко креативных методов работы, что также ведет к повышению качества продаваемой продукции и спроса на нее, т.е. большей заинтересованности в ней со стороны покупателей. Ф.Лист пророчески считал, что «возрождение искусства есть социальное возрождение». Вот почему так необходимо, чтобы на переднем плане культурной жизни нашей страны доминировали идеи нравственноидеологического порядка, чтобы политики, передовая общественность (прежде всего в лице интеллигенции), средства массовой информации и, конечно же, все сообщество музыкальных продюсеров стали строго выполнять свою истинную миссию – воспитывать слушателя (зрителя), особенно молодое поколение. Беляева Е.В. кандидат философских наук, доцент Минск Элитарная мораль в массовом обществе Пафос «проекта Просвещения» был направлен на демократизацию общественных отношений, на провозглашение и обоснование нравственного равенства людей как свободных и самоценных личностей. Исходя из возвышенных представлений о сущности человека, идеологии той эпохи предполагали, что в обществе, основанном на разуме, все люди поднимутся до общечеловеческого идеала, идеалом же представлялась мораль образованного сословия. Предполагалось, что разделение на господ и холопов исчезнет, ибо все станут «господа». Однако со временем у идеи равенства обнаружились и иные нравственные следствия: общее понижение морального стандарта до уровня «среднестатистического человека», господство утилитарных и прагматических мотивов поведения, деиндивидуализация и омассовление нравственных отношений. Это противоречие и зафиксировала философия конца XIX – начала XX века. Ф.Ницше, творчество которого знаменует границу между классической и неклассической этикой, одним из первых ощутил переход морали в новое качество. Предпосылки такового положения вещей Ницше узрел в самих основаниях европейской культуры, которая из двух начал – аполлоновского и дионисийского – гипертрофировала первое в ущерб второму, мораль стала формой социально-культурной репрессии против индивидуальности. В результате мораль большинства культивирует приспособленчество и серость, возводя их в добродетель. Современная мораль, как христианская, так и буржуазная, представлялась Ницше «моралью рабов» не только потому, что она 38 Материалы международной конференции усредняла уровень нравственности, но и потому, что была построена не на духовных, а на утилитарных основаниях. Существо, реагирующее на «кнут и пряник» по принципу «стимул-реакция» и называющее это «моралью», не могло в глазах Ницше претендовать на статус человека. То, что Ф.Ницше критиковал христианскую и буржуазную мораль по единым основаниям лишь поначалу кажется нелогичным. Однако именно христианство впервые выдвинуло базовые концепты модерна: идею направленно текущего времени, идею равенства всех народов и людей, идею универсализма, создания единого мира. Буржуазное modern society выступало для Ницше закономерным продолжением исходного христианского импульса (не случайно ранние христиане называли себя moderni в отличие от antique). Однако в моральном наследии европейской культуры не до конца стёрлись следы иной нравственной парадигмы, которая и представлялась Ницше достойной настоящего человека. Подлинная мораль, восходящая к воинскому этосу в духе Гомера, коренится не в способе организации социума, а в качествах самой личности, проистекает не из норм, довлеющих над человеком, но из его собственного стремления к идеалу. В отличие от массовой, элитарная мораль у Ницше индивидуализирована и наполнена пафосом трансцендирования социальной действительности. Другим мыслителем, обратившим внимание на особенности зарождающейся «морали масс», стал Макс Шелер, атаковавший её уже с христианских позиций. Острие критики М.Шелера направлено против тех же аспектов буржуазной морали, которые раздражали Ницше, в первую очередь, против идеи равенства. Вопреки намерениям идеологов Просвещения, равенство не столько возвысило пребывающий в ничтожестве народ до полноправных граждан, сколько уравняло всех по самому низкому стандарту. «Люди предстают теперь “равными” в их нравственной ценности и в одарённости нравственными силами – причём таким образом, что в качестве общезначимой меры их “равенства” устанавливается то, что по природе своей является в нравственном отношении самым низким»[1]. Результатом стала профанизация и профанация морали. На смену индивидуальному акту любви и милосердия, идущему от человека к человеку, приходят безликие учреждения, занимающиеся благотворительностью, коллектив, человечество, а не ближний, становится основным участником нравственных отношений. Заявленный буржуазной культурой индивидуализм оказался фиктивной идеей, под покровом которой установилась массовая мораль, предназначенная «для чувств и рассудка последнего из бестолковых»[2]. На этом фоне именно христианская мораль у М.Шелера интерпретируется как в высшей степени индивидуальная, так как раскаяние и спасение души возможны только благодаря личностному усилию. Как христианский мыслитель, М.Шелер укореняет мораль в трансцендентном источнике, в результате чего современные ему социальные процессы утрачивают нравственное наполнение. В них господствует позитивистский гуманизм, поощряющий не духовное, но физическое 38 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 39 начало в человеке, стремление к полезному в ущерб перспективной ценности жизни. Христианская мораль в этих условиях оказывается элитарной моралью личностей, способных к трансцендированию наличного социального бытия и воссоединению с вечными ценностями. Третьим мыслителем, описавшим ситуацию в начале ХХ века как «восстание масс» в морали, был Х.Ортега-и-Гассет. Он ясно отдавал себе отчёт, что данное «восстание» стало следствием отказа от традиционного способа организации общества, направляемого духовной элитой. Теперь же масса «средних» по своим качествам людей стала претендовать на то, чтобы определять критерии моральности. Главное достижение эпохи modernity в области общественной жизни – либерализм, обеспечивающий «суверенитет любого индивида» – обернулось парадоксальными следствиями. Идеологи Просвещения обосновали суверенитет личности как активного, рационального, индивидуализированного субъекта. Соответственно и в морали предполагалось, что личность формирует собственные убеждения, придаёт им устойчивость за счёт рациональной аргументации, а затем вступает в нравственное взаимодействие с другими автономными субъектами. Однако на деле это привело к господству профанного дискурса, распространению шаблонных суждений «массы», когда всякому обывателю позволительно (и даже обязательно) иметь своё «мнение» по любому вопросу. Суждения такого рода движимы не страстью к истине, а страстью к самовыражению. Ортега-и-Гассет не случайно характеризует «человека массы» как подростка, недоросля, мальчишку, дорвавшегося до вседозволенности. Свобода мышления обернулась пустотой мысли. В информационном обществе эта особенность «морали масс» ещё более усугубилась: не нравственно авторитетные личности, а обыватели, возведённые электронными СМИ в ранг «звезд», распространяют свои примитивные нравственные суждения как эталонные, привлекая аудиторию себе подобных. Оборотной стороной одного из важнейших завоеваний либеральной демократии – концепции прав человека – оказалась претензия всякого ничтожества на права, полагающиеся настоящему человеку. Нарушение связи между правами и обязанностями личности привело к деструкции морали. Мораль, как справедливо полагали Ницше, Шелер и Ортега, не создаётся избранными, лучшими людьми, но создаётся как система обязанностей. «“Избранный” – вовсе не “важный”, т.е. тот, кто считает себя выше остальных, а человек, который к себе самому требовательней, чем к другим»[3]. Демократическое общество, отказавшееся от избранности во имя равенства, породило людей массы, которые «решительно отвергают обязанности и чувствуют себя, без всяких к тому оправданий, обладателями неограниченных прав»[4]. Кроме того, если частные права и привилегии традиционного общества обеспечивались усилиями обладателя этих привилегий, то «права человека и гражданина» достаются человеку безо всяких усилий с его сторо- 40 Материалы международной конференции ны. Механизм защиты прав человека, задуманный ради возвышения человеческой личности, на деле привёл к снижению общего личностного и духовного уровня. «Равенство прав – благородная идея демократии – выродилась на практике в удовлетворение аппетитов и подсознательных вожделений»[5]. Мало того, потребительское благополучие порождает «безудержный рост жизненных вожделений, а тем самым личности, и принципиальную неблагодарность ко всему, что позволило так хорошо жить»[6]. Для Х.Ортеги-и-Гассета мораль modernity предстаёт как безусловное падение нравов. Отсутствие идеального, метафизического пласта жизни, сведение последней к приумножению удобств, переносит мораль в план профанного, а само профанное делает куда более примитивным по способу организации. Прогрессивная борьба за автономизацию морали от господства религиозного авторитета обернулась таким изменением её параметров, которое многими авторами расценивается как разрушение всякой морали. «Человек массы просто обходится без морали, ибо всякая мораль в основе своей – чувство подчинённости чему-то, сознание служения и долга»[7]. Распространение же идеи равенства на сферу духовной жизни привело к тому, что человек «никого не признаёт старшим или высшим»[8]. Таким образом, исчезает главный пафос морали: двигаться от сущего к должному, от собственного несовершенства к идеальному образцу. Дальнейшее превращение индустриального общества в потребительское только подтвердило наблюдения испанского философа: общество «всеобщего потребления» обеспечивает такой уровень комфорта и общественного порядка, такое отсутствие проблем для рядового обывателя, что моральное напряжение духа становится неактуальным. Самодовольство – отличительная черта современного индивида, который уже не боится ни загробного воздаяния, ни власти других метанарраций и подгоняет нравственные требования под собственные представления о комфортном существовании. Самодовольная уверенность в устойчивости своего положения проявляется и желании «поиграть» ценностями культуры, «пококетничать» взглядами. «Всё, что делает человек массы, он делает не совсем всерьёз, “шутя”. Всё, что он делает, он делает неискренне, “не навсегда”, как балованный сынок»[9]. Если бы Х.Ортега-и-Гассет познакомился с постмодернизмом и его излюбленным концептом «как бы», то расценил бы всякую «деконструкцию», «ризому ценностей», «смерть субъекта», как безответственное занятие людей массы, воображающих себя философами. Ведь никакой профессионализм, социальный статус или образование не препятствует появлению у индивида качеств «человека массы». «Непризнание авторитетов, отказ подчиняться, кому бы то ни было – типичные черты человека массы – достигают апогея именно у этих довольно квалифицированных людей»[10]. Поэтому граница между классической элитарной моралью и моралью масс не совпадает с границей социальных групп и элит. В современном мире именно интеллектуалы, вовлекаясь в игру с массовым сознанием, манипулируя им в 40 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 41 политтехнологиях и идеологиях, потакая ему в искусстве, сами всё более становятся заложниками морали масс. Элитарная же мораль, основанная на требовательности к себе, оказывается уделом «старой интеллигенции», влачащей маргинальное существование. Ещё одним признаком «омассовления» морали стал для Х.Ортеги-иГассета распространившийся из естествознания инструментальный подход к решению моральных задач. Это означает господство технологий поведения над обоснованием и мотивацией морального деяния. Modern society выработало механизмы и институты, с помощью которых добро, справедливость и прочие абстрактные моральные ценности воплотились к конкретные социальные действия, система благотворительных фондов, фондов поддержки, социальных программ и проч., поставила систему взаимопомощи в обществе на новую основу. Из спонтанного акта личного милосердия или меценатства она превратилась в технологию спонсорства. Всё это для Ортеги-и-Гассета является свидетельством отсутствия у современной цивилизации собственно морального пафоса, заменившего его социальными удобствами. Экономическое процветание придало беспечность современному обывателю, который пользуется благами цивилизации, считая их естественными и не требующими поддержания с его стороны. Ортега предупреждал, что массовое общество, являясь порождением цивилизации modernity, «проедает» её наследие. «Если вы хотите пользоваться благами цивилизации, но не позаботитесь о ней, вы жестоко ошибётесь, мигом окажетесь без всякой цивилизации»[11]. Постмодерное общество ведь тоже «проедает» классическое наследие, паразитируя на его достижениях, следствием чего вполне может стать новая архаика, мир без морали, мир «после добродетели». Мыслители начала ХХ века были озабочены выявлением «морали масс», элитарная же мораль представлялась ими самоочевидной, традиционной, классической, образцы которой всегда относились к прошлому. Она индивидуальна, внесоциальна, внеутилитарна, трансцендентна. Только такая ценностно-нормативная система получала право называться моралью, все другие версии расценивались на этом фоне как «аморальность». За прошедшие сто лет ситуация только усугубилась: снижение долженствования, господство утилитарных мотивов, нарастающая стандартизация поведения, симуляция нравственных переживаний, которые не испытываются, но позиционируются в информационном пространстве, стали отличительными чертами общественного сознания постмодерна. Критика их осуществляется чаще всего со стороны нравственного фундаментализма, «элитарность» которого заключается, в основном, в завышенной самооценке, в претензии на то, чтобы быть хранителем «истинной нравственности». Однако в плюралистическом мультикультурном мире невозможно настаивать на «священности» нравственных ценностей, на безусловной необходимости их принять. Мир никогда не следовал утопическим морализаторским проектам. 42 Материалы международной конференции В индивидуализированном обществе современности действительная нравственная элита – это не социальная группа, это абсолютно личностный проект. Нравственной элитой оказывается тот, кто не идентифицирует себя ни с какими социальными структурами, абсолютно самодостаточная личность, чья нравственность не просто не зависит от «мнения большинства», от транслируемых социумом ценностей, не является «массовой моралью наоборот», но предполагает индивидуальное духовное трансцендирование. Задача нравственной элиты – воспроизводство специфически нравственного образа жизни в лакунах своей индивидуальной экзистенции. Мозаичность социального мира как раз позволяет создать самостоятельное нравственное пространство и вовлечь в него окружающих, хранить специфические моральные нормы и выстраивать соответствующие отношения между людьми. Ведь никто не знает, что станет аттрактором в очередной точке бифуркации нравственного развития. Возможно также, что переход к ценностям посматериализма будет означать повышение значимости моральных ценностей. Другое дело, что элитарно ориентированный интеллектуал сегодня не может просто реставрировать нравственные нормы прошлого, настаивая на их «вечности», элита должна искать новый тип морали будущего, идеи которой уже носятся в воздухе[12]. Примечания 1. Шелер М. Рессентимент в структуре моралей. СПб., 1999. С.152. 2. Там же. С.166. 3. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 4, С.121. 4. Там же. С.154. 5. Там же. № 3. С.125. 6. Там же. С.138. 7. Там же. № 4. С.154. 8. Там же. № 3. С.138. 9. Там же. № 4. С.117. 10. Там же. С.121. 11. Там же. № 3. С.150. 12. Канке В.А. Этика ответственности. Теория морали будущего. М., 2003; Хёсле В. Философия и экология. М., 1993; Эпштейн М. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. М., 2004. 42 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 43 Борисов С.В. кандидат культурологии, доцент Челябинск Дискурсивный потенциал наивного философствования: «символический обмен» С точки зрения феноменологии повседневная практическая жизнь наивна, и происходящее в ней опытное познание, мышление, оценивание и действие погружено в заранее данный мир. Отсюда логическое следствие: если «первоначало» должно быть «очевидным» (не столь существенно, будет ли эта очевидность чувственной или интеллектуальной), то в онтологии оно неизбежно связано с наивно чувствующим или мыслящим субъектом. Человек всегда остается в обыденном и повседневном даже тогда, когда речь идет о первоначальном и конечном. И когда он собирается расширить, изменить, вновь освоить и закрепить сферу обнаружения сущего, он руководствуется при этом наивными указаниями, которые определяются кругом повседневных намерений и потребностей. Если индивид руководствуется наивной познавательной установкой, значит природный, культурный и социальный миры не даны ему во всей полноте, чтобы он мог найти в них свой путь, овладеть ими с помощью действия и мысли. В таком случае он постоянно испытывает необходимость определить свою ситуацию. Наивное философствование в таком случае можно считать одной из актуальных «естественных» форм «ответа» на постоянные «вызовы» бытия. Из риска и неопределенности как существенных элементов жизни вытекает представление о наивном философствовании как спонтанном познавательном процессе, обладающем большим потенциалом дискурсивности. Если любая конкретноисторическая форма дискурса, детерминированная со стороны введенных данной культурной традицией правил осуществления дискурсивных операций, ограничена в своих возможностях, то вне налагаемой культурной традицией ограничений креативность дискурсивности практически не знает границ[1]. Наивное философствование и философствование вообще как формы познавательной деятельности находятся в отношении качественного различия и единства. Их различие состоит в том, что наивное философствование является спонтанным процессом интеллектуальной деятельности, основанном на обыденно-практическом знании, уходящем своими корнями в мифическое сознание, а философствование вообще есть упорядоченный процесс, основанный на определенном целостно-системном знании, концептуальнообобщенных идеях, т.е. том, что и принято называть философствованием в его «школьном» значении. Их единство состоит в том, что данные формы познавательной деятельности имеют общие основания и способы осуществления. 44 Материалы международной конференции Наивность, в нашем понимании, – это естественность (в противовес искусственности), непосредственность, «детскость». Согласно И.Канту, наивность – это восстание первоначально естественной искренности человечества против ставшего второй природой искусства притворяться[2]. Ф.И.Гиренок определяет наивность как «тело дословности», в котором нет места опосредованию[3]. В этом плане наивность можно понимать как критику чистого разума, который большей частью симулятивен. Симуляция есть умение знать, при этом не думая, не заботясь о добывании знания с помощью мобилизации собственных познавательных ресурсов, имеющихся в наличии. Наивность можно рассматривать как базовую установку познания. В этом качестве она предполагает цельное, дорефлексивное «схватывание» мира в повседневной жизни. Познание здесь скорее оказывается еще не «процессом внутри» индивида, а предшествующим всякой рефлексии способом его действия в мире. В силу принципиальной открытости спонтанным изменениям, такое познание непредсказуемо и не может быть адекватно формализовано, а также не может быть опосредовано каким-либо «уже имеющимся» знанием о мире. Однако само познание такого типа возможно благодаря укорененности постигающего человека в бытии. Таков, например, «феномен Деда Мороза» (Ж.Бодрийяр): дети ведь не очень-то задаются вопросом, существует ли он на самом деле, и не устанавливают причинно-следственную связь между его существованием и получаемыми ими подарками; вера в Деда Мороза – это рационализирующая выдумка, позволяющая ребенку во втором детстве сохранить волшебную связь с родительскими (а именно материнскими) дарами, которая была у него в первом детстве. Эта волшебная связь, фактически уже оставшаяся в прошлом, интериоризируется в веровании, которое служит ее идеальным продолжением. В таком вымысле нет ничего надуманного, он основан на обоюдном интересе обеих сторон поддерживать подобные отношения. Дед Мороз здесь не важен, и ребенок верит в него именно потому, что по сути он не важен. Через посредство этой фигуры, этой выдумки, этого алиби, – в которое он будет верить даже тогда, когда верить перестанет, – он усваивает игру в чудесную родительскую заботу и старания родителей способствовать Сказке. Подарки Деда Мороза лишь скрепляют собой это соглашение[4]. Рассмотрим действие этого феномена на примере дискурсивной «ассимиляции» наивным философствованием проблемы смертности. Как известно, у первобытных народов нет биологического понятия о смерти. Вернее, биологические факты как таковые (смерть, рождение, болезнь), которые мы считаем закономерным и объективным, просто не имеют для них смысла. Согласно Ж.Бодрийяру, для них это абсолютный хаос, потому что не может символически обмениваться, а все, что не может символически обмениваться, составляет смертельную угрозу для группы. «Вокруг души и тела, подстерегая и живых и мертвых, бродят непримиренные, неискупленные, враждебно- 44 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 45 колдовские силы, энергии умерших и энергии космоса, которые группа не сумела обуздать в ходе обмена»[5]. Современный человек десоциализировал смерть, отнес ее к сфере биоантропологических законов, приписал ей иммунитет науки, автономию индивидуальной судьбы. Первобытные же люди не останавливались на физической материальности смерти, не «натурализировали» смерть, они знали, что смерть (как и тело, как и любое природное событие) является социальным отношением, что она определяется в социальном плане. У современного человека все виды представлений о смерти сходятся в иллюзорном представлении о биологической материальности смерти: этот дискурс «реальности», по Бодрийяру, фактически является дискурсом воображаемого, первобытные же люди преодолевают его благодаря участию в деле символического обмена. Центральным моментом символической операции является инициация. Она нацелена не на обуздание или «преодоление» смерти, а на ее социальное артикулирование например, молодых людей, проходящих инициацию, «пожирают предки», и они «символически» умирают, чтобы затем возродиться. Это следует понимать в том смысле, что их смерть становится предметом взаимного/антагонистического обмена между предками и живущими и образует не разрыв, а социальное отношение между партнерами – обмен встречными дарами, не менее интенсивный, чем при обмене ценными вещами или женщинами; в этой непрестанной игре ответных реакций смерть уже не может утвердиться как некая цель или инстанция. Инициация очевидным образом заключается в том, что на месте голого факта устанавливается обмен: происходит переход от природной, случайной и необратимой смерти к смерти даримой и получаемой, а значит и обратимой, «растворимой» в ходе социального обмена. Одновременно исчезает и оппозиция рождения и смерти: они также могут обмениваться под знаком символической обратимости. Непосвященный ребенок родился лишь биологически, у него еще есть только «реальные» отец и мать; чтобы стать социальным существом, ему нужно пройти через символическое событие инициатического рождения/смерти, обойти кругом всю жизнь и смерть и вступить в символическую реальность обмена. Следует отметить, что рождение как событие индивидуальное и необратимое столь же травматично, как и смерть. С точки зрения психоанализа рождение и есть особого рода смерть. Да и христианство своим обрядом крещения – коллективным священнодействием, социальным актом – всегда стремилось именно поставить предел этому смертельному событию рождения. Возникновение жизни – это своего рода преступление, если только его не перенять и не искупить коллективным симулякром смерти. Инициация как раз и отменяет это преступление, разрешая отдельное событие рождения и смерти в едином социальном акте обмена. 46 Материалы международной конференции Таким образом, символическое – это не понятие, не инстанция, не категория и не «структура», но акт обмена и социальное отношение, кладущее конец реальному, разрешающее в себе реальное, а заодно и оппозицию реального и воображаемого. Акт инициации противоположен нашему принципу реальности. Он показывает, что реальность рождения возникает лишь в результате разделения рождения и смерти. Что и сама реальность жизни тоже возникает лишь в результате разобщения жизни и смерти. Таким образом, эффект реальности в обоих случаях – это лишь структурный эффект разобщения двух элементов. Символическое как раз и ликвидирует этот код дизъюнкции и разделенность элементов. По словам Бодрийяра, «это утопия, ликвидирующая раздельные топики души и тела, человека и природы, реального и не-реального, рождения и смерти. При символической операции оба элемента оппозиции теряют свой принцип реальности»[6]. Так, в плане символического нет различия между живыми и мертвыми. У мертвых – просто иной статус, поэтому здесь требуются некоторые ритуальные меры предосторожности. Однако зримое и незримое взаимно не исключают друг друга, это два возможных состояния личности. Поэтому смерть – это особый аспект жизни. В нашей же современной системе за «реальность» этой жизни, за ее переживание как позитивной ценности мы расплачиваемся постоянным фантазмом смерти. Для нас, определенных при этом как живые, смерть и является нашим воображаемым. А архетипом всех дизъюнкций, на которых зиждутся различные структуры реального, является фундаментальная дизъюнкция жизни и смерти. Поэтому и в любой сфере «реальности» каждый из разделенных элементов, воображаемое которого образует другой элемент, одержим этим вторым элементом как своей смертью. Мы считаем, что «символический обмен» можно рассматривать в качестве характерной особенности наивного философствования, как специфической формы познавательной деятельности. Например, ребенок, как и первобытный человек, сталкивается со страхом перед «ничто» (осознанием смертности) в силу складывающихся отношений, которые проявляют к нему окружающие. В случае господства репродуктивных (симулятивных) отношений воспроизведение их порождает все нарастающую скуку и уныние, теряется чувство жизни перед лицом «ничто», ощущение смертности входит в жизненный мир ребенка и переживается как «пограничная ситуация». Решимость наивного философствования совершить «рефлексивный выход» из «пограничья» возвращает утраченное чувство жизни. Это естественное освоение границ своего Я, встреча с дискретностью в самом полном ее выражении. Ничто обнаруживается через переживание страха смерти. Осознание смерти поражает ребенка потенциальной открытостью вопроса. Наивное философствование является ответом на этот вопрос, сначала происходит мифическое «изгнание» смерти из символического пространства жизненного мира ребенка. Затем тема смерти получает этическое преломление, когда смерть отождествляется с чем-то «плохим». Когда же дети становятся стар- 46 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 47 ше, «эгоцентрическая» забота о личном бессмертии и о бессмертии ближайших родственников начинает сменяться у них мечтой о бессмертии всего человечества. Следует признать, что наивное философствование проявляет себя как некая акция, событие, перформанс, провокация. Поэтому оно может рассматриваться в качестве альтернативной формы познавательной деятельности, своеобразного протеста. С одной стороны, наивное философствование «разыгрывается» на «поверхности» жизни, в мире обыденности, повседневности, но, с другой стороны, гротеск, эмоциональность, «анекдотизм», языковые и смысловые игры приводят к глубокому осознанию актуальности экзистенциальных и критических моментов философствования, актуальности диалога, подлинной коммуникации, актуальности личностного компонента в родовой целостности мифа. Наивное философствование играет во многом терапевтическую, а не гносеологическая роль, отсеивая то, о чем что-то может быть сказано, от того, о чем сказать невозможно. Оно не занимается установлением истин, а является проясняющей терапевтической деятельностью по очищению языка от систематически вводящих в заблуждение высказываний или включению их в «символический обмен». Именно поэтому дискурсивный потенциал наивного философствования направлен против сложившихся форм и стандартов познавательной деятельности. Примечания 1. См. об этом: Можейко М.А. Дискурсивность // Новейший философский словарь. Мн., 2003. С.330. 2. См. об этом: Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Сочинения: В 8 т. М., 1994. Т. 7. С.148-149. 3. Гиренок Ф.И. Археография наивности // Философия наивности. М., 2001. С.23. 4. См. об этом: Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. С.139. 5. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 243. 6. Там же. С.244. Буйдина И.Ф. кандидат философских наук, доцент Москва Имидж в магическом круге игры Рассмотрение культуры и ее форм под знаком игры имеет давнюю традицию. В «Homo Ludens» Й.Хёйзинга гротесково, но точно и остроумно противопоставляет старинному высказыванию «Все суета сует» более позитивно звучащее – «Все есть игра». Он приводит чудесный образ из Книги притчей 48 Материалы международной конференции Соломоновых. Там Вечная Мудрость, начало справедливости и господства, говорит, что она до сотворения мира играла перед Богом для его увеселения и, играя в земном его царстве, она веселится вместе со смертными[1]. Й.Хёйзинга в «Homo Ludens» обосновал концепцию культуры, развивающейся в игре и как игра. Игра у Хёйзинги - это культурно-историческая универсалия, более древняя, чем сама культура. Из игры выросли все формы культуры: куль, поэзия и танец, мудрость и знание, спорт и право. Игра творит порядок, в несовершенный и сумбурный мир она вносит временное совершенство: красоту, душевное равновесие, благородство, коммуникативность, радость. При этом игра должна быть благородной, честной игрой: вестись по правилам, ее мотив должен лежать за рамками биологического или утилитарного интереса. Это творческая деятельность, проявляющаяся как «избыток сил». Лудология по своему духу естественно вписывается в современный культурный контекст. Условность, «переодевание», претворение – явления характеризующие как игру, так и имидж. Хёйзинга в своем исследовании не касается проблем имиджа. (Впервые понятие «имиджа» было использовано в политической рекламе Расселом Ревзом в 1956 году в предвыборной кампании кандидата в президенты США Д.Эйзенхауэра. Книга Хёйзинги вышла в 1938 году). Но голандский ученый отдает дань игровым формам в политике и пропаганде, правда чаще в критическом аспекте, определяя их как игру фальшивую. Культуру же творит честная игра. «Все великолепие Ренессанса, – пишет Хёйзинга, – это веселый и праздничный маскарад, переодевание в наряд фантастического и идеального прошлого»[2]. Он показывает в своем тексте, как Ренессанс пробуждает две игровые системы воплощения мира в образах, носителями которых были рыцари и аристократы. Дискурсивно в тексте прочитываются правила построения образов, имеющих отношение к социальным группам, разнообразные методы и приемы управления впечатлением. Разворачивающиеся в его анализе картины культур, свидетельствуют о моделировании общественных отношений Античности, Средневековья, Возрождения посредствам возвышающей игре. «Имидж – феномен группового или общественного сознания, состоящий в том, что он придает индивидуальному образу значимость, близость и оценку»[3]. Как явление он содержит мощную интенцию к играющему сознанию. Приобрести культуру управления имиджем, – это, значит, научиться играть на инструменте стиля своей эпохи. При всем разнообразии предлагаемых сегодня концепций имиджа, памятуя опыт определения игрового элемента культуры Хёйзинги, будет совершенно органично подчеркнуть игровую составляющую имиджа как формы публичной жизни возникшей в эпоху машинной цивилизации. Наблюдаем ли мы пространство и структуру личного имиджа, имиджа товара или имиджа системы во всех случаях – возникает впечатление пронизанности этих сфер 48 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 49 игровыми качествами. Наиболее непосредственно игровая природа выражена в личном имидже. Личный имидж строится на основе габитуса, манер, желательно хороших, и прочих составляющих внешнего облика. Также важны социально-ролевые характеристики (репутация, амплуа, легенда, миссия), личный стиль[4]. Очевидно, что имидж, как и игра, стремиться в сферу эстетического и не может без нее осуществиться, стать успешным. Построение успешного имиджа – это активный процесс, требующий включения всего личностного потенциала, высокой степени осознания себя. Внешняя форма не может существовать без внутреннего содержания. Начиная корректировать свой образ, человек вступает на путь глубинного преобразования личности. Через форму он обретает экзистенцию. Художественной иллюстрацией этого процесса может послужить рассказ О.Генри «Горящий светильник». Одна из героинь, которую зовут Нэнси, провинциальная девушка приехала в Нью-Йорк, мечтая «выиграть в брачной лотерее». Большой универсальный магазин, куда она устроилась на работу, стал для нее учебным заведение6м. Она впитывала возвышавшую атмосферу художественных безделушек, красивых дорогих материй и ювелирных изделий. Это пребывание в атмосфере высшей утонченности, хороших манер и вкуса помогло Нэнси приобрести светский имидж. Пришел успех: у девушки появились «шикарные» кавалеры, но «мерка, с которой она подходила к жизни, незаметно менялась. Порою знак доллара тускнели перед ее внутренним взором и вместо него возникали слова: «искренность», «честь», а иногда и просто «доброта»[5]. На Нэнси снизошло нечто лучшее, чем богатство – она полюбила и вышла замуж за простого хорошего парня. Материальный успех не может быть мотивом, как в игре, так и в имиждформирующей деятельности. Эта система не работает. В традиционных культурах всегда подчеркивалась идея ложности «лобовых» ходов. Дзэнские учителя утверждали, что стремление к просветлению точно также скрывает от нас истинную природу, как и мирские стремления и привязанности. «Прямое действие,- говорил Х.Ортега-и-Гассет,- это способ жизни толпы»[6]. «Массовый человек», обладающий интеллектуальным герметизмом, может по определению иметь дело в лучшем случае со стереотипом, но не имиджем. Он не обладает способностью и желанием подняться «на цыпочки», совершить нечто, требующее духовных усилий. Обыватель обнаруживает в себе ряд «представлений», но лишен самой способности «представлять», – пишет Ортега. Язык символов и знаков особенно сближают игру и имидж. Специалисты считают, что имидж есть личное послание миру, зашифрованное на языке символов[7]. Символ, как знак посвященных, обязательный в пространстве игры также как и в пространстве имиджа, проявляется в таинственности, их окружающей, дает человеку возможность магического напряжения, дистанцирует, от «навязчивой видимости», погруженности в «заботу». Именно в 50 Материалы международной конференции этой сфере необходимости духовных усилий проходит граница между имиджем и стереотипом. Имидж, как и игра – это сфера возможного, их бытие всегда разворачивается на границе мнимой ситуации и реальности, здесь творится форма, в которой индивидуально- личностный мир человека приобретает социально привлекательные черты. «Игра может служить благу целых групп (обществу), но иным образом, иными средствами, нежели те, что непосредственно направлены на удовлетворение жизненных потребностей»[8]. Эта творческая игра, которой свойственно, по Хёйзинге, «радостное воодушевление». Игра она способна создавать атмосферу взаимопонимания, рождающую волны сочувствия, доверия и любви. «Мир полон атмосфер», – пишет М.Чехов. Он связывает атмосферу с игрой, с активностью воображения. У атмосферы есть позитивная миссия. «Атмосфера обладает свойством объединять, находящиеся в ее сфере сознания»[9]. Развитие цивилизации снизило значение традиционных культур в организации жизни. Ритуалы, обычаи, этикет уже не выполняют своих культурных задач в должной мере. Цивилизация с ее стремлением все механизировать и бюрократизировать, способна стереть человеческую индивидуальность, сделать ее бесформенной и расплывчатой. Установка на имидж развивает внутреннюю деятельность человека. По своей сути имидж творит форму, он и есть форма современной культуры. Имидж как игра, активизируя человека, дает ему основу «…противостоять самой могучей силе из числа правящих миром – инерции будней» [10]. Также функции социальной адаптации, психологической защиты и ряд других могут быть реализованы в развитии теории и практики имиджа Однако ситуация с имиджем неоднозначна. Если мы связываем имиджевую деятельность с «благородной игрой», в которой люди радостно творят образы возможного, познавая себя и других, реализуя, говоря словами Э.Фромма, «фундаментальные устремления человека: жажду трансценденции и единения», имидж становиться культуросозидающей функцией, одним из средств формирования гуманистических отношений и экзистенциального бытия человека. Подход к проблеме слишком «всерьез», к примеру, определение имиджа как программирования поведения людей, постановка перед субъектом имиджа задач психодиагностики имиджевой аудитории, разработка технологии step by step[11] и подобные подходы не несут позитивной идеи, напротив ставят имидж и имджмейкерство в ряд деструктивных явлений цивилизации: таких как отчуждение, манипулирование, «восстание масс» (человек толпы, увлеченный идеей равенства, легко принимает на веру, что выстраивание поведения при помощи разного рода технологий способно подарить ему успех без особенной внутренней работы). Имидж как игра также содержит в себе нравственную дихотомию. Сама по себе тонкость грани между притворством и преображением в игре при- 50 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 51 вносит в трактовку имиджа некоторую двусмысленность. Подобного рода двусмысленность, по мнению Й.Хёйзинги должна признаваться за культурными переживаниями несакрального характера. Двойственность связана еще и с тем, что само понятие «игры» в истории культуры развивается в разных, а иногда и противоположных дискурсах. Древняя метафора «жизнь – игра» представляет жизнь как явление ложное, в которой действуют куклы вместо людей (Платон). С этим подходом связаны современные социологические и психоаналитические концепции, в которых поведение человека в обществе рассматривается как вынужденная игра, поскольку общественное бытие есть бытие с другими и для других, то есть надевание маски (пристойной или полезной). Естественно, не играя, человек ведет себя только в природе и подвластных ей ситуациях любви, рождения, смерти. Общественное бытие характеризуется конфликтом, приспособлением к тем статусам, совокупность которых составляет пьесу, разыгрываемую социумом. (Дж.Мид, Дж.Морено, Р.Линтон, Э.Гофман, К.-Г.Юнг). Таким образом, развивается старый мотив: «либо умей играть, отложив серьезность, либо сноси боли» (Паллад). Так мы получаем имидж – притворство, в пространстве которого жизнь строиться по принципу обладания, установки на успех любой ценой, отношение к человеку как к средству Иные дискурсы игры дает нам философско-эстетическая традиция, утверждающая игру, прежде всего как свободную, творческую деятельность. И.Кант, Х.Ортега-и-Гассет возвышали игровой принцип в культуре. Ф. Шиллер рассматривал «побуждение к игре» как идеальное состояние человеческой природы. Он писал, что «человек играет тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет»[12]. Миру «играющего человека» доступен имидж-преображение. Но с развитием цивилизации, – как пишет Хёйзинга, – все труднее различаются культурные импульсы игры, все отчетливее лицемерие и притворство. Игра в современной общественной жизни проявляется двояко. С одной стороны игровые формы используются для утаивания общественных или политических намерений. Здесь проявляются не вечные игровые элементы культуры, а псевдоигра, притворство, обман. С другой стороны, можно обнаружить явления, обладающие видимостью игрового качества. Это качество Й.Хёйзинга называет словом «пуелиризм»[13]. Пуелиризм – это наивность и ребячество одновременно. Далее ученый выделяет ряд сомнительных явлений, в которых человек, в качестве члена того или иного организованного коллектива, ведет себя как бы по мерке отроческого или юношеского возраста. К ним относится, например, легко удовлетворяемая, но никогда не насыщаемая потребность в банальных развлечениях, жажда грубых сенсаций, тяга к массовым зрелищам и прочее. Хёйзинга выделяет несколько уровней пуелиризма. Отметим среди них - недостаток чувства юмора, неоправданно бурная реакция на то или иное слово, далеко заходящая подозрительность и не- 52 Материалы международной конференции терпимость к нечленам своей группы, безмерная преувеличенность хвалы или хулы, подверженность всякой иллюзии, если она льстит себялюбию или групповому эгоизму. Многие из этих черт можно встретить в ранние культурные эпохи, но тогда они не обладали современной массовостью и жестокостью. Исследователь связывает данное явление с вступлением полуграмотной массы в духовное общение, с девальвацией моральных ценностей и слишком большой «проводимостью», которую техника и организация придали обществу. «Состояние духа незрелого юнца, не связанное воспитанием, формой и традицией, в каждой области тщится получить перевес и слишком хорошо в этом преуспевает. Целые области формирования общественного мнения управляются темпераментом подрастающих юнцов и мудростью молодежных клубов. Во всех этих явлениях духа добровольно жертвующего своей зрелостью, мы в состоянии только видеть приметы угрожающего разложения»[14]. Утрата культурой вечного игрового импульса, начавшееся в Европе в XVIII веке, а XIX век он называет самым «серьезным», по мнению Хёйзинги, разрушает культуру. Имидж не может работать как универсальная форма культуры. Это сфера деятельности избранного меньшинства. «Избранные, – как писал Ортега, – не те, кто кичливо ставит себя выше, но те, кто требует от себя больше, даже если требование к себе непосильно»[15]. Это - те, кто жаждет идеи, домогается истины и принимает те правила игры, которых она требует. Человек «элиты» - это аристократ духа, в основе его жизни – самодисциплина. Понимание, что жить - это вечно быть осужденным на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире, решать без устали, без передышки делает его духовно активным. Жить в магическом круге игры, развивая и преображая свою личность, творя значимый образ и стиль, это – деятельность, доступная немногим. Культурные импульсы имиджа трудно различимы в жизни толпы или масс. «Масса, – пишет Ортега, – всякий и каждый, кто ни в добре, ни во зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как и все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью»[16], это те, кто плывёт по течению и лишён ориентиров, кто не созидает, даже если возможность и силы его огромны. Человек массы считает себя духовно завершённым, он самодоволен и стремится навязать миру свой банальный образ, занять место, исторически принадлежащее элите. Рыночная система с развитой сетью имиджуправляющих технологий, работая на поток, неминуемо оказывается в круге фальшивой игры, рождая в культуре образы притворства и лицемерия. Примечания 1. Хёйзинга.Й. Homo Ludens. М.,1992. С.240. 2. Там же. С.204. 52 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 53 3. Петрова Е.А. Развитие психологии имиджа в диссертационных работах членов молодежной секции Академии имиджелогии с 2002 по 2006 г. // Имиджелогия 2007. М., 2007. С.31. 4. Панфилова А.П. Имидж делового человека. СПб., 2007. С.23-26. 5. Генри О. Горящий светильник. М., 1993. 6. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.,1991. С.325. 7. Панфилова А.П. Имидж делового человека. СПб., 2007. С.23-26. 8. Хёйзинга.Й. Homo Ludens. М.,1992. С.62. 9. Чехов М. Путь актёра. М., 2003. С.356-364. 10. Секацкий А. Прикладная метафизика. СПб., 2005. С.14. 11. См. об этом: Фёдоров И. Имидж как программирование поведения людей. Рязань, 1997. 12. Шиллер Ф. Соч., в 7-ми тт. Т.6. М., 1957. С.32. 13. Хёйзинга.Й. Homo Ludens. М.,1992. С.231. 14. Там же. С.231. 15. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.,1991. С.310. Букина Н.В. Чита Культурный код в элитарной и массовой культуре Очень часто в повседневности мы встречаемся со словом «культура». При этом можем говорить о культуре общения, о домах культуры, о культурных людях, о национальных культурах и даже об одноименном телевизионном канале. Вместе с тем, культура – одно из фундаментальных понятий гуманитарных наук. Осмысление этого понятия, новые возможности его применения, сложная структура и неоднозначная трактовка – дают благодатную почву для его исследования культурологам, лингвистам, антропологам, философам и многим другим, чья деятельность так или иначе связана с культурой. Неоднозначная трактовка культуры породила на свет множество теорий, концепций и направлений, связанных с этим уникальным феноменом человеческого бытия. Некоторые культурологи, пытаясь упорядочить это множество толкований культуры, выделяют несколько основных подходов. Так, вслед за А.С.Карминным можем упомянуть аксиологический, антропологический и информационно-семиотические подходы к культуре. Однако первые две трактовки культуры, по мнению исследователей, лишь фиксируют различные проявления и стороны культуры, но не объясняют её сущность. Понять, осмыслить культуру как целостное образование возможно только на уровне теоретического анализа и обобщения фактического материала. Такого 54 Материалы международной конференции рода теорией является информационно-семиотическая концепция культуры, связанная с именами Л. Уайта, Э. Кассирера, Ю. Лотмана, Х. Гадамера, А. Моля, В. Степина и др. исследователей. С информационно-семиотической точки зрения мир культуры предстаёт в трех основных аспектах: как мир артефактов, мир смыслов и мир знаков. Согласно этому подходу, культура понимается как: «…фактор, определяющий специфику человеческого образа жизни в отличие от природного образа жизни животных. Культура возникает благодаря тому, что разум человека дает ему возможность особыми, неизвестными природе способами добывать, накапливать, обрабатывать и использовать информацию. Эти способы связаны с созданием специальных знаковых средств, с помощью которых информация кодируется и транслируется в социуме…Таким образом, человек живет в созданной им самим информационной среде – в мире предметов и явлений, являющихся знаками, в которых закодирована разнообразная информация. Эта среда и есть культура»[1]. В нашей работе информационно-семотический подход к культуре будет основным, т.к. позволяет обратить внимание на механизмы кодификации культурных явлений. При этом, целью данной статьи является выявление культурных кодов в элитарной и массовой культуре. Общепринято, что разделение культуры на элитарную, народную и массовую позволяет упорядочить множество её проявлений. Культурные коды можно выявить в каждой из этих форм, и мы определяем для рассмотрения элитарную и массовую культуры как наиболее распространенные в современной жизни. Можем предположить, что исторически первыми о понятиях, связанных с семиотическими основами культуры говорили структуралисты (напр., К. Леви-Строс, М. Фуко, Ж. Лакан, Ж. Деррида и др.). Структуралисты не вводят понятие культурного кода в научный обиход, однако, они говорят о языках культуры, которые в некотором смысле близки к интересующему нас понятию. «Знаки и символические области формируют, по мнению большинства структуралистов, языки культуры, представляющие собой организацию многообразия представлений об окружении в отдельные социальные целостности, имеющие свои границы, внутреннюю структуру, символические формы выразительности, правила комбинирования соответствующих знаков и символов. Область распространения таких языков находится между людьми и окружением и существует как область зафиксированных значимых для людей позиций в их отношении с окружением. Соответственно, они образуют определённые культурные пространства, отличные друг от друга по характеру обозначаемых и кодом, трансформирующим их в обозначающие»[2]. Среди современных авторов, изучающих культурные коды, можем отметить тенденцию «упрощения» культурных кодов, сведению их к знаковосимвольному значению. Так, например, в работе Т.Б. Щепанской культурные коды проанализированы через отдельные проявления молодежной субкультуры и выступают 54 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 55 в качестве «…поля общепонятной символики, объединяющей различные тусовки и составляющие основу Системы, её культурный код»[3]. Несмотря на то, что Т.Б. Щепанская даёт подробную классификацию культурных кодов, в её концепции четко прослеживается мысль о культурных кодах как наборе символов, значимых для определенной субкультуры. Очевидно, что в рамках нашей темы сведение культурного кода к семиотическому полю недостаточно. Интересную позицию в отношении социокультурных кодов занимает Васильева К.К. Согласно её теории, «культура отдельно взятого общества представляет собой внутренне неразрывно взаимосвязанную, самоценную систему содержательных и аксиологических универсалий. В свою очередь универсальные социокультурные коды, фундаментальные символы продолжают сохраняться в явной и неявной форме, изменяясь сообразно специфике конкретного реального исторического времени»[4]. Как видим, К.К. Васильева говорит не просто о культурных кодах, а связывает их с культурой того или иного общества, доказывает существование неких культурных универсалий (будь то культ плодородия, «…центрированный сексуальным символом»; или русский мат, как социокультурный феномен; или «элементы тотемического зооморфизма» как социокультурный код, сохраняющийся и в наши дни). Однако фундаментальной теорией культурного кода для нашего восприятия послужила трактовка ведущих российских культурологов Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. Соглашаясь с А.С. Карминным в типологии знаков и знаковых систем и рассматривая культуру с точки зрения информационно-семиотического подхода, учёные пошли дальше в своих рассуждениях и выделили первичные и вторичные знаковые системы. При этом, к первичным они отнесли знаковые системы, рассмотренные Карминным. Вторичные же, по мнению авторов многочисленны и разнообразны. Это языки таких форм культуры, как мифология и религия, философия и наука, право и политика, спорт, реклама, телевещание, Интернет и др. «В социальной жизни большую роль играют языки церемониалов и обрядов, представляющие собой комбинации ритуальных действий, предметов, словесных формул, имеющих символическое значение и определяющих форму поведения людей. …Исторически сложившиеся правила этикета, манера одеваться, освящённые обычаями нормы отношений между людьми и т.п. выступают как культурные коды, в которых люди в каждую эпоху выражают и воспринимают смысл «текста», «контекста», «подтекста» происходящих событий»[5]. Рассматривая код с различных позиций, мы приходим к выводу, что культурный код – это правила формирования смыслового уровня культуры, позволяющие прочитывать культурные тексты и идентифицировать саму культуру. Определившись с понятием культурного кода, можем рассмотреть его роль в формировании элитарной и массовой культур. Поскольку целью 56 Материалы международной конференции нашей статьи не является характеристика видов культуры как таковых, то ограничимся лишь краткими определениями, которые мы будем использовать по отношению к массовой и элитарной культурам. Принято считать, что массовая культура – это часть общей культуры, ориентированная на «среднего» потребителя, на большие массы людей и основанная на простой прагматике и несложной языковой семиотике. В противоположность массовой культуре выступает элитарная культура. В данном случае речь идет об особой утонченности и высоком качестве культурной продукции и узком круге потребителей. Несмотря на явные различия двух видов культуры, граница между ними весьма условна, т.к. в обыденной жизни часто встречается синтез этих культур. Рассмотрим коды культуры исходя из её основных проявлений. Для этого обратимся к непременной связи культуры и общества и важнейшей функции культуры – социализации. Освоение человеком культуры начинается ещё в детстве. Более того, именно в детстве начинает формироваться представление об искусственно созданном мире, выраженном в символьно-знаковом виде. Ребёнок учится замещать реальные предметы и явления образными и символическими реалиями. Узнавая в прочитанных сказках реальных существ из жизни (плохих или хороших, добрых и злых и т.д.), ребенок формирует на подсознательном уровне культурный код, с помощью которого он в дальнейшем будет расшифровывать жизненные задачи, определять своё поведение и строить отношения с окружающими. Немаловажное значение здесь приобретает массовая культура, которая во многом влияет на формирование картины мира растущего человека. Книги для детей, игрушки, обучающие программы, лагеря, детские сады и т.д. – закладывают основы базовых ценностей и норм поведения, принятых в данном конкретном обществе. При этом происходит «усреднение» полученных знаний и навыков, их стандартизация. Включаясь в систему образования, человек приобщается к основам научных знаний, ценностных установок и социокультурному опыту прошлых поколений. При этом, массовая образовательная школа стандартизирует знания и представления, используя типовые программы и нормы обучения. В этих условиях у человека формируется «усредненный, базовый» код, с помощью которого человек может прочитывать культурные тексты, не требующие углубленного восприятия. Такого рода коды дают возможность лучше ориентироваться в социуме и усваивать элементы национальной культуры. Элитарная же культура, напротив, ориентирована на узкий круг посвященных людей, создается высокопрофессиональными творцами. Приобщение к элитарной культуре также может начинаться в детстве. Но культурный код в данном случае предполагает углубленное знание предмета или явления культуры, раскрывая в нем новый информационный уровень. Для пояснения приведем пример. Музыка Моцарта, звучащая из сотового телефона – это массовая культура с соответствующим культурным кодом. Однако прослушивание этой музыки в концертном зале в исполнении симфонического ор- 56 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 57 кестра со знанием культурного контекста – массовой культурой назвать нельзя. Кроме того, культурный код будет отличаться и по другим параметрам. Так, Моцарт для австрийского слушателя будет иметь несколько иное значение, чем для россиянина. Композитор прочтет этот культурный текст иначе, чем водитель. В этом и состоит уникальность культурного кода – формируясь на основе синтеза элитарной и массовой культуры, оставаться универсальным для всей культуры в целом и индивидуальным для каждого. Продолжая тему социализации человека, рассмотрим молодежную субкультуру. Здесь границы между массовым и элитарным весьма условны. Так, членство в какой-либо молодежной организации, участие в различных молодежных движениях и проч. дают человеку представление об его избранности, сопричастности чему-то иному, чем повседневная жизнь, сакральному, элитарному. Однако это стремление быть членом группы, отличной от всей остальной массы делается модным для всей молодежи в целом. И здесь включается механизм массовой культуры как подражание этой моде. Культурные коды в данном случае также трудно определимы по своему типу, но они существуют и в большей своей части они искусственно создаются в целях идентификации молодого человека с той или иной культурой. Нельзя сказать, что взрослый человек в какой-то определенный момент перестает усваивать культурные коды, этот процесс, как и социализация продолжается на протяжении всей его жизни. Но база, основа его мировосприятия, его картина мира закладываются в детстве и юношестве. Мы уже говорили о том, что культурные коды формируются при самых различных условиях и под воздействием множества факторов: возрастного, профессионального, национального, географического, климатического и других. Поэтому и рассмотрение культурных кодов в свете элитарной и массовой культуры весьма условно, хотя и представляет особый интерес и дает благодатную почву для дальнейших исследований. Примечания 1. Кармин А.С. Философия культуры в информационном обществе: проблемы и перспективы // Вопросы философии. 2006. № 2. С.53. 2. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. М., 2004. С.174. 3. Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004. С.59. 4. Васильева К.К. Стадиальность социокультурных кодов// Вестн. Моск. Унта. Сер.7. Философия. 2002. № 5. С. 91. 5. Солонин Ю.Н., Каган М.С. Культурология. М., 2007. С.128. Булгаков А.Б. 58 Материалы международной конференции Санкт-Петербург. Внедрение компьютерных технологий в массовую культуру: победа мирового искусства или поражение? Понятие «культура» (от латинского «cultura» — возделывание, воспитание, почитание), которое предлагает нам энциклопедия, является универсумом искусственных объектов (идеальных и материальных предметов; объективированных действий и отношений). Они создаются человечеством в процессе освоения природы и обладают структурными, функциональными и динамическими закономерностями (общими и специальными). Слово «культура» употребляется также для обозначения уровня совершенства того или иного умения, и его внепрагматической ценности. Несмотря на стремление к максимальной устойчивости и длительности, конкретная культура, как показывает история, всегда оказывается временным решением своих задач, и поэтому механизмы смены культурных эпох принадлежат к основным закономерностям культуры. Если статус культуры меняется не в результате внешних обстоятельств (напр., экологическая или политическая катастрофа, подчинение другой культуре), то основным способом обновления оказывается культурная реформа, использующая механизмы преемственности. Поскольку развитая культура не бывает монолитом, в ее рамках всегда существует система оппозиционных вариантов, играющих роль культурных «противовесов». Мир культуры решает две формально противоположные задачи: поддержание статики общества, благодаря сохранению и воспроизведению традиции, и обеспечение его динамики, благодаря творческим инновациям. Для этого культура создает в себе сложные многоуровневые системы, позволяющие снимать противоречия индивидуума и общества, старого и нового, своего и чужого, нормативного и ситуативного. В этом отношении культуру можно определить как информационную сверхсистему, которая обеспечивает обратную связь со средой при сохранении фонда исторической памяти. Это позволяет переходить к новым моделям, опираясь на разные формы культурной оппозиции (на альтернативные, «теневые», подпольные и т. п. контрагенты доминирующей культуры). Если реформы культуры по тем или иным причинам тормозятся, возможен культурный конфликт, иногда перерастающий в культурную революцию. Массовая культура – порождение индустриальной и постиндустриальной эпохи, связанная с формированием массового общества. Истоки массовой культуры иногда видят в античности, ссылаясь на аналоги относительной массовости и доступности популярных игрищ Древней Греции и Рима, или в начале зарождения христианской цивилизации (упрощенные варианты Священного писания типа «Библии для нищих» и т.д.). Большинство исследователей относят зарождение массовой культуры к эпохе становления 58 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 59 буржуазного индустриального общества, основанного на частной собственности, характеризующимся бурным развитием техники, внедрением унифицированных технологий, прежде всего технических средств тиражирования, транслирования материальной и культурной продукции. Одним из средств тиражирования стал интернет. Однако не только техника, которая сама по себе нейтральна, но политические и социокультурные условия составляют ту почву, на которой произрастает феномен, получивший название массовой культуры. Всеобщность массовой культуры придает ее характеристикам абсолютную доминантность, вытесняя и подавляя элитарно-культурный идеал и замещая его идеалами «человек потребляющий» (homo consumens) и «человек играющий» (homo ludens) одновременно. Отношение к ней исследователей разного профиля – культурологов, социологов, философов и пр., неоднозначно. Одних она пугает и отталкивает своей агрессивностью и напором, отсутствием каких-либо моральнонравственных ограничений, других приводит в восторг, третьи проявляют индифферентность. Феномен массовой культуры понимается по-разному. Некоторые исследователи трактуют ее буквально, т.е. как культуру масс, создаваемую массами, тем самым отождествляют с народной культурой. Иногда ее рассматривают как профессиональную культуру, заменившую якобы окончательно ушедшее в прошлое традиционное народное творчество в его историческом варианте. Есть точка зрения, согласно которой массовая культура предстает как всеобщая, переходящая в фазу глобальной культуры (в масштабах планеты), когда профессиональная (классическая), модернистская и прочие культурные ипостаси превращаются в субкультуры. Каждая из них заключена в своем ограниченном социокультурном пространстве и ориентирована на узкую аудиторию. Термин «популярная» (массовая) культура первым ввел Д.Макдоналдс в 1944г., а Т.Адорно использовал его в работе «Диалектика и Просвещение», написанной совместно с М.Хоркхаймером в 1947г. Позднее этот термин вошел в научный оборот, в публицистику. Чаще всего в зарубежной и отечественной культурологии массовую культуру понимают как способ бытия культуры в условиях современного индустриального общества. Вид «культурной индустрии», производящий культурную продукцию каждодневно в больших масштабах, рассчитанную на массовое потребление, подчиненное ему как своей цели. В настоящее время продукция распространяется по каналам с помощью технически совершенных средств массовой информации и коммуникации. Упростились обучение (основной путь получения образования, процесс овладения знаниями, умениями и навыками) и воспитание (целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, ценностей и норм общества). «Массовая культура» все очевиднее выступает как тип функционирования культуры, обладающий глобальностью воздействия. 60 Материалы международной конференции Впервые в крайне упрощенной форме эта установка проявилась в европейской политике США сороковых годов как задача распространения «американского образа жизни». Данный феномен был обусловлен коммерциализацией всех общественных отношений, превращением в товар явлений духовной культуры, а, значит, подчинению законам товарнопромышленного производства. С тех пор в массовую культуру стали вкладываться деньги, как в предприятия, земельные участки в расчете получить прибыль. В настоящее время при помощи компьютерных технологий появилась возможность положительного влияния и привнесения в массовую культуру возможности ознакомления с шедеврами, выставленными в разных музеях мира, то есть реальное перевоплощение элитарной культуры в массовую. Музеи (от греческого «museion» — храм муз) это научно-исследовательские и научно-просветительские учреждения, осуществляющие комплектование, хранение, изучение и популяризацию памятников естественной истории, материальной и духовной культуры. Различаются типы музеев: научнопросветительские, исследовательские, учебные. Многие музеи мира являются проводниками культурной политики, которая представлена системой практических мероприятий, финансируемых, регулируемых и в значительной мере осуществляемых государством (наряду с частными лицами), направленных на сохранение, развитие и приумножение культурного наследия. Предложенное исследование проводилось в Государственном Эрмитаже в 2007 году, одном из крупнейших в мире художественных и культурноисторических музеев, возникшем в 1764 как частное собрание Екатерины II, открывшемся для публики в 1852. В нем собраны богатейшие коллекции памятников первобытной, древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологические и художественные памятники Азии, памятники русской культуры VIII-XIX веков. Целью работы было получение информации о замещении реальной экскурсии по Эрмитажу возможностью просмотра компьютерных выставочных программ гражданами Российской Федерации. В задачи входило: 1. определить и дифференцировать возрастные показатели посетителей музея, пользующихся компьютерными технологиями; 2. установить ведущую тематику просматриваемых слайдов; 3. методом тестирования выявить – могут ли заменить компьютерные технологии непосредственное общение с предметами искусства, в особенности при полной доступности компьютерной технологии и провести корреляционный анализ по возрастным группам. Методика включала в себя: 60 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 61 1. мониторинг посетителей, пользующихся компьютерными технологиями при посещении музея; 2. тестовые опросы; 3. математический анализ полученных данных. В результате обработки полученных данных при наблюдении и опросе 624 жителей России, посетивших Эрмитаж, было выявлено, что 11,53% посетителей полностью игнорируют компьютерные способы общения, предпочитая им реальные экскурсии. Придя в компьютерный зал, они сразу же уходят, несмотря на то, что часть компьютеров свободна. В эту группу посетителей входили школьники и молодёжь в возрасте до 30 лет. 19,23% пользующихся компьютерными программами были дети до 15 лет. Российских граждан в возрастной категории до 30 лет было 26,92%, 38,47% – людей среднего возраста (31-59 лет), 3,84% – людей старшего поколения. Ведущей тематикой просмотра 11,53% посетителей было современное искусство, 88,47% человек интересовало искусство прошлых веков. Методом опроса было выявлено, что 20% школьников и 3,45% взрослых предпочли бы реально посетить экспозиции современного искусства. Остальные (80% и 96,55% соответственно) предпочитали традиционные методы осмотра средневекового оружия, античного искусства, искусства древнего Египта и средних веков, искусства Франции и Голландии. В связи с распространением компьютерных технологий в сферу массовой культуры и искусства и большей доступностью информации для реального знакомства с разными музейными коллекциями и направлениями, современное человечество стало пользоваться компьютерными программами, заменяя ими традиционные посещения залов музея и экскурсии. По моим данным, представленным в исследовании, просматривать компьютерные файлы в Эрмитаже предпочитают молодежь и люди среднего возраста. Школьники и люди старшего поколения, посещая экспозиции, чаще пользуются услугами экскурсовода. По результатам опроса россияне прибегают к новым технологиям в целях получения интересующей их в данный момент информации, что связано с обучением или конкретным интересом. В целях проведения досуга все опрошенные граждане России предпочитают традиционные методы и личное посещение выставочных залов. Можно предположить, что в настоящее время не наблюдается полного замещения реальной культуры виртуальной. Компьютерными технологиями пользуются граждане России всех возрастных категорий. Это стало возможным с интеграцией средств коммуникации. Возможность получать информацию не выходя из дома или не доходя до изучаемого предмета частично облегчила процесс познания, так как, для получения информации, человек уже не должен соприкасаться непосредственно с объектом. И хотя культурные ценности включают в себя вполне осязаемые предметы, а акт познания становится более прочным, если познающий находится в непосредственной близи от произведения искусства, 62 Материалы международной конференции в последнее время заметна тенденция все большего применения удобных в использовании компьютерных программ. Происходит демократизация культуры, связанная, прежде всего, через расширение системы образования и стандартизованные формы доступа, с включением в ее сферу огромных человеческих масс, и это нельзя рассматривать как разрушение культуры. Эмоциональная реакция современной культур-элиты на эти процессы является основным двигателем механизма обличений в адрес «современной массовой культуры», откровенно выражающих страх перед разрушением узкого культурного слоя, считающего себя носителем и хранителем культуры вообще. Но в современном мире, при повышении уровня и качества жизни всего населения земного шара широкое распространение знаний о культуре и ее ценностях является исторической закономерностью. Внедряя современные компьютерные технологии, пользуясь интернетом и образовательными программами, появляется реальная возможность понять и изучить разные направления культуры в целом и музейное искусство в частности. Сегодня происходит культурная реформа и обновление понятия «массовой культуры». Таким образом, внедрение компьютерных технологий в массовую культуру скорее победа мирового искусства, чем поражение. Но об этом можно говорить только сегодня. Прогноз на будущее не однозначен и проблематичен. Бурмистров С.Л. кандидат философских наук Санкт-Петербург Неоведантистская философия культуры: Сурендранатх Дасгупта Философская проблематика, связанная с вопросами онтологии культуры, привлекает мыслителей достаточно давно и стала неотъемлемой частью современной философии, перестав быть маргинальной частью философского знания еще в XIX в. Сущность культуры понимается разными философами по-разному, однако при всех глубочайших различиях в понимании этого вопроса во всех определениях культуры, во всех способах ее рассмотрения – по крайней мере, среди философов, – есть одно общее: вопросы онтологии культуры рассматриваются прежде всего на материале западной культуры. Тем более интересным представляются взгляды на сущность культуры, высказывавшиеся представителями иных, чем западная, цивилизаций. Эти взгляды примечательны прежде всего тем, что опираются не только на иной интеллектуальный материал, но и на иные социальные практики, являются теоретическим осмыслением и концептуализацией тех форм социального взаимодействия, которые существенно отличаются от социальных практик 62 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 63 западной цивилизации. Они, даже будучи изложены в терминах, более привычных европейски образованному читателю, надстроены над совершенно иной житейской, практически-бытовой основой, то есть в них в, казалось бы, западных философских терминах и посредством западных философских представлений осмысляются иные габитусы – в терминологии П.Бурдье, который определял габитусы как «системы устойчивых и переносимых диспозиций, структурированные структуры, предрасположенные функционировать как структурирующие структуры, т.е. как принципы, порождающие и организующие практики и представления, которые могут быть объективно адаптированными к их цели, однако не предполагают осознанную направленность на нее и непременное овладение необходимыми операциями по ее достижению»[1]. Понимание таких габитуальных структур затруднено именно потому, что многие современные восточные философы используют термины, выработанные в западной философской традиции, и тем самым частично маскируют то совершенно своеобразное содержание, которое вкладывают в них, – то содержание, которое обусловлено культурной аффилиацией того или иного восточного мыслителя. Иными словами, в привычные для отечественного читателя концептуальные «одежды» облачены в сочинениях, например, Ауробиндо Гхоша или Мухаммада Икбала такие культурные реалии, которым нет полного и точного соответствия в западной культуре и которые приходится реконструировать частью по собственным текстам того или иного философа, частью же – по историческим и этнографическим данным. В связи с этим примечательно учение о культуре, созданное выдающимся индийским философом и историком индийской философии Сурендранатхом Дасгуптой, автором капитального пятитомного труда «History of Indian Philosophy» и множества других работ. Индийская культура в особенности примечательна тем, что в течение очень долгого времени пребывала, можно сказать, «в средневековье»: по замечанию академика Ф.И.Щербатского, «только в начале XX в. средневековые формы мышления в Индии поколебались настолько, что позволили ей в результате интенсивной работы предшествующего столетия влиться в общемировую жизнь»[2]. Дасгупта же был одним из тех мыслителей, благодаря которым индийская культура получила возможность осмыслить самое себя и свое место в ряду других культур, ибо он сумел пролить свет на сам ход развития индийской философской мысли, показав ее происхождение и продемонстрировав связность и непрерывность ее эволюции со времен Ригведы и до нашего времени. Естественно, что осмысление собственного места Индии в мире и понимание закономерностей ее интеллектуального развития требовали от него и четкого определения того, что такое культура, и глубокого исследования ее природы и основных характерных особенностей. Иначе говоря, та работа, которую проводили и сам Дасгупта, и другие мыслители Индии XX в., была по существу своему направлена на решение (помимо всего прочего) одной существеннейшей 64 Материалы международной конференции философской проблемы – проблемы самоидентификации индийской культуры на фоне всех остальных. Этим были обусловлены многие особенности современной индийской философии культуры. В концепции Дасгупты культура и цивилизация понимаются как два существенно различных, хотя и близких друг к другу феномена: «Под цивилизацией, – пишет он, – мы понимаем все, чего мы достигли во внешнем мире в поисках безопасности и удовлетворения наших потребностей как люди, как члены общества и нации»[3]. Иными словами, под термином «цивилизация» понимаются у него техника, наука, политические структуры, способы структурной организации производства и т.п., то есть все те достижения человеческого интеллекта, которые направлены на удовлетворение «внешних» относительно глубинной природы человека потребностей. Здесь следует заметить, что в неоведантизме, представителем которого был Дасгупта, как и в древней адвайта-веданте, истинным «Я» человека является «Я» божественное и никак не данное в эмпирическом восприятии, радикально отличное от того эмпирического «я», которое люди и считают обычно ядром своей личности. Это высшее «Я» имеет трансцендентальную природу и постигается исключительно интуитивными методами, не предполагающими деления на познающий субъект и объект познания: «Нет в высшем Атмане различия между знающим, знанием и познаваемым», – писал основатель адвайтаведанты Шанкара в трактате «Атмабодха»[4]. Естественно, все то, что не относится напрямую к этому высшему и сокрытому от эмпирического познания силой майи Атману, понимается Дасгуптой как то, что не связано непосредственно с истинной человеческой природой. Иначе говоря, Дасгупта (впрочем, и не только он один, но и многие современные индийские философы) интерпретирует человеческую природу, полагая ее состоящей из двух уровней – истинного (высшего, божественного, не проявляющегося в повседневной жизни, связанного с религиозными практиками) и неистинного (обусловленного майей, мирского, данного в непосредственном восприятии, не требующего специальных религиозных и психотехнических практик для своего познания), и именно с этим последним, детерминированным майей, и связывает он понятие цивилизации. В связи с этим он критикует представление о культуре как только интеллектуальной стороне цивилизации, ибо при такой интерпретации этого понятия в нем теряется самая важная часть его содержания, связанная с нравственными ценностями, которые не просто указывают человеку легчайшие пути достижения поставленных им перед собой целей, но и помогают решить, стоят ли вообще эти цели того, чтобы к ним стремиться. Больше того, отсутствие таких моральных управляющих инстанций, по убеждению Дасгупты, привело к тому, что сама цивилизация стала в конечном счете враждебной тем, кто выработал ее и пользуется ее плодами[5]. Отсюда делается совершенно естественный вывод: во всякой цивилизации должна в качестве необходимого компонента присутствовать моральная инстанция, без 64 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 65 которой цивилизация вырождается в бесчеловечный механизм – бесчеловечный, конечно, не в эмоциональном смысле, а в буквальном, то есть в такую социальную структуру, в которой нет условий для удовлетворения потребностей человека, специфичных именно для него как для Homo sapiens. В ней могут быть все условия и прекрасные возможности для реализации всех витальных инстинктов человека, общих у него с животным миром, для удовлетворения «рангового голода», жажды признания и других подобных естественных стремлений, но не будет того, что, по мнению Дасгупты, и делает человека человеком – возможности соотнести свою жизнь с чем-то бесконечно высшим, чем собственное индивидуальное существование. Переосмысление понятия культуры должно идти, таким образом, в направлении интерпретации его как выражения всех «духовных активов» (spiritual asset) как отдельного человека, так и целого народа[6]. В этом смысле изучение любой культуры (в обыденном, общепринятом смысле слова, когда «культура» является синонимом «цивилизации») бессмысленно, если исследователь не ориентируется на изучение не только материальных или интеллектуальных достижений данной цивилизации, но и на исследование выработанных в ней ценностных представлений. На это ориентирует Дасгупта и исследователей индийской цивилизации, для которой духовный момент является, по его мнению, более важным и значимым, чем для большинства других. Это тем более важно, что каждая культура (в узком понимании этого слова, предложенном Дасгуптой) формирует базис, основу цивилизации, которая выступает как только лишь выражение или воплощение тех скрытых от прямого наблюдения интенций, которые и составляют содержание культуры; в этом смысле сущность культуры можно реконструировать по тем данным, которые предоставляет цивилизация, и даже более того – только таким путем и можно понять, что представляет из себя данная конкретная культура. Понимание же культуры в ее конкретике необходимо, так как каждая культура – а значит, и каждая цивилизация – индивидуальна практически в том же смысле, в котором индивидуальной является отдельная человеческая личность[7], а следовательно, требует к себе такого же отношения – как ценностного, так и сугубо познавательного. Восприятие культуры как индивида делает возможным не только более точное понимание ее природы, но равным образом и создание некоей интернациональной этики, которая пока отсутствует, но потребность в которой становится в современном мире все более и более заметной. Это необходимо прежде всего потому, что такая интернациональная этика поможет, по замыслу Дасгупты, сгладить, а в ряде случаев – и окончательно решить многие проблемы, которые сегодня невозможно решить иначе, как на международном уровне (прежде всего – проблемы войн и эксплуатации одних стран и народов другими). Примечательно в этой концепции прежде всего то, что она на первый взгляд достаточно индивидуалистична – разумеется, не в европейском смысле этого слова. Культуры (а следовательно, и цивилизации), выступающие 66 Материалы международной конференции как отдельные, самостоятельные индивиды, имеют каждая свою особенную природу, обладают набором специфических черт, которые делают их уникальными. Впрочем, индивидуализм здесь – только поверхностный слой концепции, так как именно уникальность и неповторимость культур делает не только возможной, но и необходимой их коммуникацию, ибо при всех различиях между культурами у них есть нечто общее – центрированность на человеке, своеобразный «аксиологический антропоцентризм», при котором высшей и абсолютной ценностью становится не бог, не благо народа, не чтолибо еще, а человек. Примечательно, что в этом смысле Дасгупта оказывается прямым наследником Свами Вивекананды, который, в отличие от своего учителя Рамакришны, полагавшего своим прямым предназначением богопознание, в центр собственной философии помещал не бога, а человека[8]. По этой концепции видно, кроме того, еще и стремление Дасгупты показать, что коммуникация является неотъемлемой частью как человеческой природы, так и сущности культуры. Во всех культурах, при всех их различиях, есть одно общее содержание – стремление одного духа найти воплощение в словах, чтобы выразить себя другому духу и тем самым осознать и реализовать свое изначальное единство с ним[9]. Нельзя не увидеть за этими взглядами одной любопытной особенности современного варианта веданты: в неоведантизме, что видно по учению Дасгупты, человеческая природа признается как активное начало мира, как инстанция, способная изменять мир – прежде всего, конечно, мир социальный, как более доступный преобразованию, чем косная физическая реальность, – и для этого требующая соединения с другими личностями, с другими «я». В этом отношении неоведантизм радикально отличается от традиционной веданты, для которой человек был, несомненно, лично связан с божеством, а связи социального порядка воспринимались как вторичные для дела религиозного спасения. Для неоведантистов же спасение становится возможным только при условии, что отправным пунктом на пути к нему является социальное начало: человек должен двигаться к спасению через любовь к ближнему, а не к одному только богу (что совершенно не характерно для традиционного индуизма, в котором любовь к божеству – bhakti – ценится как средство спасения, а по отношению к ближним своим человек должен выполнять только законы системы «varņāśrama-dharma»[10]). Понятие любви человека к человеку, толкуемой в самом широком смысле, выступает у неоведантистов тем же основанием коммуникации, каким у западных мыслителей является, например, язык, экономический интерес и т.п. Однако неоведантизм, конечно, далеко не порывает с традицией, идущей от Шанкары и других основателей веданты и следует во многом именно тем мыслительным парадигмам, которые были ими установлены, и это видно по тому пониманию альтруизма, которое было характерно для неоведантистов. Известная из Упанишад максима «Tat tvam asi» («ты есть То», т.е. Бог, Брахман) сама по себе не предполагает никакого альтруизма и означает лишь, что 66 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 67 отдельный, индивидуальный человек единоприроден божеству. Отношения отдельных личностей и бога в ранней веданте мыслились, по представлению самого же Дасгупты, следующим образом: существуют Бог и prakŗti (изначальная безличная материя, состоящая из трех гун – sattva, rajas и tamas); Бог отражается в этой материи, и если в ней преобладает первая из трех гун, он предстает как чистое божество, если же в ней доминируют две другие гуны, то Бог предстает в виде множества отдельных и кажущихся совершенно независимыми друг от друга душ[11]. Отсюда естественно следует вывод, что, вредя другому человеку, человек фактически вредит сам себе[12], так как он единоприроден с Богом, а значит – через Бога – и со всеми другими живыми существами, в том числе и с людьми. В связи с этим следует заметить, что концепция культуры, выдвинутая Дасгуптой, в сущности гласит, что уже сама по себе культура как феномен (в принятом им узком понимании термина) является феноменом элитарным, данным только немногим духовно просвещенным людям, цивилизация же – явление массового порядка, которым пользуются и «светочи культуры», и самые простые люди; не бывает массовой культуры – само такое выражение будет contradictio in adjecto, – ибо культура представляет собой ту инстанцию человеческого духа, которая прямо связана с божеством, а значит, по определению апеллирует к тем глубинам человеческого духа, которые в древнеиндийских текстах обозначались термином «Атман», и человек способен породить что-то культурно ценное, только вступая в контакт с божеством, а контакт с божеством, в свою очередь, делает человека способным к созданию культурных ценностей. Примечания 1. Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001. С.102. 2. Вишневская И.А. Буддийская шуньята в современной литературе хинди (30-е гг. XX в.) // Буддизм и литература. М., 2003. С.336. 3. Dasgupta S.N. The Meaning of Culture // Dasgupta S.N. Philosophical Essays. Calcutta, 1941. P.350. 4. Шанкара. Атмабодха / Пер. с санскр. А.Я.Сыркина // Упанишады / Пер. с санскр., исслед., коммент. и Приложение А.Я.Сыркина. М., 2000. С.[773]. 5. Dasgupta S.N. The Meaning of Culture. P.352. 6. Там же. С.355. 7. Там же. С.358. 8. Павлова Т.А. Свами Вивекананда, Миссия Рамакришны и террористы в Индии в начале XX в. (по материалам колониальной полиции) // Восток, 2006, №5. С.39. 9. Dasgupta S.N. The Meaning of Culture. P.371. 10. Мезенцева О.В. Концепция Бога в индийской философии нового и новейшего времени // Универсалии восточных культур. М., 2001. С.134-135. 11. Dasgupta S.N. A History of Indian Philosophy. Vol. 2. Cambridge, 1952. P.72. 68 Материалы международной конференции 12. Мезенцева О.В. Концепция Бога в индийской философии нового и новейшего времени. С.136. Вашко О.А. Минск Знак в архитектуре и способы архитектурной коммуникации в постмодернизме Архитектура как один из видов искусства является формой человеческой коммуникации, а содержание единичного произведения есть художественное сообщение, обладающее определенным смыслом. Сообщение передается рецепиенту с помощью специфических средств, выработанных искусством архитектуры в процессе ее саморазвития и естественного усложнения. Эти средства определяются как язык архитектуры, закрепляют ее содержание, которое выражается с помощью знаков. В обществе возникает потребность в зафиксированных знаковых системах, которые могли бы надежно сохранять длительное время исходное содержание, поэтому семиология как наука о знаковых системах как таковых более всего востребована в архитектуре. Простое рассмотрение отношений с архитектурой убеждает в том, что человек оказывается вовлеченным в акт коммуникации. У. Эко говорит, что архитектура представляет, прежде всего, вид массовой коммуникации, которая является деятельностью, обращенной к разным общественным группам с целью удовлетворения их потребностей и с намерением убедить их жить так, а не иначе, что фактически и выполняет архитектура. У. Эко убежден, что архитектура наделена теми же характеристиками, что и массовая коммуникация: архитектура побуждает организовать свое пространство проживания комфортабельно, воздействует психологически, то есть внушает и навязывает указания архитектора, не требует углубленной сосредоточенности, потребляясь, как массовая культура. Архитектурное сообщение может получать чуждые ему значения, при этом получатель не отдает себе отчета в совершившейся подмене, оно предполагает максимум принуждения и максимум безответственности (можно использовать сооружение в различных целях и вариантах). Архитектура подвержена быстрому старению и меняет свои значения подобно моде и шлягерам, она живет в мире товаров и подвержена всем влияниям рынка (экономическим и технологическим) гораздо больше, чем другой вид художественной деятельности[1]. Архитектура представляет собой что-то большее, чем форма массовой коммуникации, так как она обладает познавательно-творческим потенциалом. Она держит в поле зрения общество, в котором живет, и подвергает его критике, ставя под вопрос его способы проживания и идеологию, выраженную в архитектуре, и таким образом привносит новое. Архитектура соозначивает ту или иную идеологию проживания, и убеждая в чем-то, открывается 68 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 69 интерпретирующему прочтению, расширяющему ее информационные возможности, она является системой знаков, как и любой вид коммуникации. Знак в архитектуре, будучи некоторым материальным объектом, служит для обозначения чего-то другого и предназначен для приобретения, хранения, преобразования и трансляции определенной информации. Можно выделить три типа знаков: индексные (обозначение причинно-следственной связи), иконические (сходство знака с обозначаемым) и символы («условные знаки, получающие свое значение исключительно на основании соглашения, заключенного интерпретаторами»)[2]. Последние являются центральными в функционировании архитектуры, они есть визуально воспринимаемые знаки. Под символом имеется в виду знак целого и цельного мира, встающего за этим миром, а не знак отдельной вещи или явления. В архитектурном знаке есть «означающее, означаемым которого является его собственное функциональное назначение»[3]. Это значит, что в знаке различаются означающее, которое можно наблюдать и описывать, не принимая в расчет приписываемые ему значения, и означаемое, которое видоизменяется в зависимости от того, как воспринимающий прочитывает код означающего. Означающие знаков, будучи истолкованы в свете определенных кодов, могут означать какие-то определенные функции, то есть архитектурный объект может означать определенную функцию или соозначать какую-то идеологию функции. Форма означает функцию только на основе сложившейся системы ожиданий и навыков, на основе кода, так как невозможно сделать функциональной новую форму, если не опираться на реальные процессы кодификации. Всякий код есть проявление определенной идеологии, органичной частью которой он является во времена ее становления и расцвета. Коды оформляют готовые решения, определенные типы сообщений; они не открывают возможности порождения чего-то нового, а только воспроизводят готовые схемы, окостеневшие формы, структуры, информативная способность которых уравновешивается стабильными, привычными системами ожиданий. Коды передают такую коммуникацию, к которой привык тот или иной тип общества. У. Эко дает следующую классификацию архитектурных кодов: синтаксические коды, отсылающие к технике строительства, и семантические коды, артикулирующие архитектурные элементы, которые могут означать первичные и вторичные «символические» функции, «идеологию проживания», социальные и пространственные типы сооружений[4]. Тем не менее, автор приходит к выводу, что архитектура исходит из наличных архитектурных кодов, но в действительности опирается на другие коды, не являющимися собственно архитектурными, отталкиваясь от которых, потребитель понимает смысл архитектурного сообщения. Сначала архитектор кодирует возможные и смутно различаемые традиционной архитектурой функции, а затем приступает к разработке и кодификации форм, которые должны этим функциям соответствовать. Систему отношений, на основе которой можно разра- 70 Материалы международной конференции ботать код архитектурных означающих, он ищет вне архитектуры, так как система функций относится к другим сферам культуры[5]. Исследование архитектуры как коммуникации и знаковой системы в общем смысле, позволяет перейти к рассмотрению архитектурной коммуникации в современной постмодернистской архитектуре, для которой информационно-коммуникативная функция имеет особое значение, является определяющей при детальном анализе конструктивной программы постмодернистской архитектуры. Ч. Дженкс в своей работе анализирует способы передачи архитектурой социальной и культурной информации, акцентирует возможности функционирования архитектуры в качестве мощного средства человеческого общения, проводит аналогию архитектуры и языка и говорит о том, что если оперировать терминами свободно, то можно говорить об архитектурных «словах», «фразах», «синтаксисе» и «семантике»[6]. Особой характеристикой постмодернистской архитектуры является метафоричность, а средством передачи информации от здания к рецепиенту в современном искусстве — метафора. В архитектуре постмодернизма метафора проявляется как сопоставление архитектурного объекта с отличным или подобным ему объектом или явлением. Чем непривычнее современное здание, тем больше его будут метафизически сравнивать с тем, что уже известно, тем больше оно будет иметь метафорических значений. Например, когда в зданиях конца 50-ых годов XX века были впервые использованы бетонные решетки, они ассоциировались с «терками для сыра», «ульями», «цепными изгородями». Типичными отрицательными метафорами, которые использовались публикой и критиками для порицания современной архитектуры, были: «картонная коробка», «коробка для ботинок», «упаковка для яиц», «шкаф для картотеки», «клетчатая бумага». Жилая башня в Токио, спроектированная японским архитектором К. Куракова, напоминает башню, сложенную из кусков сахара, или башню с поставленными друг на друга стиральными машинами, потому что белые кубы имеют в центре окна, как будто бы ячейки для птиц[7]. Границы кодов, обусловленные обучением и культурой, определяют в зависимости от этого различные способы их прочтения. Существуют различные коды, среди которых некоторые могут быть конфликтны для разных типов субкультур. Отсюда и вытекает используемый в постмодернизме и постмодернистской архитектуре принцип двойного кодирования: апелляция одновременно и к массе, и к профессионалам, наличие и рекламной привлекательности для массового потребителя, и особого содержательного контекста для искушенной аудитории. «Постмодернистское здание... «говорит», обращаясь одновременно, по крайней мере, к двум уровням: к архитекторам и к заинтересованному меньшинству, которое волнуют специфические архитектурные значения, и к публике вообще или к местным жителям, которых заботят другие вопросы, связанные с комфортом, традициями в строитель- 70 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 71 стве и образом жизни»[8]. В самом обобщенном смысле можно говорить о существовании двух больших субкультур: для первой из них характерен некий новый код, связанный с обучением и идеологией нового движения, для другой — традиционный код, основанный на повседневном постижении каждым человеком обычных архитектурных элементов. В некоторых зданиях объединяются различные коды, и их можно рассматривать как смесь метафор, в том числе с противоположным смыслом. Например, оперный театр в Сиднее: оболочки здания напоминают и о сферической поверхности (подобно «долькам апельсина»), и о крыле летящей птицы; они ассоциируются также с белыми морскими раковинами или белыми парусами[9]. Интерпретация архитектурных метафор более эластична и более зависима от местных кодов, чем литературная метафора. Различаются коды, основанные на семиотических группах, они определяются не одними только классовыми признаками, но обычно являются сложной смесью влияний этнического окружения, эпохи, истории и местности. Проектировщику следует начинать с исследования семиотической группы и всегда иметь в виду меняющиеся представления о хорошей жизни у тех людей, чьи интересы затронуты, поскольку архитектура, в конечном счете, означает образ жизни — что не вполне понято новым движением в постмодернизме. Таким образом, имеются, во-первых, популярный, традиционный, медленно меняющийся код, подобно разговорному языку, изобилующий клише и имеющий корни в обыденной жизни, и, во-вторых, современный код, полный неологизмов и откликающийся на быстрые изменения в технологии, искусстве и моде, так же как и авангард архитектуры. Каждый код предпочтителен для определенного человека, но вполне вероятно, что оба противоположных кода существуют у одного и того же человека, а архитектор, по роду своей профессии, должен откликаться на быстро меняющиеся коды. В культуре существует непроходимая пропасть между элитарными и популярными кодами, профессиональными и традиционными ценностями, современными и местными языками, поскольку невозможно преодолеть этот разрыв без решительного, тотального маневра, то в постмодернизме желательно, чтобы современные архитекторы признали эту разновидность и кодировали свои постройки на двух уровнях. «Отчасти это будет параллельно «высокому» и «низкому» вариантам классической архитектуры, однако не станет подобно им однородным языкам. Скорее двойное кодирование будет эклектичным с той разновидностью, которой изобилует любой большой город»[10]. Радикальный эклектизм в постмодернизме начинает проектирование, отталкиваясь от вкусов и языков, превалирующих в каком-либо месте, и с помощью многих избыточных реплик насыщает кодами архитектуру таким образом, что она может быть понята и принята различными вкусовыми культурами, как простых жителей, так и элиты. 72 Материалы международной конференции В качестве парадигмы для соединения традиции и современности, для реализации символизации, контекстуальности и двойного кодирования Ч.Дженкс предложил «постмодернистский классицизм» (так концепцию Ч.Дженкса именует П. Козловски). Для официального заказчика эта концепция дает ориентацию на соединение исторической преемственности и современности, но в то же время постмодернистский классицизм не должен быть классическим в буквальном смысле, он должен разработать свой знаковый язык[11]. «Удвоение и даже утроение уровней соотнесенности в постмодернистском классицизме — модерн, постмодерн, классика — создает дистанцию и отчуждение, которые опять таки дают больше свободы. Двойное кодирование, цитата и отчуждение цитаты, подражание оригинальной форме и подражание цитате из оригинала создают дистанцию и ироничность, классицистскую ироничность»[12]. В постмодернистском классицизме должна найти свое выражение многозначность мира. Постмодернистский классицизм не означает возвращение назад от модерна, а является попыткой согласовать друг с другом свободу художественного творчества и потребность в формировании культурного контекста в обществе. Постмодернистский классицизм пытается создать синтез из модернистской свободы экспрессивности и индивидуальности, из стремления к культурно-совместным форме и образу. Он образует эстетический, архитектурный и параллельно им философский синтез субъективной свободы и субстанциональных, жизненных форм. Архитектура как язык более адаптивна и восприимчива, чем язык разговорный, и подчинена изменениям краткоживущих кодов. В то время как здание может простоять триста лет, способ его восприятия и использования людьми может меняться каждые десять лет. Архитектор должен так насытить свое здание кодами, с избытком используя общепринятые знаки и метафоры, чтобы его произведение осуществило задуманную коммуникацию и продолжало жить, невзирая на трансформации быстро изменившихся кодов. Метафора играет главенствующую роль в общественном одобрении или осуждении зданий. Метафоры, которые прочитываются через принятые визуальные коды, различны для различных групп, но они могут быть внятно, если не точно установлены для всех этих групп в обществе. «Чем больше метафор, тем величественнее драма, и чем тоньше они задуманы, тем глубже тайна. Смешанная метафора сильна, но намекающая метафора обладает большей мощью»[13]. В архитектурном языке, так же как и в разговорном, должны использоваться известные смысловые целостности (единства) — клише. Для полноты лингвистической аналогии Ч. Дженкс называет эти единства архитектурными «словами». Архитектурные слова более гибки и полиморфны, чем слова письменного или устного языка, и их специфический смысл в большей степени зависит от наличного физического контекста и кода наблюдателя. Большинство архитектурных слов являются символическим знаками, кото- 72 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 73 рые более убедительны и признаны общественностью, чем индексные и иконические знаки. Можно ожидать, что следующее поколение архитекторов будет смело пользоваться новым смешанным языком. Он будет напоминать не «международный стиль», а включать богатую систему ссылок на прошлое, его широкую метафоричность, его ясно выраженные знаки и вульгарность, его символические знаки и клише — полный набор средств архитектурной выразительности[14]. Следующий аспект архитектуры — общий с языком, более конкретизированный, чем метафоры и слова. Здание должно стоять и быть скомпоновано в соответствии с определенными правилами или методами сочленения элементов. Законы тяготения и геометрия диктуют такие понятия, как верх и низ, крыша и пол, различные этажи между ними — все это представляет синтаксис архитектуры. Сам по себе синтаксис способствует восприятию только тогда, когда он включен в семантические поля. Во-первых, смешанные стили способствуют коммуникации, и архитектор должен овладеть, по крайней мере, тремя или четырьмя, чтобы сегодня сделать любое сложное сооружение «говорящим». Во-вторых, связь каждого отдельного стиля, будь то «международный стиль», или конкретная эстетика домов, построенных самими владельцами, является вопросом истории и условностей, а не какой-то вечной истины[15]. Следовательно, как и в языке, так и в архитектуре семантика имеет весомое значение. Из выше сказанного вытекает проблема множественности языков архитектуры. Постмодернизм нарушил границы эстетик, нормы и запреты. Персональный почерк вырабатывается при отсутствии ограничивающей эстетической доктрины, это значит, что свойства выработанных языков непредсказуемы для архитектуры, в которой следует видеть «одну из наиболее активных практик символизации» смыслов, рождающихся в культуре в недрах профессионального сознания и находящих выражение в архитектурном дискурсе закономерное устаревание традиционных кодов, а шанс выживания архитектуры в современную эпоху предопределен расширением языковой системы[16]. Постмодернизм может быть оценен как первый опыт и как спонтанный прорыв к преумножению разнообразия стилистики, к дифференциации и плюрализации смыслообразов, как опыт, в котором проявились особенности, ставшие впоследствии характерными чертами эпохи. Из выше проведенного анализа можно сделать вывод, что архитектура представляет собой один из способов коммуникации и знаковую систему, выраженную, прежде всего, символами. Архитектурные объекты означают функцию и идеологию функции, которая выражается в определенных кодах. Наиболее выразителен информационно-коммуникативный аспект в архитектуре постмодернизма, где он имеет господствующее значение и получает особое развитие, что выражается в специфических способах архитектурной коммуникации постмодернизма, таких как метафора и двойное кодирование. 74 Материалы международной конференции Применение таких средств связано также с особыми целями современного архитектора удовлетворять интересы и массы, и элитной части общества, соединять традицию и индивидуальную творческую свободу, соблюдать требования контекста. Примечания 1. Эко У. Отсутствующая структура. СПб., 1998. С.236-237 2. Гриненко Г.В. Сакральные тексты и сакральная коммуникация. М., 2000. С.67. 3. Эко У. Отсутствующая структура. СПб., 1998. С.211. 4. Там же. С.232-233. 5. Там же. С.240-243. 6. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985. С.42. 7. Там же. С.43. 8. Там же. С.10. 9. Там же. С.45. 10. Там же. С.136-137. 11. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997. С.187. 12. Там же. С.191. 13. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985. С.52. 14. Там же. С. 54,61. 15. См.: там же. С.76. 16. Добрицына И. Постмодернизм и архитектура // Искусствознание. 2001, №2. С.441. Вильчинская Л.З. кандидат философских наук, доцент Москва К вопросу об особенностях массового сознания в условиях глобализации Многочисленные исследования феномена глобализации касаются экономических, политических процессов, процессов развития сферы новейших технологий, сферы финансовых и других рынков, сферы развития коммуникаций, производственных и информационных связей, высокотехнологических отраслей экономики и т.д. В меньшей степени исследования посвящаются проблемам социальной сферы. Если, глобализацию рассматривать как особую веху в истории, отражающую изменение всей жизни планеты, и как переход к другому типу общества, например, к «обществу риска»[1], то необходимо обратить внимание на те явления социальной жизни, которые очень важны для понимания типичных черт нового общества. 74 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 75 Социальные проблемы выступали как важнейшие до перехода к глобализации как к основной цивилизационной системе. По мнению многих и в будущем должны будут усугубляться, и играть огромную роль процессы, связанные с человеческим фактором. Решение этих кризисных проблем усматривалось в создании на основе глобальных технологических изменений в политике, экономике и т.д. и глобального развития информационных и телекоммуникационных систем условий для достижения культурной идентичности, развития мегакультуры, суперэтноса. Эти особенности рассматривались как положительные стабилизирующие качества будущей глобализации. Но можно ли этого достигнуть и какова основа для их осуществления? Каковы были проблемы социальной сферы? Каковы были изменения в массовом сознании? Перемены в массовом сознании были описаны еще в работах выдающихся мыслителей ХХ века – Тоффлера, Д.Белла[3], Хантингтона, П.Сорокина[4], Зб. Бжезинского и др. среди кризисных сфер техногенной системы главной они считали социальную. Развитие необходимых положительных признаков будущей глобализации рассматривалось ими также в связи с необходимостью преодоления кризисных явлений в социальной сфере и решения важнейших проблем человека. Теперь, в начале третьего тысячелетия, деградация человека техногенной цивилизации, о которой говорили исследователи «больного и иррационального общества», видится многим такой значимой, что человек объявляется не только возможной причиной гибели цивилизации, но и самоубийцей.[4] Новые проблемы, прежде всего, связаны с появлением описанного когдато Г.Маркузе «массового одномерного существа» как не контролируемого самим собой субъекта потребления, ставшего частью «мегамашины». Появился новый человек с новыми качествами. Среди многих исследований человека техногенного общества выделяются работы Э.Фромма. В работах «Анатомия человеческой деструктивности» и «Революция надежды» «Иметь или быть» Э.Фромм характеризует техногенную цивилизацию как общество, которое руководствуется принципом максимального производства и эффективности, принципом роста потребления, вертикальной, зависимости всеобщего контролирования, всестороннего управления с помощью компьютеров и т.д. и имеет черты тоталитарного общества. Личность учитывается в нем только в виде перфокарты, «людиединицы» легко поддаются управлению, частная жизнь исчезает и даже тестирование приводит к координированию поведения. Описывая влияние этих черт на массовое сознание, он подчёркивает, что в результате глубинных изменений психики, все чувства современного человека отражают состояние раздвоенности, страха, отчуждения, подавленности, растерянности, дезориентации. Свои выводы Фромм считал «парадоксальным антропологическим открытием человека с легким шизофреническим уклоном». И действительно, современный «массовый человек» может даже превратиться в робота. Кроме 76 Материалы международной конференции того, для массового сознания характерным становится жизненный принцип «иметь», чувство пессимизма, депрессии, отчаяния, ненависти, жестокости, нарциссизма, агрессивности, чувство полной зависимости, вины одиночества и чувство жадности[5]. Как известно, важнейшая потребность человека – потребность быть уверенным в основных жизненных принципах. Но современный человек уже не имеет многовековой опоры в религии и традиционной нравственности. Можно согласиться с Э.Фроммом, что возникновение новых навязываемых обществом потребностей также приводит к деструктивному поведению, лишает человека чувства уверенности, а действительность заставляет его находиться в постоянной ситуации выбора или решении его отбросить сомнения и чувство риска и полагаться на рациональное мышление, научные, экономические политические и другие авторитеты: на рекламу и на слепую веру в непогрешимость компьютерных решений. В результате человек превращается в неконтролируемый собственным сознанием субъект потребления, так как целенаправленная реклама создает самого потребителя. В человеке происходит изменение от homo technologicus к homo consumens, который существует как «массовое одномерное существо. Личность теряет свое «Я». В такой ситуации дегуманизированное общество толкает человека на единственный путь спасения ценой отказа от свободы – к конформизму. Есть и другие пути, кроме «бегства от свободы», - деструктивное поведение, агрессия и некрофилия. Действительно, в массовом сознании все эти тенденции широко распространены. Теперь, в начале нового века, ясно, что, современное массовое одиночество проявляет все эти качества и воспроизводит навязываемую ей систему ценностей. Развивающаяся информационная глобализация общества массового потребления побуждает все больше людей стремиться к обладанию. Важная психологическая потребность в уверенности усвоения сигналов, идущих от СМИ, от сферы моды (на все, в том числе на потребление культуры, идей в экономике, политике и т.д.), о рекламы и т.д. Социальная ориентация личности зависит от массовой модели потребления, это становится идеологией, целью существования. Многие проблемы связаны со всем этим, в частности, те, что возникают полагаться на непогрешимость компьютерных решений и пр. многие проблемы связаны со всем этим, в частности, те, что возникают из-за массы мигрантов, живущих в развитых странах. Расширяющееся социальное пространство втягивает в среду изменений все больше людей, в том числе и не живущих еще в условиях технологической культуры. Традиционные формы культуры, эталоны поведения, нормы и ценности собственной социальной группы имеют все меньшее регулирующее значение для все больших масс людей, а кардинально меняющийся образ жизни строится на новых ценностях и потребностях. Некоторые исследователи (например, Б.Уилсон[6]), считают, что процесс передачи моральных ценностей от поколения к поколе- 76 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 77 нию, основывавшийся на личном общении, разрушается. «Атомарный человек» превращается в полностью зависимое существо, носителя массовой идеологии, лишенной духовного компонента. Характерный процесс ослабления контактов со своей группой, со своей средой, начавшийся в прошлом – то есть индивидуализация личности – сейчас стала основной беспрецедентной по размаху разносторонней мобильности в различных сферах. Это приводит к тому, что у людей появляется больше возможностей для выбора образцов поведения. Деструктивность и другие черты характера массового человека, проявляющиеся во многом, в частности – и в отказе от традиционных мотивов и эталонов поведения, образа жизни и прочее – глобализация усугубляет. Она способствует усвоению стандартных потребностей, образцов культуры потребления, постоянно меняющихся эталонов поведения и т.д. Конечно, существуют огромные различия в положении разных слоев общества; эти различия увеличиваются и даже, несмотря на высокое развитие постиндустриального общества, постоянно воспроизводится массовое, так называемое «социальное дно», существующее и в культуре. Можно сказать, что продолжается процесс массовой деградации широких слоев общества[7]. Но исследования социологов, например Р.Инглехарта[8] говорят также о том, что в сознании людей распространяется стремление и к так называемым пост материальным ценностям, которые основаны на потребностях, которые основаны на потребностях в самореализации личности в сфере, в частности, общественных проблем, связанных с культурой, экологией и т.д. Эти стремления исключают постоянную гонку в сфере потребления материальных благ. Формирование человека под действием любой культуры имеет относительный характер и специфические человеческие ценности и потребности могут остановить падение человека даже в условиях влияния техногенной действительности. Исходя из своей концепции дихотомического, противоречивого социального характера как основы структуры личности, свойственного большинству людей в данной культуре, Э.Фромм писал, что хотя социальный характер формируется внешней средой, он сожжет быть изменен, т.к. тенденции к некрофилии противостоит тенденция к естественному состоянию человека – биофилии – т.е. любви к жизни. Э.Фромм был уверен в возможности гуманизации технологического общества и духовнопсихологического возрождения человека. В действительности такое движение уже существует и философском, и в политическом, и в религиозном плане в различных странах. Оно активно противостоит дегуманизации и деструктивности, распространенной в массовом сознании. Идеи Э.Фромма близки идеям А.Печчеи и А.Швайцера, концепциям «благоговея перед жизнью» и другим теориям в гуманистической практике. Но его идеи были более практичны. В частности, сейчас уже разработаны многие новые гумманизированные теории управления для всех 78 Материалы международной конференции уровней, созданы различные практические руководства для менеджеров, широко применяющиеся в практике. Исследователи социально-психологических явлений в условиях глобализации подчеркивают, что для нее характерны многие противоречивые тенденции[9]. С одной стороны, все больше усугубляется кризис личности, с другой стороны, происходит не только деградация, но и развитие личности, ментальности, усиливаются поиски идентичности, особенно в культуре. Так, в частности, многие мигранты не ассимилируются в новую культуру, а стараются сохранить свою национально-культурную идентичность[10]. Осознанию идентичности помогают движения и культурные центры, наблюдается наряду с ростом напряженности проявление взаимной национальной и религиозной терпимости. В общем, кризис социальной идентичности – одно из проявлений глобализации. Чувство идентичности является важным организующим центром деятельности личности, кризис отражает несовпадение оценки поступков человека им самим, окружающими людьми и сущностью личности. Он проявляется и сейчас, и в то же время отмечаются процессы индивидуализации и поиска идентичности, особенно в сфере культуры[11]. Такое свойство массового сознания как «деструктивность» – ведет к протесту против традиционных институтов, сфер СМИ, проявляется в сфере политики и т.п. Можно сказать, что все новые качества массового сознания стали глобальным феноменом. Глобализация увеличивает масштаб из проявления. Какие же совершенно новые явления отмечают исследователи социальнопсихологических проблем глобализации? Этих явлений достаточно много. Все они выражают специфические настроения, ценностные ориентации, принципы образа жизни социальных групп – новых феноменов, возникших в условиях глобализации. К этим феноменам относятся упоминавшиеся выше разнородные массы мигрантов с их особенными свойствами, различные группы новой глобальной элиты, широкие массы «глобального среднего класса»[12]. Причем, глобальная элита разделяется на группы, состоящие из разного рода интеллектуалов, деловых людей международного уровня, юристов, политиков, деятелей культуры, шоу-бизнеса, и.т.д., среди которых много людей с агрессивным стилем поведения и техногенным мышлением. Другая часть, имеющая и свои особенности, – это транснациональная глобальная элита, состоящая из ученых и различных специалистов высокого уровня. Эти люди входят в социокультурные общности разного уровня[13]. В соответствующей литературе отмечается, что характерной чертой всех представителей глобальной элиты является космополитизм[14]. Отмечаются и другие новые явления, связанные и с изменением сознания и поведения людей: например, феномен «утечки мозгов». Некоторые социологи, в частности, Ханнерз, Р.Робетсон[15],пишут, что дифференциация при- 78 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 79 водит к распространению двух типов личности в сфере культурной ориентации – «космополитической» и «локалистической». Последнее характерно для мигрантов, сохраняющих свою культурно-национальную идентичность. С другой стороны, дифференциация – лишь один из моментов противоречивых процессов, происходящих в сфере сознания и элитарные массовые группы людей все больше характеризуются одинаковыми эталонами культуры потребления, профессиональной деятельности, досуга, развлечений, ибо они интенсивно распространяются по всему миру. Все явления связанные с глобализацией, безусловно, актуальны для изучения. Как отмечалось, в этих явлениях есть совершенно противоречивые социально-психологические тенденции и много общего. Что касается самой проблемы человека, его изменений и его сущности, то появилось много новых вопросов: возможна ли гуманизация современного общества, какого воздействие глобализации, каковы новые формы социальности и как меняется статус индивида, ценностные ориентации личности и т.д. Актуален и старый вопрос – появился ли в прошлом веке вместе с техногенным обществом совершенно новый человек, который, как пишут, например, исследователи социокультурных функций Интернета, есть в частности, особая нивелированная эксплуатируемая и подчиняющаяся манипулированию личность, или это все тот же «старый человек», в котором массовая культура с ее культом насилия и жестокости «просто» разум заменила инстинктом, любовь – сексом, а самого человека – «неодикарем»? Если глобализация – это символ перемен во всем, то в культуре и массовом сознании она является следствием также и информационно-коммуникативной революции качественного изменения природы человека? Примечания 1.См. Бек У. Общество риска. М., 2002. 2.См. Tottler A. The third Waves. N.Y. 1980; Bell D. The Social Frame work of Information Society in the computer age: a Twenty years view. L. 1981. 3.См. Hutington S. The Clash of Civilizations and Remarking the World Order. N.Y. 1996; Sorokin P. The crisis of war age. N.Y. 1957. 4.См. напр., Хорунжий С. Человек и его три дальних удела. Новая антропология на базе древнего опыта. «Вопросы философии», №1, 2003. 5.См. Фромм Э. Революция надежды. СПб.,1999. С. 51-52, 67-68, 119-121. 6.Wilson B. Morality in the Evolution of the Social System. The British Journal of Sociology. 1985, 36.3. P.315-332. 7.В частности, культура для подавляющего большинства еще больше становится символом определенного статуса, товаром потребления, средством удовлетворения тяги к острым ощущениям и, как замечал Фромм, тяги некрофилов к ощущениям конфронтации между жизнью и смертью. 8.См. Inglehart R. Modernization and Post modernization. Cultural Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton. 1997. 80 Материалы международной конференции 9.См. Чешков М. Глобализация: сущность, нынешняя фаза. «Pro et Contra», осень 1999. 10.Некоторые исследователи считают проявления национализма, религиозного фундаментализма реакцией на угрозу потери идентичности. 11.См. напр., Бек У. Что такое глобализация. М., 2001. 12.Можно считать, что представители именно этого «глобального среднего класса», включенные в широкие экономические и профессиональные связи в масштабе планеты, и будучи носителями творческого склада характера, инициативы, высоких профессиональных знаний с их ценностными ориентациями являются той социально-психологической моделью, в которой отражаются ценности самореализации личности для других слоев общества. И эта модель широко распространяется, становится характерной для многих носителей массового сознания. 13.См. напр., Konrad J. Antipolitics. San Diego and N.Y. 1984. 14.К элите так же можно отнести группы людей, которые являются представителями международных неправительственных организаций, антиглобалистских движений и т.д. 15.См. Robertson R. Globalization: Social and Global Culture. L. 1992. Водопьянова Н.А. кандидат философских наук, доцент Ставрополь Столкновение культур в современной рекламе Современное общество вплетено в сложную сеть информационнокоммуникативных процессов. Тенденции к глобализации выступают катализатором процесса межкультурной коммуникации, придавая коммуникативному пространству новые качественные формы. В рамках мирового цивилизационного процесса, научно-технического прогресса, развития транспортных средств и появления новых технологических возможностей, а также все большей открытости границ между государствами современный человек получил неограниченные возможности контактировать с представителями других культур. В современных условиях межкультурная коммуникация осуществляется в самых разных сферах общественной жизни: экономической, политической, духовной и других, в том числе и в рекламе. Учитывая, что одним из ключевых каналов межкультурной коммуникации является индивид как носитель определенной культуры, то в этом аспекте феномен рекламы представляет большой научный и практический интерес, т.к. реклама выступает одной из основных форм межкультурной коммуникации. В самом деле, в конце XX – начала XXI века возникла потребность рассматривать рекламу как явление культурной жизни людей, как один из меха- 80 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 81 низмов формирования культуры. Тем не менее, само понятие культуры оказывается крайне неопределенным в связи с тем, что оно формировалось в течение очень длительного времени и применялось по отношению к существенно различным по своему историческому происхождению объектам. Чаще всего культура рассматривается как форма организации и развития общества. Она представлена в продуктах материального и духовного труда, в социальных нормах и традициях, в духовных ценностях, в отношении людей друг к другу. В данном понятии фиксируется отличие социальноэкономических факторов жизнедеятельности человека от биологических форм жизни, качественное своеобразие и разнообразие историческиконкретных форм жизнедеятельности на различных этапах общественного развития в рамках определенных эпох, общественно-экономических формаций, этнический и национальных общностей. Кроме того, можно заметить, что культура также характеризует особенности поведения, сознания и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни. В культуре может фиксироваться способ жизнедеятельности отдельного индивида, социальной группы или всего общества в целом. Реклама – это форма коммуникации, которая пытается перевести качества товаров и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов потребителя. Особую роль при рассмотрении феномена рекламы на современном этапе следует уделить следующим аспектам, которые характеризуют столкновение культур: 1) с одной стороны, такое столкновение проявляется при попытке переноса западной рекламы в условия российского менталитета; 2) с другой стороны, уже в отдельном взятом рекламном сообщении и рекламном ролике можно наблюдать сочетание или противопоставление элементов, образов, смыслов, относящихся к западной и восточной культуре. Естественно, данные аспекты, в свою очередь, вызывает проблемы в восприятии рекламы. Это вызвано тем, что этнокультурные, конфессиональные, языковые и другие особенности каждой страны, каждого народа регламентируются веками складывающихся традиций, норм, картиной мира, мировоззренческими установками, привычным мировосприятием. Интернационализация рынка товаров и услуг, вызванная набирающими силу тенденциями глобализации, вызывает в сфере рекламной деятельности сегментации целевых аудиторий не только по привычным гендерным, возрастным, территориальным, финансово-экономическим показателям и т.д., но, в первую очередь, по культурнонациональным (языковым, этноконфессиональным, обрядовым, культовым и т.д.) признакам. Межкультурная коммуникация все более обретает характер атрибутивного свойства современной социальной реальности. Влияние этих условий на рекламу становится все более очевидным. Реклама, проникающая во все сферы общества, оказывает значительное влияние на социальное поведение, представления, ценности индивидов, влияя, тем самым, на процесс заимствования и распространения материаль- 82 Материалы международной конференции ных и духовных ценностей Запада. Этот процесс противоречив и вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, реклама выступает как необходимый элемент развития рыночной экономики, с другой стороны, возросший поток рекламных сообщений вызывает негативную реакцию при их восприятии Все мировые компании сталкиваются с непростой задачей, заключающейся в рекламировании лучших качеств своей продукции как в условиях локальной культуры, так и в международном масштабе. Необходимо рекламу своей продукции вписать в круг представлений, характеризующих особенности культуры, политических традиций, уровень экономического развития страны и степень развития материальных и идеальных потребностей населения. Наиболее эффективной является та реклама, которая соответствует национально-культурным представлениям того региона, где предполагается проведение рекламной компании. Распознавание характерных особенностей различных культур и адаптация маркетинговых компаний к различным системам ценностей, становится зачастую критическим фактором в популяризации той или иной продукции у покупателей. В различных национальных культурах информация о той или иной продукции может восприниматься по-разному. Поэтому зачастую в рекламе используются приемы адаптации, которые заключаются в том, чтобы визуальные и лингвистические элементы были перенесены в новые условия. Если при создании рекламных роликов, в которых продвигается иностранная продукция, рекламистам удается адаптировать новый продукт для системы конечной культуры, то такая реклама будет эффективной. Объектом адаптации могут служить внешность представителей той или иной культуры, цвет их кожи, предпочтения в одежде, язык, поведение при приеме пищи и т.д. Реклама, пожалуй, является для потребителя одним из основных доступных источников информации о товарах и услугах. Неудивительно, что, впитывая информацию, потребитель осваивает и запоминает ее именно в тех словах и образах, в которых ему передал ее рекламодатель. Эти слова и образы формируют своеобразный «язык». В этом плане интересна концепция Г.Ховстеде, описанная в книге «The Software of Mind», где он выделяет четыре основных проявления культуры, а именно: символы, ритуалы, герои и ценности, которые, в свою очередь, могут быть взяты за основу при построении рекламных компаний[1]. Под символами подразумеваются слова, жесты, а также предметы, которые несут особое значение и узнаваемы представителями данной культуры. Герои представлены определенными личностями, которые могут быть реальными людьми или воображаемыми персонажами, нашими современниками или легендарными личностями прошлых лет, но все они обладают характеристиками, которые получают высокую оценку в обществе, и таким образом становятся предметом для подражания. Ритуалы представляют собой коллективные действия, которые рассматриваются как основы социального бытия. 82 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 83 Среди ритуалов можно назвать религиозные церемонии, особую манеру поведения, приветствий, жестов и знаков уважения к старшим. Хотя роль героев и ритуалов очень важна, в основе понятия культура находятся ценности. Их примерами могут служить семейные ценности, независимость, безопасность, личная свобода, интеллектуальные ценности и т.д. Поэтому очень важно использовать и обращаться к таким ценностям в рекламе своей продукции. Успешная реклама и маркетинг идентичного продукта в нескольких странах может стать возможным при наличии значительных различий в исполнении, образах, стилях и вербальном сообщении. Адаптированное исполнение рекламных материалов к культурам различных стран является фактором популярности продукции, в первую очередь, в категории товаров широкого потребления. Модель Г.Ховстеде на практике доказала свою состоятельность и может стать хорошей точкой отсчета при планировании рекламных компаний. Особое внимание в подготовке рекламы необходимо уделять религиозному фактору. Религиозные традиции в значительной мере ограничивают характер содержания рекламы, и создателям рекламы приходится обращаться к различным вариантам рекламирования продукции в регионах, скажем, с мусульманским и христианским населением. По мере обращения населения мусульманских регионов России к своим религиозным традициям требования к распространяемой здесь рекламной продукции становятся все более жесткими. В мусульманских республиках России – Дагестане, КарачаевоЧеркесии, Кабардино-Балкарии и других – во время Рамадана реклама женского нижнего белья или развлекательных комплексов рассматривается местными властями как кощунство. Рекламу уже изначально содержит в себе противоречия, что оказывает влияние на различия в ее восприятии теми или иными социальными группами. Среди положительных аспектов функционирования рекламы в системе культуры следует выделить те, что реклама принимает активное участие в обновлении культуры, ее развитии. В российской рекламе зачастую наблюдается стремление подражать зарубежным образцам, недостаточно отражена национальная история, культура и традиции, ценности российского общества. При реализации рекламной деятельности на международном уровне следует уделить внимание основным принципам межкультурной коммуникации и учитывать сегментированность целевых аудиторий, в первую очередь, по культурно-национальным показателям. Таким образом, реклама стала важным компонентом массовой культуры, частью пропагандистского процесса, средством управления, манипулирования и психологического воздействия на поведение человека. Под воздействием рекламы изменяются психологические характеристики, свойства, состояния людей, их сознание и поведенческие реакции. От того, каким будет ха- 84 Материалы международной конференции рактер ее взаимодействия, во многом зависит, каким будет общество, будущее национальной культуры, психологии и самосознание людей. Важнейшим условием эффективности рекламы является ее соответствие основным характеристикам национальной психологии, самосознания, культурной традиции россиян. В России это положение усложняется ее многонациональностью, многоукладностью, религиозными различиями. Для того, чтобы реклама была эффективной необходимо учитывать и локальные национальные традиции и ценности народов, проживающих на территории Российской Федерации. Примечания: 1. Hofstede, G. Cultures and organizations: Software of the Mind. New York, 1991. P.163-179. Волкова Н.Г. Самара Риск как социокультурный феномен Пространство современного общества отличается высоким уровнем сложности, изменением институциональных отношений, альтернативностью поведенческих стандартов, становится благоприятной средой для появления самых различных по своей природе рисков. Как отмечает В.Б.Устьянцев, в современных условиях риски приобретают системную опору и прочно утверждаются в определенных отношениях между людьми. Поэтому уместно говорить о становлении рискогенного общества. «Системные риски постиндустриального общества обусловлены, прежде всего, происходящей модернизацией индустриального общества и замедленной реакцией культуры, науки, системы управления на вызовы новой эпохи»[1]. Как известно, любая сложная развивающаяся система должна содержать информацию, обеспечивающую ее устойчивость. Система обменивается веществом и энергией с внешней средой и воспроизводится в соответствии с информацией, закрепленной и представленной в соответствующих кодах. Эти информационные коды учитывают опыт предшествующего взаимодействия системы со средой и определяют способы ее последующего взаимодействия. В качестве таких кодов выступают базисные ценности культуры. Они представлены категориями культуры, мировоззренческими универсалиями, на основании которых функционируют и развиваются надбиологические программы человеческой деятельности, поведения и общения. Мировоззренческие универсалии выражают шкалу ценностных приоритетов соответствующего типа культуры, определяя какие фрагменты опыта должны попасть в поток трансляции, а какие должны остаться вне этого потока, не 84 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 85 передаваться последующему поколению. Изменения социальных организмов невозможны без изменения культурного кода. Усложняющаяся структура социального мира приводит к тому, что человек все больше попадает в зависимость от информации, которая превращается для него в сферу риска. Понятие риска становится легко применимо к современной ситуации потому, что риск – это понятие буржуазной культуры, а современная культура является таковой. Цивилизация, пытаясь установить буржуазную картину мира с ее рациональностью и упорядоченностью, должна выявить все точки нестабильности и тем самым способствовать их освоению, стабилизации, дерискогенизации[2]. Можно согласиться с В.Н.Кузнецовым, что «риск – это социокультурный феномен, представляющий в превращенной форме правила запрета в динамике перемен от ситуации неопределенности в направлении желательных изменений с учетом фактора времени и реального масштаба»[3]. Рассматривая риск как социокультурное образование, можно выделить два момента: с культурной позиции риск понимается как состояние неустойчивости между традиционным и инновационным знанием, и социальный, понимающий риск как результат неправильного функционирования механизмов конструирования и воспроизводства социальной реальности через разрушение повседневности, гарантирующей человеку «онтологическую безопасность». В.Б.Устьянцев рассматривая духовную жизнь социокультурных сообществ, выделяет интеллектуальные риски, он считает, что они проявляются под влиянием факторов, мешающих духовной свободе, творчеству, самоидентификации индивидов, оказавшихся в информационно насыщенной среде. Интеллектуальные риски могут проявляться в ментальности социальных субъектов, тогда это будут уже ментальные риски. Ментальные риски связаны с кризисом веры, разрушением до этого устойчивых социальных утопий, идеологий. В результате их давления появляются рациональные риски, связанные с устремлением творческих элит, отдельных мыслителей к преобразованию общественного устройства к более совершенной экономической, политической, культурной организации общественной жизни[4]. С другой стороны, риск является существенной частью человеческого существования, поэтому чтобы человек не испытывал недостатка в нем, современная массовая культура приучает людей к риску, которым окружают человека средства массовой информации и кинематограф. Но это не есть реальный риск, который ставит под угрозу основание собственного бытия, это симуляция риска. Современная цивилизация, таким образом, решает задачу установления власти над любыми очагами противодействия системе. Человека лишают возможности экзистенциального выбора, предлагая на выбор целый спектр вариантов симулятивного удовлетворения его потребности в риске, но в рамках подконтрольных системе. Массовая культура пред- 86 Материалы международной конференции лагает множество трансформирующихся ценностей, в результате поиски себя, своей индивидуальности осложняются поливариантностью. Если рассмотреть смысловое содержание риска в зависимости от исторических периодов, то в доиндустриальную эпоху риск расценивался как табу, грех, так была достигнута некая культурная однородность. Человек, избравший путь греха, т.е. выходящий за пределы выработанных культурой и принятых нравственных норм, подвергал себя опасности. В современную эпоху риск уже предстает как социокультурная основа развития общества, как критерий прогресса, необходимый в инновационном развитии, с этим связана и популяризация риска. Получается, что производство рисков есть деятельность, приносящая прибыль, это все более ярко выражается в росте популярности экстремальных видов деятельности, экстремального образа жизни, т.е. человек начинает существовать в условиях искусственно созданного экстрима социального пространства. Главное, что такой риск можно контролировать, а это и есть производство неподлинного риска или псевдориска. Риск превращается в средство манипулирования сознанием масс. Человеку современной цивилизации не позволяют рисковать собственным бытием, окружая его гарантированным удобством и комфортом, но многим чувство утраченной возможности самопознания не дает покоя, обесценивает комфортное существование. Человек начинает искать ситуации, которые придадут ему остроту ощущений и позволят приблизиться к пониманию собственной сущности. Наряду с риском, другим социокультурным продуктом современного общества является категория безопасности. Ж.Бодрийяр назвал безопасность формой шантажирования жизнью, когда она превращается в капиталистическую сверхприбыль, поэтому человек должен умереть только той смертью, которая дозволена системой, и это явление находит воплощение в форме страхования от всех рисков. Человек подчиняется мифу о безопасности, окружает себя искусственными средствами, идущими от технизации жизни. Миф о безопасности, как отмечает Ж.Бодрийяр, создает наихудшую из репрессий, «лишающую человека его собственной смерти, той смерти, о которой каждый мечтает в глубине своего инстинкта самосохранения»[5]. Поэтому экстремальные явления привлекают людей, что возвращают их из ситуации гарантированной смерти к смертельно рискованному экзистенциальному выбору: «потому-то мы мечтаем о смерти насильственной, что живем смертью медленной»[6]. «Подавление чувства самосохранения – это ни с чем не сравнимое удовольствие», считает роллер по кличке Мэф после многочасовых попыток свернуть себе шею на лестницах, парапетах и прочих препятствиях в асфальтовых джунглях Москвы[7]. Опыт, полученный в моменты опасности, едва ли позволит нам сознаться себе в заветном желании, чтобы смерть настигла нас не случайно, не внезап- 86 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 87 но, в стороне от главного, но посреди жизненной полноты, в момент полной отдачи наших сил. Не внешние обстоятельства, а мы сами сделаем из смерти то, чем она может быть – смерть по добровольному согласию. В условиях перехода от книжной к посткнижной культуре субъект живет артефактами повседневности, где здравый смысл и навязанные массовой культурой стандарты мышления притупляют историческое самосознание личности. Посткнижная культура осваивает информационные ресурсы ушедших цивилизаций на основе электронных технологий и ценностей компьютерной культуры. Нарастающий поток информации, «ре-традиционализация» культуры приводит человека к необходимости выбора в целях преодоления ценностной неопределенности. Применительно к XXI веку можно сказать так: «человек – мера всех рисков: мыслимых и немыслимых, реально ожидаемых и самых неожиданных». В этой связи правомерно задаться вопросом о рискогенности натуры человека. Среди исходных феноменов такой рискогенности особое положение занимают состояния амбивалентности, как состояния двойственности человеческой натуры. Так, человеку присуще стремление к свободе, независимости от условностей, и с другой стороны, желание пребывать в состоянии покоя и комфорта, имея гарантии устойчивости системы. Такая антиномия человеческого существа решается средствами культуры в зависимости от исторического развития. Личность вправе выбирать какому сущностному стремлению отдается приоритет, исходя из собственных ценностных установок. В ситуациях, контролируемых системой, усвоенные поведенческие стереотипы позволяют субъекту приспосабливаться к происходящим изменениям, в то время как в рамках экстремальных ситуаций они перестают работать. С.Трунев определяет поведение в экстремальной ситуации как, «во-первых, игру без правил и, во-вторых, игру на выживание»[8]. Справедливо высказывание С.Трунева, что современная культура как бы сама побуждает человека к выходу за границы обыденного опыта в ситуации и состояния повышенной сложности, предоставляя множество возможностей человеку выделиться из толпы и выйти на более высокий уровень конкуренции, но ставка делается на сознательное дистанцирование от умеренного образа жизни и умеренных взглядов. Представляется, что такая позиция культуры преследует цель изучить поведенческие установки в экстремальных ситуациях с целью их корректировки и последующего контроля для гарантии последующей безопасности системы, с другой стороны это момент обогащения системы набором линий поведения, т.е. качественное решение выживаемости[9]. Попадание в экстремальную ситуацию позволяет примерять на себя тот или иной поведенческий стереотип и выбирать тот, который способен привести к выживанию. Причем здесь и проявляется предельность собственных возможностей и того, насколько далеко я могу зайти в возможности управ- 88 Материалы международной конференции лять инстинктом самосохранения. Это и есть сущность, указывающая на предел, за которым теряется себе тождественное «Я». В современном мире, где человек живет захватом, предпринимаются попытки все определить, рационально рассчитать. И действительно, «сущность» человека оказывается ширмой истории, за которой автономная личность надевает на себя меняющиеся одежды рационально рассчитывающего человека. Самоопределение человека оказалось фикцией, ибо он загоняет себя туда, куда ему указывает рассчитывающее сознание. Но природа человека не зависит от сознательного выбора или от отлаженной системы производства. Она действует в нас без нашего на то согласия. Поэтому человеку нужно что-то, что заставило бы его выйти из себя, перейти через границу между внешним и внутренним миром. Это прохождение через переход требует оснащения, причем оснащения не перехода, а себя[10]. Такая работа по оснащению себя с целью овладения чем-то в себе ведет в последствии к воспроизведению опыта как опыта культуры. В зависимости от того, в какой сфере реальности происходит такой выход из себя, различается и культура. О переходе думают экстремалы, и их опыт его преодоления порождает такое явление, как экстремальная культура. Экстремальный человек сознательно пытается дистанцироваться от принятых большинством поведенческих установок и ищет удовольствие в крайней позиции, как по отношению к себе, так и по отношению к обществу. Чтобы от псевдориска перейти к истинному экзистенциальному риску, выход субъекта за пределы системы, как совокупности и связи между элементами, должен происходить не только вследствие внешнего принуждения, а по его собственному желанию с пониманием всей доли ответственности. Экстремал пытается раздвинуть пространство, убрать ограниченность рационально рассчитывающего сознания. Смысл экстремальной культуры можно выразить словами: «ничто не слишком». Выход за пределы устоявшихся норм, сводов правил и законов находит в большинстве своем воплощение в природной среде. Большинство экстремалов помешано на преодолении стихии, однако, в отличие от туристов, их интересует не красота гор, вод, снегов, ущелий, пещер, воздушного океана, а то как их использовать, чтобы пооригинальнее рискнуть собственной жизнью. Большая часть нашей деятельности – это процесс побега. Процесс постоянного напряжения и отпускания, когда мы пытаемся схватить в мире что-то, это есть процесс истощения, как и все ощущения, процесс деятельности истощает ум. И это прихождение к точке, когда чувствуется истощение, необходимо, чтобы ум сам собрал силу. Надо позволить быть скуке, она позволяет себе быть, каким есть: скучным, уродливым, замкнутым или каким угодно, когда есть возможность что-то с этим делать. Возникает интерес, почему скучно, и это самопознание уже заставляет интересоваться деятельностью. И 88 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 89 здесь уже свобода выбора деятельности: просто что-то делать и успеть ухватить все в жизни или делать то, что совпадает именно с моей сущностной осью. Избыточность смысла, который предоставляется современной культурой, может привести и приводит к исчезновению смысловых различий, что и есть бессмысленность. Этим объясняется наличие девиантных отклонений в обществе, стремлений субъектов к суициду и т.п. У экстремального человека отсутствует возможность «поскучать» его восприятие мира позволяет переживать отдельный фрагмент мира с особой яркостью, его проживание реальности в момент настоящего позволяет отбросить скуку, как некое состояние усталости от мира, отброшенности и неудовлетворенности им. Скучно становится человеку, живущему и постоянно надеющемуся на будущее. Жизнь настоящим моментом предполагает свободу, как реализацию творческого порыва, «здесь и сейчас». Экстремальный человек пытается нарушить консервативные традиции, сдерживающие личную инициативу, движение к свободе духа, это есть преодоление скуки. Но, скука и ожидание ее возможности побуждает человека к деятельности. На современном этапе развития вырисовывается новый ценностный человек, увеличивающий роль своей индивидуализации, выбирая свои ценности и принимая в соответствии с ними решения, рискуя для утверждения своей самоидентификации со средой и утверждения себя в качестве творческой энергии. Изменение мотиваций человеческой деятельности может привести к кризису основных ценностей мироустройства, провоцируя сдвиги в культурных процессах. Необходимо, чтобы индивидуализация не несла в себе агрессивного появления, которая ведет к столкновениям и конфликтам, поэтому задачей культуры продолжает оставаться не только предоставление личности жизненных ориентаций, но и регламентация их с целью воспитания ответственности субъектов за производимый выбор деятельности. Примечания 1. Устьянцев В.Б. Человек, жизненное пространство, риски: ценностный и институциональный аспекты. Саратов, 2006. С.157. 2. См. об этом: Общество риска и человек: онтологический и ценностный аспекты / Под ред. проф. В.Б.Устьянцева. Саратов, 2006. С.133-137. 3. Там же. С.45. 4. Устьянцев В.Б. Человек, жизненное пространство, риски: ценностный и институциональный аспекты. Саратов, 2006. С.161-162. 5. Общество риска и человек: онтологический и ценностный аспекты / Под ред. проф. В.Б.Устьянцева. Саратов, 2006. С.139. 6. Там же. С.142. 90 Материалы международной конференции 7. Михайлов С. Спорт как искусство преодолеть инстинкт самосохранения // Гео. 2002. №12. С.146. 8. Трунев С. Культура демократического общества: экстремизм и терроризм // Res Cogitans. №1. С.38. 9. Там же. 10. См. об этом: Смирнов С.А. Бытие в свободе, или Проблема культурной идентичности в ситуации онтологического перехода // Мир психологии. 2004. №3. С.240-255. Воронович И.Н. Минск Проблема самоактуализации личности в массовой культуре Современный мир, названный многими философами и культурологами техногенной цивилизацией, сформировал человека противоречивого и неоднозначного. Назрела необходимость сохранения человека целостного, обладающего единством физической, умственной, нравственной сторон. Современной личности достаточно тяжело соответствовать моделям поведения в обществе, осуществлять постоянный выбор существующих ценностей и всегда соответствовать изменяющимся условиям в мире. Современная цивилизация насыщена огромным количеством разнообразных проблем, имеющих смысложизненный, экзистенциальный характер. Современная цивилизация, включающая в себя массовую культуру, взрастила «массового» человека, личность которого не является особенно одаренной или имеет особые отличия от других, ощущает себя «точь-в-точь, как все остальные, и притом нисколько этим не огорчена, наоборот, счастлива чувствовать себя такой же, как все»[1]. Масса принимает только подобное ее самой, индивидуальное категорически не приемлется. Массовое общество характеризуется высокой степенью рационализации функционирования и выражения эмоций, контролем со стороны социально-политических структур и самоконтролем. Массовая культура, являясь культурой «эпохи потребления» (Д.Белл) характеризуется упрощенным мировосприятием и языком, архетипичностью образов и ситуаций, тиражированностью, стандартизацией вкуса. Современный человек находится в сложной ситуации смены культурных приоритетов технического общества, где больше ценятся физические, интеллектуальные и волевые усилия. Происходит снижение культурной активности, люди меньше обращают внимания друг на друга, становятся более эгоистичными; человек теряет ценности, накопленные в процессе социализации в предыдущий период. Людям тяжело ориентироваться в социальном пространстве, зачастую их поведение не соответствует данной жизненной ситуации. Это объясняется целым комплексом причин и факторов, среди которых следует назвать феномен мозаичности культуры. Ареал так называемой за- 90 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 91 падной культуры к середине прошлого столетия значительно расширился, ее ценности и мышление претерпели значительную трансформацию: они теряют характер преемственности. Мышление и культурное пространство в целом начинают представлять структуру без структуры: огромное количество отрывков разнообразной информации, подчас слабо между собой связанных, относящихся к различным культурно-историческим нишам. И личность, и социально-культурная среда, в которой она находится, оказываются в своеобразном адаптационном тупике – ведь прежний опыт далеко не всегда может подсказать, каким образом действовать. В современном мире появляются противоречивые в своей сущности характеристики человека. С одной стороны, - это умение адекватно воспринимать окружающий мир и ориентироваться в нем; стремление к постижению знаний и высокое образование; способность контактировать и вести диалог с другими людьми и культурами; возможность осуществления собственного выбора. С другой стороны, человек ощущает себя как проблему. Параметры последней коренятся в выполнении личностью огромного количества ролей, часто не совпадающих с внутренним мироощущением и мировосприятием человека, страхом перед будущим и жизнью, течение которой настолько стремительно изменяется, что психика личности не в состоянии адекватно реагировать на непрерывно становящийся мир. Действительно, так называемое информационно-постиндустриальное общество, порождает такое психологическое состояние, которое не было известно в других цивилизациях. Э.Тоффлер называет его «футурошоком» или «шоком будущего». Его суть такова, что личность неожиданно утрачивает чувство реальности и умение ориентироваться в жизни, поскольку ее парализует страх перед ближайшим будущим: «психологические ресурсы человека не безграничны... Раньше всего может не выдержать человеческая психика»[2]. Подобное состояние формирует личность достаточно странного типа, которая К.Хорни, Т.Адорно была названа невротической. Невротик становится «нормальным» современным субъектом. Недостаток в любви, чувство беспокойства и вины формируют невротические характеристики личности. Нет ничего ненормального в том, что человек подвержен внутренним и внешним конфликтам, испытывает депрессию, стресс и другие психические состояния. Неврозы, личностные расстройства, психологические отклонения все чаще зависят от насущных проблем общества. Важными чертами современности являются стереотипизация образа жизни людей, формализация контактов и обезличивание общения между ними, а также потеря личностных ориентиров в целом, возникшие в результате научно-технического прогресса и появления информационного общества, высокого развития электронных средств массовой информации и интернет-технологий. Массовая культура и коммуникация формируют массовую личность, духовные интересы которой теряют свою значимость в сравнении с актуальностью материальных запросов, упрощаются гуманистические ценности и снижается общекультурный уровень ин- 92 Материалы международной конференции дивида в целом. Появляется человек, который не в силах обладать единством внутреннего и внешнего мира, его душевный мир становится частью механической и технической жизни современности. Подобная личность была названа «механической» (Р.Р.Кашапова). Так же следует отметить, что человек, пытающийся идти в ногу с техническим развитием, но не успевающий следить за своим индивидуальным уровнем, оказывается в ситуации внутреннего конфликта, недовольства собой, собственной жизнью. Ненормально и то, что человек техногенного общества находится в эмоциональной изоляции, испытывает чувство одиночества, несмотря на наличие семьи, друзей, любимой работы. Возможно, такое положение вызвано тем, что «в индивидуалистической культуре человеку предписывается прочно стоять на собственных ногах, утверждать себя и, если необходимо, уметь прокладывать себе дорогу»[3]. Еще одной парадоксальной характеристикой «массовой» личности является отсутствие свободы при ее кажущемся наличии. С одной стороны, массовое общество воспитывает независимую и свободную личность, которая может строить собственную жизнь в соответствии со своей волей. С другой стороны, человек находится в ситуации постоянного выбора, в принятии или непринятии власти общества над собой. В этой связи Э. Фромм отмечал: «…современная структура общества оказывает свое влияние на характер человека одновременно в двух направлениях: человек становится все более независимым, уверенным в себе, самокритичным, но вместе с тем он ощущает одиночество и находится в полной изоляции, что его очень волнует и даже пугает»[4]. Классической стратегией преодоления форм принуждения, стратегией свободы являлась рациональная форма познания: разум воспринимался как светоч, дающей надежду на прогресс в лучшее будущее. Однако, всесилие разума, скорее рассудка в ХХ веке подвергается сомнению. Причиной этого может являться как «нереализованность проекта модерна» (Ю.Хабермас), так и весьма узкое толкование разума исключающего его изначальное понимание как логоса, сведением мышления к сфере абстрактного, рационального, вытесняющего такие феномены как вера, интуиция и т. д. Вера в технический прогресс, в то, что он способен сделать человека лучше, духовнее не вполне оправдался. Более того, формирование искусственной, технической среды привело еще к одному парадоксальному результату - человек стал зависеть от того, что должно было служить для него пропуском к свободе, счастью. Уподобление человека машине, как и сведение сущности человека к потреблению, способствовало превращению межличностных отношений в отношения товарного характера. Не только общение становится товаром, но и интеллект. Отношение к интеллекту как источнику и средству потребления получило название аутсорсинга, который свидетельствует о явлении интеллектуального рабства. По-видимому, причинами подобных явлений становятся «омассовление» (в понимании Х.Ортега- 92 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 93 и-Гассет), «одномерность» (Г.Маркузе) человека и общества. Фетишизация потребления, удовлетворение материальных потребностей превращается в духовный акт, приносящий удовольствие, что является еще одной чертой личности техногенного общества. Итак, техногенная культура, массовое общество порождают массового человека. Однако аксиоматичен ли тот факт, что личность всегда и навсегда превращается в пользователя и потребителя? В данном отношении было бы полезным изложить ключевые позиций концепции самоактуализации личности. Самоактуализация предполагает рассмотрение личности, как субъекта, стремящегося к самораскрытию и актуализации ее способностей, качеств, их реализации. Взгляд на человека техногенной цивилизации как на здорового субъекта – одна из заслуг концепта самоактуализации и в целом гуманистической психологии. Один из ее ярких представителей А.Маслоу усматривал проблемность человека не столько в давлении общественных норм, власти над человеком, сколько в нежелании личности самоактуализироваться, то есть постоянно становиться и развиваться. Ученый представлял «себе самоактуализировавшегося человека не как обычного человека, которому что-то добавлено, а как обычного человека, у которого ничего не отнято. Средний человек – это полное человеческое существо, с заглушенными и подавленными способностями и одаренностями»[5]. Самоактуализироваться – значит стать тем человеком, которым он может стать, достичь вершины нашего потенциала. Внутренняя свобода – еще один «атрибут» здоровой личности, именно ее катастрофически не достает человеку ХХ века. Как правило, люди, стремясь к реализации, останавливаются на уровне «поисков защищенности и хорошего отношения, поглощающих всю энергию»[6]. На самом деле человек должен стремиться к духовному совершенствованию. В этом случае происходит реализация своего предназначения. Концепт самоактуализации А.Маслоу созвучен позиции самореализации и поиска смысла В.Франкла. Логотерапия В.Франкла основывается на ясной философии жизни, сущность которой составляют три части взаимно дополняющие друг друга: свобода воли, воля к смыслу, смысл жизни. Человек не свободен от условий, какие бы они ни были, но его свобода заключается в том, что он может выбрать любую позицию по отношению к этим условиям. В.Франкл называет человека существом рефлектирующим, судьей самому себе, ибо он сам способен отвергнуть себя. Такие феномены, как самосознание и сознание невозможно понять без представления человека как существа, способного превзойти самого себя. Итальянский ученый Р.Ассаджиоли рассматривает самоактуализацию в двух значениях: в первом она понимается как самоосуществление, во втором как самопостижение, «переживание и осознание себя как синтезирующего духовного Центра»[7]. Первое значение близко к пониманию самоактуализации А.Маслоу. Отличие состоит в том, что самоактуализация может осуще- 94 Материалы международной конференции ствиться на любом уровне, и совсем не обязательно она будет включать в себя духовный уровень. По его мнению, именно самореализация может являться выходом из невротических состояний, которые могли возникнуть между разными сторонами личности или являются неким протестом против людей и сложившихся обстоятельств. Но, так же как и А.Маслоу он акцентировал внимание на творческих элементах человеческой природы, отмечал положительные качества волевой функции личности. Предметом изучения у К.Роджерса стала «уникальная и неповторимая личность, постоянно созидающая себя, осознающая свое назначение в жизни, регулирующая границы своей субъективной свободы»[8]. Ученый отмечал, что главным мотивом поведения человека является стремление к актуализации, реализация способностей, которое является врожденным. Если актуализация свойственна всем живым организмам на земле, то для человека характерна еще и самоактуализация, то есть развитее своего «Я». Этот процесс более сложный и требует некоторых усилий работы над собой. Если человек актуализирует свои возможности и способности, то происходит «полноценное функционирование» всего организма (К.Роджерс). Любовь, творчество, ощущение полноты бытия, самого себя как существа становящегося, реализующегося, обретение смысла жизни – те постулаты, которые составляют ядро гуманистической психологии, через которые человек осознает себя полноценным и здоровым существом. Гуманистический потенциал данного направления позволяет вернуться человеку к самому себе, к пониманию себя как изначально здорового субъекта, однако такое здоровье как данность должно всегда подтверждаться: человек должен трудиться над собой, возделывая себя. Пессимизм, рождающийся вследствие восприятия личности, являющийся для самой себя проблемой, рассеивается, если в абсурдности и парадоксальности техногенного бытия видеть потенциал для рождения новой культуры или нового измерения в техногенной цивилизации. Выход к новому пониманию человека, его миссии, сущности, возможно, кроется в следующих направлениях; самоактуализации и самореализации, самодвижении и вечном становлении человека как существа духовного, в понимании культуры, как абстрактной ценностной сферы, позволяющей делать постоянный выбор и соотносящим человека с миром должного, нравственного. «Суть дальнейшего продвижения общества по пути выхода из технократического тупика представляется через овладение каждым индивидом техниками био- и психокоррекции, направленной на самосовершенствование и творческое самовыражение. Этот путь развития общества поставит индивида на такую высоту, на которой он и должен быть, и приведет к действительному процветанию всего человечества, у которой доминантой станет культура души, духа»[9]. 94 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 95 Примечания 1. Ортега-и-Гасет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3. С.121. 2. Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002. С.6-7. 3. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М., 2006. С.196-197. 4. Фромм Э. Бегство от свободы. Мн., 2004. С.132. 5. Вахромов, Е. Понятия «самоактуализация» и «самореализация» в психологии. // Экзистенциальная и гуманистическая психология [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа: http//www.HPSY.RU. 6. Майков В. Трансперсональная психология: истоки, история, современное состояние. М., С.157. 7. Там же. С.117. 8. Там же. С.148. 9. Михайлова Л.И. Социология культуры: учебное пособие. М., 1999. С.7374. Восканян М. Санкт-Петербург Игра в современной Интернет-культуре: от элитарного к массовому В «Письмах об эстетическом воспитании человека»(1793-94) Шиллер писал, что из «рабства зверского состояния» человек выходит только с помощью эстетического опыта, когда у него развиваются способность наслаждаться «видимостью» и «склонность к украшениям и играм»[1]. Играть – значит наслаждаться видимостью и творить нечто идеальное (в сравнении с жизнью) и реальное (в сравнении с продуктом чистого воображения), независимо от того, воплощается ли эта видимость в произведении искусства или существует только в сознании играющего. Для Шиллера главным аспектом такой игровой деятельности является то, что субъект не действует по правилам, заданным извне, а сам их создает. Развитие этой мысли мы видим у Маркузе, писавшего, что свободная игра творческого воображения санкционирует непонятийную истину чувств как эстетическую ценность и делает возможной свободу от принципа реальности[2]. Cовременные технологии – компьютер и Интернет – если и не превратили наш реальный мир в царство игры, то, по крайней мере, создали вторую реальность – виртуальную, в которой шиллеровские идеалы нашли свое воплощение. В частности, из сферы элитарного в область массовой Интернеткультуры пришли такие имеющие игровой характер явления, как ирония, авторство и театр. 96 Материалы международной конференции Ирония виртуального карнавала Ирония являлась важнейшим эстетическим принципом романтизма, ее романтики считали самым свободным проявлением духа, так как благодаря иронии «человек способен возвыситься над самим собой» (Ф.Шлегель)[3]. От несовершенной действительности можно было защититься только «универсальным иронизированием» – установкой на то, чтобы художник подвергал сомнению не только реальные предметы и явления, но и свои собственные суждения о них. Не связывать себя никакой окончательной истиной, никакими установленными правилами и мнениями, стремление свободно переходить через все границы – вот идеал творческой игры романтизма. Анализируя основы иронии Шлегеля, Гегель показывает, что это значит для художника : «…я живу как художник тогда, когда все мои действия и вообще проявления…, остаются для меня лишь некой видимостью и принимают форму, всецело находящуюся в моей власти. Тогда я не отношусь подлинно серьезно ни к этому содержанию, ни вообще к его проявлению и осуществлению»[4]. В целом Гегель настроен по отношению к романтической иронии достаточно крититично, и сам иронизирует по этому поводу: «таков общий смысл этой гениальной, божественной иронии как той концентрации «я» в себе, для которой распались все узы и которая может жить лишь в блаженном состоянии наслаждения собою»[5]. Вслед за Гегелем и Кьеркегор обращал внимание на замкнутость подобного иронического подхода на самом себе. Наступает момент, когда ирония начинает чувствовать себя «невесомой», свободной «от печалей и горестей действительности... для нее нет ничего выше нее самой»[6]. Все становится игрой. Однако сферой применения иронии все эти мыслители видели искусство, в первую очередь - литературу. Ирония, вновь открытая постмодерном и ставшая его визитной карточкой, так же, как и сами постмодернистские практики тоже в большой степени была тексто- и литературоцентричной, инструментом в руках художника эпохи постмодерна. Сегодня элитарный инструмент иронии стал массовым – культура Интернет-пространства тотально иронична. Ирония является основой стиля виртуального общения в Интернет-чатах, форумах, в Интернет-дневниках (блогах). Хотя все эти формы Интернет-коммуникации часто выполняют вполне утилитарные функции – участники общаются в сообществах по интересам, размещают в своих дневниках тексты, фотографии и видеоролики – в них всегда присутствует элемент «маскарадности». Парадоксальным образом блоги являются и «серьезным» медийным полем, в котором действуют вполне реальные люди, и информация из которого часто попадает в традиционные СМИ, и при этом одновременно – областью вымышленных персонажей, или пограничных (о которых неизвестно, являются ли они дневником реального человека или же арт-проектом). Ирония пронизывает все это поле коммуникации, Сеть позволяет быть одновременно и серьезным, и несерьез- 96 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 97 ным, воплощая идеал иронии романтиков, о которой Кьеркегор писал, что «ее не останавливает ни страх смерти, ни пафос воодушевления, для нее это лишь забавный эксперимент, чтобы в результате просто обратиться в ничто»[7]. Интернет как технология в данном случае позволяет наиболее ярко проявиться тенденции, которую можно наблюдать во всей современной культуре – быть серьезным немодно, ирония и самоирония проникли повсюду. «Массовый юмор становится кокетливым, острым и “прикольным”… Все говорят друг другу «ты», никто больше не относится к самому себе всерьез, все теперь “сплошная умора”», – пишет современный французский философ и социолог Жиль Липовецки[8]. «Узаконивая полет фантазии, юмор вносит элемент легкомыслия в получаемые сообщения, придает им ритмичность и динамичность, идущие рука об руку с распространением культа естественности и молодости», – пишет он[9]. В качестве иллюстрации этого утверждения можно привести получившую широкое распространение практику использования «смайликов» (набора символов, означающего эмоции автора письма) в деловой электронной переписке, причем самый распространенный «смайлик» – «улыбка», означающий чаще всего именно ироничную улыбку. Виртуальные игры и виртуальные авторы B. Sutton-Smith писал, что существует четыре способа соотнести литературу и игру. Первый – мнение, что все литературное творчество в какой-то степени является игрой, второй – литература с игровым содержанием (игра автора с читателем, напр. «Алиса в Зазеркалье» Л.Кэрролла, «Декамерон» Дж.Бокаччо) , третий – литература, имеющая форму игры (юмористическая и абсурдистская литература), четвертое – литературные метафоры Интернет, ставший самым обширным «издательством» современности, позволил освоить эти способы игрового литературного творчества уже не только профессиональным авторам. В частности, интересными примерами такой активности являются интерактивные гипертексты и «фанфикшн» – творчество «фанов», то есть поклонников определенных персонажей и произведений медиасреды (зачастую художественных, вымышленных, таких как клуб поклонников героя определенного фильма или книги)[10] Интерактивный гипертекст (или кибертекст) подразумевает усиление роли читателя по отношению к тексту в еще большей степени, нежели даже в рецептивной эстетике. «Взаимодействуя с кибертекстом, читательпользователь самостоятельно выстраивает семантическую последовательность, и таким образом, этими актами выбора, читатель физически конструирует текст, что не принимают во внимание традиционные теории «чтения»», – пишет E.Aarset[11]. Поэтому он вводит понятие эргодической литературы, (от греч. érgon – работа и hodós – путь), т.е. текстов, требующих от читателя нетривиальных активных действий для «прохождения» текста. M.-L.Ryan разделяет интерактивность читателя на две формы – более слабую (интерак- 98 Материалы международной конференции тивность как выбор между заранее заданными альтернативами) и сильную (интерактивность, подразумевающую физическую или ментальную деятельность читателя по непосредственному созданию текста)[12]. Благодаря Интернет массовое распространение получил «фанфикшн» (funfiction) (в Рунете чаще используется сленговое выражение «фанфик») – сочинение поклонниками различных художественных произведений несуществующих глав в книгах, создание сценариев дополнительных эпизодов к фильмам, съемки своих видеофильмов[13]. Так, после выхода книги о Гарри Потере в Интернете стала выходить газета «Daily Prophet», которую зритель видел в этом кино[14], а идеи поклонников фильма «Звездные войны» (в частности, сюжеты любительских кинофильмов, пародий), которые они размещали в Интернет, даже были использованы самой студией, выпускающей эту киноэпопею[15]. Игровой характер этого сетевого творчества очевиден. Часто у подобных проектов существует не один автор, а имеет место коллективное авторство фан-сообщества, совместно разрабатывающего подобные тексты и сценарии. В XIX веке эстетизм предложил сделать решающим в искусстве игровое начало – условность и фантазию. Поскольку действительность почти ничего не значила для элитарного искусства в трактовке эстетизма, оно существовало «само в себе». О.Уайльд писал: «В уродливый и рассудочный век искусствам приходится заимствовать сюжеты не из жизни, а друг от друга»[16]. Отзвук этой мысли мы находим сегодня в эскапистских мотивах массового «фанфикшн» – многие представители фан-сообществ в качестве мотива своей активности называют вовсе не желание «играть» с уже существующими текстами (что характерно для постмодернистского дискурса), а невозможность реализовать свои творческие импульсы в реальности, которая им так же кажется слишком уродливой и рассудочной. Виртуальный театр Театр как область элитарного искусства, подразумевает профессиональных участников. Даже форма любительского, домашнего спектакля предполагает определенное «разделение труда» – как правило, необходимо наличие авторского замысла, режиссера, актеров, зрителей, то есть подражание профессиональной схеме. В современных западных медиа-исследованиях (напр. «First Person: New Media as Story, Performance, and Game», 2004) компьютерные игры, и в частности MMORPG – многопользовательские онлайновые ролевые игры, где тысячи игроков могут одновременно находиться в одном и том виртуальном мире – часто рассматриваются как новая массовая форма драматического искусства, «интерактивная драма» (interactive drama). Концепция интерактивной драмы подразумевает стирание границ между автором, зрителем, актером и персонажем. Физически это осуществимо только на базе компьютерных технологий. B.Laurel в работе «Компьютеры как театр» пишет «Участники подобной системы похожи на зрителей из зала, 98 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 99 которые могут подняться на сцену и стать самыми разными персонажами, к тому же имеющими возможность менять сюжет своими действиями и репликами»[17] Эти участники, в терминологии M.-L.Ryan – «интеракторы» – являются одновременно и аудиторией, и авторами сценария (поскольку имеют возможность влиять на поступки и слова своего персонажа), и персонажами (их герои – часть сценария, часть этого вымышленного мира), и актерами (как люди, управляющие персонажем с помощью своего физического тела. Подобное взаимопересечений функций встречалось и раньше – так, в уличном театре зрители могут приглашаться на сцену, в некоторых спектаклях актеры могут импровизировать, в детских кукольных спектаклях зрители из зала могут подсказывать персонажам, как поступить и т.д. Однако полного слияния всех функций в одну не происходит нигде, за исключением виртуальной реальности, в частности, компьютерных игр. Само конструирование своего персонажа MMORPG игроком во многом схоже с созданием литературного персонажа писателем – необходимо описание внешнего вида персонажа, особенностей и черт его характера, различных проявлений его индивидуальности. Персонаж может быть вовсе не похожим на своего реального «владельца» – быть другого пола, внешнего вида и с другими чертами характера. Исследования культуры таких игр («Gaming As Culture: Essays on Reality, Identity And Experience in Fantasy Games», 2006) и в частности поведения персонажей, созданных мужчинами- игроками, показали, что в сфере компьютерной игры мужчины могут преодолеть конфликт трех разных типов мужественности, возникающих в реальной жизни - идеала независимого представителя среднего класса, чья уверенность в себе основана на финансовом и социальном фундаменте, идеала «грубой мужественности», акцентирующего внимание на физической силе и власти, и идеала «Питера Пэна», вечного ребенка, ценящего юмор, развлечения и дух игры[18]. Создавая персонажи, соответствующие сразу всем этим идеалам, игроки воплощают в жизнь теоретические предсказания Шиллера о том, что антагонизм между двумя полярными измерениями человеческого существования, «чувственным побуждением» и «побуждением к форме», этими импульсами обладающими фундаментальной силой, преодолевается только их примирением в третьем, опосредующем, который Шиллер определяет как побуждение к игре. *** Два века назад Шиллер писал о том, что эстетическое творческое побуждение позволяет строить среди страшного царства сил и посреди священного царства законов третье радостное царство игры и видимости, в котором с человека снимаются оковы всяких отношений и он освобождается от всего, что зовется принуждением. Массовый человек в виртуальной реальности нынешнего века пытается сам построить такое царство, но без атрибута элитарности. Возможно, это путь обманчивой иллюзии. Поиск мира игры и сво- 100 Материалы международной конференции боды часто приводит людей всего лишь к экрану компьютерного монитора, этому пограничному пункту виртуального рая, пропускающему любого на свою территорию, но лишь единицам дающему равноценный путь обратно – от виртуальных успехов к реальным. Игра же остается игрой – где бы она не появлялась, ее собственный мир всегда был особым и несводимым к физической реальности. «Мы, – писал Оскар Уайльд, – порождения тревожного, бесноватого века, и куда нам бежать в такие роковые минуты отчаяния и надрыва, куда нам укрыться, как не в ту верную обитель красоты, где всегда много радости и немного забвения, в тот божественный град, в ту citta divina, как его называет старинный итальянский апокриф, где хотя бы на краткий миг можно позабыть все распри и ужасы мира, а также и печальный удел, выпавший в мире для нас»[19]. Нынешнее виртуальное Интернетпространство обращает похожий призыв к миллионам. Электронный мир радости и забвения, в отличие от обители красоты эстетизма, открыт для всех, кто хочет, по словам Ж.Липовецки, «забыть, хотя бы на минуту, о мертвой хватке судьбы, о реальностях жизни, об условностях и легкомысленно утвердить свое свободомыслие»[20]. Примечания 1. Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М., 1935. С.281. 2. Маркузе Г. «Эрос и цивилизация». К., 1995. С.190. 3. Шлегель Ф. Из «Атенейских фрагментов» // Зарубежная литература XIX века. Романтизм. М., 1990. С.58. 4. Гегель Сочинения. Т.12. Лекции по эстетике. М., 1938. С.68-69. 5. Там же. С.70. 6. Кьеркегор С. О понятии иронии. (ресурсы Интернет). 7. Там же. 8. Липовецки Ж. Эра пустоты. СПб., 2001. С.205. 9. Там же. С.226. 10. Sutton-Smith B. The ambiguilty of play, Harvard University Press, 2001. P.136. 11. Aarset E. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. The Johns Hopkins University Press, 1991. P.1. 12. Ryan M.-L. Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. The Johns Hopkins University Press, 2001. 13. Jenkins H. Fans, Bloggers, and Gamers: Media Consumers in a Digital Age. New York University press, 2006. 14. Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University press, 2006. P.171 15. Ibid, 131-148. 16. Уайльд О. Полн.собр.соч. Т.3. СПб., 1912. С.198. 100 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 101 17. Цит. По: Ryan M.-L. Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. The Johns Hopkins University Press, 2001. P.318. 18. Gaming As Culture: Essays on Reality, Identity And Experience in Fantasy Games / ed.: J. Patrick Williams, McFarland & Company, Jefferson, 2006. P.102104. 19. Уайльд О. Полн.собр.соч. Т. 4.СПб., 1912. С.142. 20. Липовецки Ж. Эра пустоты. СПб., 2001. C.231. Голик Н.В. доктор философских наук, профессор Санкт-Петербург Интеллектуальная элита: к истории вопроса Одним из условий существования культуры является наличие элиты. История ее формирования коренится в недрах античной культуры, которая создает особое, уникальное «пространство» – философские школы, где происходит формирование духовной аристократии – элиты. В культуре Древней Греции создается качественно новый тип времени – schole (досуг, свободное время), пребывая в котором, человек освобождается от привычных мирских обязанностей и приобретает особый топос существования. Имея досуг, можно мыслить абстрактно и свободно, можно ошибаться и предаваться иллюзиям, полагая при этом, что мыслить можно везде и всегда, обращаясь при этом к каждому и ко всем («адресату вообще»), оставаясь абсолютно бескорыстным и совершенно безнаказанным. Существовать такое пространство может лишь при одном условии – особой системе человеческих отношений, где отсутствует страх, а рождение мысли приносит бесконечную радость от самого процесса мышления, ради мысли самой по себе (блага самого по себе). Осуществляя усилие мысли и преодолевая ее сопротивление, человек «приподнимается» над землей в свободном парении, превращаясь в носителя «творческой миссии в этом мире»[1]. Таким образом, только при условии существования особой системы человеческих взаимоотношений, создающих философские школы – особое игровое пространство – возможно формирование интеллектуальной элиты. Философия здесь предстает не в качестве эзотерической области, доступной немногим, а в качестве «жизненной мудрости»: мудрец – это не просто мыслящий определенным образом, но и воплощающий выводы разума в реальной жизни. Практическая философия, исходящая из личности мудреца, становится по сути проектом личного самоосуществления, самоутверждения и самообретения, культивирования или воспитания в нем способности к духовной свободе. Истоки рождения античного идеализма «проявляют» понимание слова «идеализм» не в его профанно – обыденном смысле как мечта- 102 Материалы международной конференции тельность, наивность, донкихотство, построение воздушных замков, бездействие, созерцательность и т.п., а как волю к совершенствованию, как определение или установление морального права на свое пребывание в мире, исполнение своего предназначения в истории в качестве человеческого существа. В этом смысл античного требования «Познай самого себя», имеющего статус нравственного императива. Об этом свидетельствует платоновский диалог «Алкивиад-1», в котором обнаружение жизненных установок вплетено в проповедь. Как точно замечено: «В известной степени происходящее в этом диалоге, – самое важное событие: обращение к мудрости. Либо мы понимаем, что философия – это обращение к себе (вспомним Марка Аврелия), либо она остается более или менее внятной игрой слов и абстрактных понятий»[2]. Эволюция смыслов таких греческих терминов, как ἀριστεύς (наилучший), Пайдейя и Калокагатия свидетельствовали о необходимости стремления человека к гармонии эмоций и разума, о возможностях совершенствования его природных способностей и склонностей поведения. Например, первоначально слово «пайдейя» (от греческого pais – ребенок) обозначает воспитание детей и их образование, но впоследствии пайдейя это гармоничное развитие человека, в единстве телесного и духовного начал, реализующее все его способности и возможности. Пайдейя, как полагает Аристотель, отличает аристократа от людей иного происхождения. Отсюда современный смысл слов «аристократы духа», «интеллектуальная элита» – это лучшая, привилегированная часть класса или социальной группы, которая вырабатывает и сохраняет фундаментальные ценности, задавая стратегию культуротворчества, обеспечивая бесперебойную работу «механизма» культуры, возвышения человекообразного существа до состояния человечности – humanitas. Понятие humanitas, соотносимое с развившимся в эллинистический период значением слова «пайдейя», вбирает в себя целый спектр смыслов: человеческая природа, человеческое достоинство; человеколюбие, гуманность, доброта, обходительность; образованность, духовная культура; утонченный вкус, тонкость обращения, изящество манер, изысканность речи, учтивость, воспитанность; человеческий род, человечество. Применительно к массовому обществу, в рамках которого европейская культура существует вот уже более века, можно утверждать, что «если нет постоянного присутствия тех, кто задает реально образцы «высокого», а не их декларирует, то масса, включая несостоявшуюся «элиту», неизбежно будет существовать в режиме «самопереваривания», что особенно показательно для процесса перемен постсоветской России. Дело не в «запаздывании», а в отсутствии важных элементов конституции образованного сообщества[3], в его зависимости от институциональной структуры посттоталитарного общества, в его «слиянии» с властью, поскольку власть простирает свое могущество беспредельно[4]. Для подтверждения этого положения мало что даст «вход» в пространство непосредственной предметности социальных отношений и анализ цен- 102 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 103 ностных манифестаций. Ускользающая реальность глубинных структур повседневности, сотканная из кажущихся незначительными или не имеющих непосредственного отношения к делу, не принимаемых в расчет обстоятельств, обнаруживает себя на «выходе». На макроуровне – это отношение к России как к непредсказуемому сообществу; влияние силовых структур на руководство страны, рост агрессивности масс и коллективных фобий (ксенофобия). Феноменологический уровень социальной психологии отмечен возрождением патриотизма, характерного для периода изоляции (шовинизм); редукцией всего неприятного, массовым обращением не к реальному, а искусственно приукрашенному прошлому с соответствующей идеологией утраченного национального величия. Эти черты предстают в качестве одной из версий общественной примитивизации, «понижающей структуры национальной идентичности». На микроуровне открывается поле частных феноменов нашей жизни: «моральный релятивизм», «лживость», «халтура» как антропологический принцип, неспособность к работе в любой сфере, жажда «халявы»[5]. Социологи и социальные психологи полагают, что «все перечисленное – культурные общераспространенные адаптационные свойства к длительному (действующему на протяжении поколений) институциональному насилию, демагогии и принудительной уравнительности, ставшим частью современной русской национальной культуры[6]. Но истоки современности всегда в прошлом, и процесс «догоняющей» модернизации России и наложившиеся на него последствия тоталитарного режима, – а правильнее говорить об их взаимной детерминации или об эффекте резонанса, – будет ключевым в объяснении психологии и антропологии национальной элиты. В научной литературе интерес к проблеме модернизации России за последние годы активизировался. Появился ряд работ, посвященных рецепции идей европейского Просвещения в российской истории от эпохи Петра Первого до «перестройки» Горбачева. Один из основных выводов научных изысканий: Россия не смогла решить задачу формирования автономного морального индивида, что давало основания называть все этапы модернизации России «модернизацией без просвещения» (Г. фон Вригт). Это подтверждает и знаменитая формула В.И.Ленина о социализме (модернизации побольшевистски): социализм есть советская власть плюс электрификация всей страны. В этом определении – полное отсутствие социальных и этических моментов, которые составляют природу социализма: не равенство людей, не формирование нового человека, не уничтожение классов, не построение справедливого общества – только власть и техника[7]. Однако вопрос о том, что есть автономный моральный индивид и каков диапазон смыслов этого понятия, остается недостаточно освещенным. Впрочем, и сам вопрос о том, что есть Просвещение, остается до сих пор тем вопросом, «на который философия нового времени не была способна ответить, но от которого ей так никогда и не удалось избавиться. И теперь, 104 Материалы международной конференции вот уже два столетия, она его повторяет в различных формах. Ведь от Гегеля до Хоркхаймера или Хабермаса, включая Ницше или Макса Вебера, почти не встречается философии, которая прямо или косвенно не сталкивалась бы с этим вопросом: что за событие мы называем Просвещением (Aufclarung), по крайней мере, в какой-то части предопределившее то, что мы сегодня думаем и делаем? И на вопрос, что такое современная философия, можно ответить: эта та философия, которая пытается ответить на вопрос, опрометчиво подброшенный ей еще два столетия тому назад»[8]. Начало дискуссии было положено двумя статьями, опубликованными с небольшим интервалом в Германии (1784-1785) в одной и той же берлинской газете. Авторы, Мозес Мендельсон и Иммануил Кант, не были знакомы с содержанием текстов друг друга, но оба отвечали на замечание берлинского пастыря И.Цолнера о неразберихе «под названием просвещение». Цолнер полагал, что прежде чем просвещать, следует установить, что есть просвещение, ибо ответ на этот вопрос является таким же важным, как и ответ на вопрос, что такое правда. Мендельсон, отвечая И.Цолнеру, объясняет причину неразберихи не только со словом просвещение, но и со словами культура и образование: эти слова, пишет он, «появились в нашем языке совсем недавно. Как кажется, они принадлежат только книжному языку. Толпа едва ли понимает их… Между тем, прошло еще не так много времени, чтобы эти, …одинаковые по значению слова можно было бы различать, так как их словоупотребление не установило между ними границы. …Образование, культура, просвещение – это проявления общественной жизни; результаты усердия и усилия людей в стремлении улучшать свое общественное положение». Исходя их этой посылки, Мендельсон полагает, что образованным становится тот народ, который достигает гармонии общественного положения (благодаря искусству и усердию) с предназначением человека. Последнее есть мера и цель всех наших стремлений и усилий, отправная точка всех наших помыслов, «если не хотим потерять себя»[9]. При этом просвещение относится к культуре так, как теория – к практике, как познание – к нравственности, как критика – к мастерству. Следующая мысль Мендельсона вызовет, вероятно, полное замешательство у русского читателя: культуру, рассмотренную с внешней стороны, он называет политурой. Напомним, что политура (лат. Politura – полировка, отделка) – материал, применяемый для полировки изделий из дерева. Смысл термина Мендельсон поясняет так: истинного блага достигает лишь та нация, чья «политура является результатом культуры и просвещения, чей внешний блеск и утонченность имеют в своей основе подлинную добротность». Отмечая неодинаковое соотношение культуры и просвещения у различных народов (немцев, французов, англичан, китайцев), он считает образцом образованной нации греков, а наилучшим показателем образования, просвещения и культуры – язык. Разделяя предназначение человека на две сферы (предна- 104 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 105 значение человека как человека, и человека как гражданина), Мендельсон указывает на необходимость соблюдения меры в любой сфере. В противном случае просвещение и культура будут «неправильными», ослабляющими моральные чувства и проводящими к твердолобию, эгоизму, безверию, суеверию, анархии, расточительству, беспутству и рабству[10]. В статье И.Канта встречаем похожие суждения, но в целом ответ на вопрос «что есть Просвещение?» выводит мысль на совершенно иной уровень. Кант показывает, что и как именно необходимо сделать человеку, чтобы стать просвещенным. Он говорит о различии, которое вводит «сегодня» по отношению ко дню вчерашнему, и определяет Просвещение следующим образом: «Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого – то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого то другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом – таков, следовательно, девиз Просвещения»[11]. Подчеркнем настойчивое повторение выражения «по собственной вине» и слова «мужество». С первых строк своей статьи Кант указывает на роль личного самосознания: человек сам ответственен за состояние своего несовершеннолетия, следовательно, выйти из него и перейти в состояние совершеннолетия человек может лишь благодаря самому себе, своей воле, понуждая самого себя, прилагая для этого определенные усилия, освобождаясь от привычных «помочей» опекуна. Иначе говоря, Кант определяет «выход из состояния несовершеннолетия» как задачу осуществления человеком своего предназначения, а, следовательно, и как нравственную обязанность, вменяющую ему быть отважным не только в том, чтобы знать, что само по себе сопряжено с бесстрашием, но и быть способным совершать смелый поступок по своему разумению. Девиз Просвещения (Sapere aude!) как всякий девиз – это еще и наказ самому себе и другим: «отказываться от просвещения для себя и тем более для будущих поколений означает нарушить и попрать священные права человечества». В движении к просвещению люди являются не только действующими лицами, непосредственными участниками процесса. Одновременно с этим осуществление самого процесса возможно в той степени, в какой они совершают свой выбор, отваживаясь на добровольное участие. Переход к совершеннолетию, как полагает Кант, считается значительным большинством людей (и среди них – весь прекрасный пол!) не только трудным, но и весьма опасным, ибо быть несовершеннолетним чрезвычайно удобно! «Несовершеннолетие» обозначает состояния паралича воли, который заставляет нас полагаться на авторитет кого-то другого и его власть, вместо того, чтобы пользоваться собственным разумением: «Если у меня есть книга, 106 Материалы международной конференции мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою, и врач, предписывающий мне такой – то образ жизни, то мне нечего и утруждать себя. Мне нет надобности мыслить, если я в состоянии платить; этим скучным делом займутся вместо меня другие»[12]. Для этого просвещения требуется только свобода, и притом самая безобидная, а именно свобода во всех случаях публично пользоваться собственным разумом… «Под публичным же применением собственного разума, – пишет Кант, – я понимаю такое, которое осуществляется кем – то, как ученым пред всей читающей публикой. Частным применением разума я называю такое, которое осуществляется человеком на доверенном ему гражданском посту или службе». Иначе говоря, ученый как человек является существом свободным в пространстве досуга и размышлений, обучающий свободе размышления и отношению к вещи так, как того требует сущность вещи (а не чиновник от науки или бюрократ). Но ученый не свободен в исполнении обязанностей гражданина (налоги, дисциплинированность на службе и т.д.). Связь основных идей статьи Канта с его тремя «Критиками» очевидна. .Необходимость Критик, как известно, проистекает из того, чтобы определить условия, при которых применение разума является легитимным, устанавливая, что мы можем знать, что нам надлежит делать и на что нам позволено надеяться. В этом плане Просвещение предстает как взросление человечества, начинающего жить, применяя свой собственный разум. Как остроумно замечено: «Критика – это в некотором роде вахтенный журнал разума, вошедшего в свое совершеннолетие в эпоху Просвещения и, наоборот, Просвещение – это эпоха Критики»[13]. Пользуясь этой аналогией, можно сказать, что благодаря «вахтенному журналу» каждый момент происходящего в истории связывается с прошлым опытом. Это необходимо не только для совершения движения к намеченной цели с наименьшими потерями, но и для определения меры личного участия в этом движении. Последнее возможно при условии «коперниканской» революции собственного сознания, когда в центр мира на место «я» со своими «уникальными» страстями, помыслами, желаниями и капризами, ставится понимание сопричастности общему движению и ответственности за все происходящее. Тогда современность предстает не эпохой между прошлым и будущим (временной модус), а установкой сознания, включающей особый способ отношения ко всему, что происходит сейчас, свободный выбор, на который способен не каждый, особый способ мыслить и чувствовать, особый способ действовать и вести себя. Обращаясь к работе Канта с «высоты» начала XXI столетия, Фуко выявляет «укорененность в Просвещении философского вопрошания особого рода, проблематизирующего как отношение к настоящему, способ историчности, так и формирование себя как автономного субъекта». Для него важно подчеркнуть: «нить, связывающая нас с Просвещением – это не верность 106 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 107 началам его учения, а постоянное воссоздание некой установки, определенного философского этоса, который можно было бы определить как постоянную критику нашего исторического бытия (критическая онтология нас самих), как историко-практическое испытание пределов, которые мы можем пересечь, как работу нас самих над нами самими в качестве свободных существ»[14]. Стратегически представители интеллектуальной европейской элиты (Кант, Фуко) исповедуют одну и ту же генеральную идею: необходимость выхода из состояния «несовершеннолетия». Единодушны они и в «тактике», в понимании того, как это не должно быть, как это не должно делаться или совершаться: никакая революция не походит для дела Просвещения. Вдумаемся в пророческие слова Канта: «Посредством революции можно, пожалуй, добиться устранения личного деспотизма и угнетения со стороны корыстолюбцев или властолюбцев, но никогда нельзя посредством революции осуществить истинную реформу образа мыслей; новые предрассудки, так же, как и старые, будут служить помочами для бездумной толпы». Спустя двести лет Фуко поддерживает Канта: «историческая онтология нас самих должна отвернуться от всех проектов, притязающих на то, чтобы быть радикальными и глобальными. Ведь мы по опыту знаем, что стремление ускользнуть от системы текущих событий ради универсальных программ иного общества, иного способа мыслить, иной культуры, другого видения мира, на самом деле уже приводило к возобновлению самых опасных традиций»[15]. Опыт М.Фуко – это опыт мыслителя ХХ века, «богатого» беспрецедентными по масштабам и разнообразию социальных экспериментов. Самыми показательными и впечатляющими примерами претворения идеалов Просвещения в XX веке оказались Россия и Германия, заплатившие за это «голгофскую» цену. Выявив черты «неправильного» Просвещения, они подтвердили на практике справедливость абстрактных рассуждений Мендельсона и Канта. Предельная радикальность российской модификации марксизма внесла такие «краски», чудовищность которых не могла укорениться в голове даже самых смелых антиутопистов (Замятин, Оруэлл). Новый феномен социальной жизни, обозначаемый термином «тоталитаризм», становится к середине ХХ в. объектом пристального анализа западных мыслителей (Т.Адорно, Х.Арендт, В.Гуриан, К.Фридрих, и др.). Однако подобный результат социального эксперимента не был абсолютно непредсказуем. Еще на рубеже XIX-XX вв. был выявлена универсальная «природа» двух феноменов, характерных для этоса «праздного класса» (по Т.Веблену): демонстративного и состязательного потребления и приспособления к власти. Возникает вопрос, каков «механизм» превращения интеллектуала, претендующего на статус носителя «необыденного» сознания и заботящегося только о свободе «парения» мысли, в того, кто, по образному выражению Ж.Делеза, «выклянчивает» свою долю участия во власти и смыкается с нею? Ответ с использованием слова «корыстный интерес» в его 108 Материалы международной конференции марксистском понимании прояснит картину лишь отчасти. Дело заключается в том, что интерес всегда следует туда, и находится там, куда его помещает желание. Но желание, определяемое более «глубинным и рассеянным образом», чем желание, непосредственно связанное с интересом. Ключевым здесь будет слово инвестиция[16] – термин не только экономический, но относящийся также к языку бессознательного. Есть инвестиции желания, объясняющие, почему мы при необходимости можем желать в согласии со своим «корыстным» интересом[17]. В их числе находятся инвестиции желания, обращенные к миру власти, создающей в теле социального параллельное и кажущееся идеальным пространство понимания, где можно оставаться безнаказанным и где осуществим широкий диапазон впечатлений, переживаний, где утоляется жажда сильных ощущений и потребность в самоутверждении. Желая «угодить денежному классу, поскольку именно он создает репутации и раздает награды», интеллектуал «заражается» страстью к политическому и подчиняет ей свое ремесло. Так интеллектуал из «хранителя мудрости» и нематериальных ценностей, из того, кто противостоял практицизму обывателя, превращается в сторонника практицизма и его защитника. Это «превращение» еще в 1927 г. было названо французским политическим философом Жюльеном Бенда «предательством интеллектуалов». Примечания 1. Розеншток-Хюсси О. Раса мыслителей, или Голгофа веры // РозенштокХюсси О. Язык рода человеческого. М., 2000. С.17. 2. Светлов Р.В. Ямвлих Халкидский. Метафизика. Комментарии // Ямвлих Халкидский. Комментарии на диалоги Платона. СПб., 2000. С.36-37. 3. Гудков Л. Негативная идентичность. М., 2004. 4. Фуко М. Интеллектуалы и власть. Статьи и интервью 1970-1984. Ч.1. М., 2002. 5. Гудков Л. Негативная идентичность. М., 2004. С.12. 6. Там же. С.13. 7. Федотов Г.П. Сталинократия // Федотов Г.П.Судьба и грехи России. Т.2.СПб.,1992.С.89. 8. Фуко М. Что такое Просвещение // Интеллектуалы и власть. М., 2002. С.336. 9. Мендельсон М. О вопросе «Что значит просвещать?» (Перевод и вступ. статья М.Демина) // Философский век. Альманах 27. СПб., 2004. С.84. 10. Там же. С.86. 11. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Соч. в шести томах. Т.6. М., 1966. С.25-35. 12. Там же. С.29. 13. Фуко М. Что такое Просвещение? // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч.1. С.343. 108 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 109 14. Там же. С.344. 15. Там же. С.354. 16. Фуко М. Интеллектуалы и власть. Беседа с Ж. Делезом // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 1. С.68. 17. Жижек С. Культурный капитализм // Жижек С. 13 опытов о Ленине. М., 2003. С.161-162. Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант 08-03-00433а Гришаева Т.А. Ростов-на-Дону Эстетический аспект моды Мода является специфической формой ценностного освоения мира, и потому играет важную роль в эстетическом воспитании и самовыражении личности. Когда универсальные модные стандарты эмоционально воспринимаются и переосмысливаются в соответствии с индивидуальными вкусами, чертами характера, индивидуальными возможностями, имеет место сотворчество, эстетическое сопереживание. Поэтому, несомненно, мода удовлетворяет эстетическую потребность человека, но нельзя забывать, что это далеко не единственная ее функция. В эстетическом аспекте моду часто связывают со вкусом. Эстетический вкус - это способность человека к восприятию и оценке эстетических свойств явлений и предметов, к различению прекрасного и безобразного. Но претензии моды в области вкуса далеко не всегда состоятельны: нередко модный «вкус» противоречит эстетическому идеалу. Хотя в целом моду можно отнести к факторам, приобщающим индивидов к эстетической деятельности, влияющим на возвышение их вкусов, способствующим эстетически позитивной организации человеком своего внешнего облика, следует помнить, что посредством механизма моды могут распространяться различные неэстетические формы культуры, культурные образцы, не соответствующие развитому вкусу личности. Вместе с тем, нельзя не отметить, что в настоящее время само понятие вкуса претерпевает трансформацию. Если обратиться к традиционной эстетике, то там понятие вкуса формировалось либо активным субъектом, «гением», производителем эстетического продукта, либо группой ценителей, обладавших вкусом, иначе говоря - корпорацией, способной воспринимать, понимать образцы прекрасного и выносить о них оценочные суждения. В современном обществе массовой культуры и постмодерна с его идеей «смерти автора» «гений» – субъект, активно формирующий культурную среду, уравнивается в правах с рядовым зрителем, а высокие образцы культуры и 110 Материалы международной конференции искусства в широких социальных масштабах перестают выполнять свойственную им функцию. Современная эстетика, в отличие от традиционной эстетики, апеллировавшей к вечности, реактивна. Она «играет на впечатлении», когда задачей искусства становится не творить неподвластные времени образы прекрасного, а поражать, потрясать и ужасать публику. Культурные образцы, включая эстетические образы, задаются с помощью маркетинговых технологий и СМИ, которые, эксплуатируя существующую психологию восприятия, определяют, что в каждом конкретном случае должно быть поставлено во главу угла – функциональность или роскошь, спорт или гламур, минимализм или многообразие. В массовой культуре, предполагающей наряду с гетерогенностью вкуса его стандартизацию путем закрепления определенных стереотипов, суждение формулируется через отсылку к мнению другого. Независимо от объекта потребления (элитарный продукт или продукт повседневного спроса), человек формирует свое мнение, учитывая позицию другого и готов принять навязываемые ему модели вкуса. Поэтому любые усилия по формированию образцов вкуса у публики, как считает В.Подорога, являются иллюзией, а сама категория Прекрасного, перестает служить художникам ценностным ориентиром. Она подлежит замене категорией Возвышенного. Развитость или неразвитость эстетического вкуса находит выражение в индивидуальном стиле, который способствует раскрытию личностных качеств. Стиль – это определенная форма художественного выражения, узнаваемая через отличительные черты или характеристики. Причем, устойчивость индивидуального стиля, как предполагает М.Килошенко, закрепляется «под влиянием некоторых устойчивых личностных черт, прежде всего таких, как потребность в достижениях и творческий стиль мышления. Эти черты наряду с другими являются …личностными детерминантами процесса следования моде»[1]. Помимо личностных характеристик, на формирование индивидуального стиля в моде влияет художественный стиль эпохи. Как известно, искусство складывается в форму стиля, когда художественное творчество той или иной эпохи обретает внутреннее единство. Как же черты стиля проявляются в костюме? Приведем несколько примеров. Стиль барокко с его помпезностью, грандиозностью, экспрессивной театральностью нашел выражение не только в архитектуре, живописи, скульптуре, но и в торжественном и величественном костюме. Чарующие глаз переливы тканей, сияние драгоценных камней, богатство и изысканность узоров барочного костюма - выражение эстетического идеала эпохи абсолютизма. Господство классицизма на рубеже XYIII-XIXвв. вызвало соответствующие изменения в культуре внешнего облика: платья без кринолинов a la antic, туфли, напоминающие античные сандалии, вызывающе короткие стрижки или высокие «античные» узлы, обрамленные локонами, - демонстрируют уже 110 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 111 не только власть «духа времени», но и духовную свободу человека, осмелившегося сбросить веками освященные порядки и традиции. Черно-белую моду Шанель можно было бы сопоставить с конструктивизмом в живописи и графике того же периода, с минималистской архитектурой концертного зала в Стокгольме 1926 года. Ароматическим дополнением к новому стилю в искусстве - живописи Пикассо, Брака, Леже – стали духи Chanel №5 (1921), «синтетический» букет которых поначалу потребовал от модниц немалой смелости. Позднее авангардистский аромат этих духов стал доминантой десятилетия. В конце ХХ века культура становится мозаичной. Соответственно и мода от моностилизма переходит к полистилизму. Если в моде Модерна параллельное существование нескольких стилей практически не допускалось, то мода постмодерна вместила в себя все многообразие стилей, имевших место как в 40-е-80-е годы ХХ века, так и в предшествующие исторические эпохи. Иначе говоря, она стала заниматься не столько производством нового, сколько воспроизводством и стилизацией «уже бывшего». В этой связи понятие «стиль», столь любимое дизайнерами и модельерами, обрело дополнительный смысл. Под стилем в моде стали понимать «специфическую комбинацию выразительных средств, используемых для обозначения принадлежности к общности носителей ценностей»[2]. В эпоху постмодерна фантазия вновь возвращается в моду. Это особенно заметно на примере такого стиля как fusion, представляющего собой сочетание разных стилей, смесь люксовых вещей с демократическим ширпотребом, новинок – с тряпками из бабушкиного сундука. Стиль fusion первоначально декларировали «городские сумасшедшие», андеграунд, артистический бомонд, а потом его взяли на вооружение дизайнеры. Например, одежда бельгийских дизайнеров стоит огромных денег, хотя внешне тот, кто ее носит, может выглядеть как клошар. Существует мнение, что подобные стили изобретаются не только для того, чтобы выразить новое, постмодернистское отношение к миру, демократизм и независимость во взглядах, но и для того, чтобы служить различительными знаками, маркерами, которые будут понятны лишь избранным. Ведь следование стилю fusion, кроме денег, требует тонкого вкуса, им также сложно овладеть, как и сымитировать даже при материальном достатке[3]. Когда идет речь о моде как искусстве, то, прежде всего, имеется ввиду искусство создания модного костюма. Но, строго говоря, частью искусства, или по крайней мере сферой, наиболее к нему приближенной является лишь Высокая мода, или Haute Couture – в переводе с французского «высокое шитье», «уникальное творчество Домов моделей, задающих тон в международной моде»[4]. Именно Высокая мода, отвлекаясь от социальных и психологических потребностей, стремится воплотиться в эстетическом модусе «чистого искусства». Она освобождается от необходимости практического использования, а ее право на существование обосновывается исключительно 112 Материалы международной конференции ее эстетическим содержанием, чистой идеей, которая становится в Высокой моде «вещественным явлением»[5]. Многие авторы считают, что Haute Couture является частью искусства и развивается по его законам. Общность, прежде всего, видится в том, что Высокая мода отвечает потребности личностной самореализации в художественном плане. Творцы «Высокой моды» – дизайнеры – создают уникальные в своем роде модели. Они могут быть воспроизведены максимально в 56 экземплярах. При этом у кутюрье обнаруживаются те же амбиции, что и у художника. Современный создатель моды постоянно пытается возвыситься до мира искусства, уравняться в правах с гениальными художниками. Общий момент состоит и в том, что потребителями оригинальных произведений искусства всегда были самые богатые люди, принадлежащие к элите общества, которые также всегда находились и в первых рядах потребителей произведений Высокой моды. Например, модельер Эдуард ван Рейн создавший в Голландии свой Дом Haute couture, долгое время одевал семью Онассисов, королевскую семью Нидерландов. С другой стороны, великие дизайнеры время от времени вдохновлялись высоким искусством и его отдельными стилями, направлениями, в том числе авангардистскими. Пленер с его духом свободы был близок Г.Шанель. Ив Сен Лоран вдохновлялся живописными образами П.Пикассо, А.Матисса, П.Мондриана, творчеством М.Пруста. Дизайнерская работа Пьера Кардена «воплощала стиль курьезного бесполого модернизма середины 1960-х годов. При раскрое и пошиве одежды он работал как скульптор… Его интерес к искусственным материалам достиг кульминации, когда в 1968 году он создал свою собственную ткань из прочно соединенных рельефных частей геометрической формы»[6]. Близость современной Высокой моды сфере искусства находит выражение в ее театральности. Можно утверждать, что Высокая мода с ее дефиле и моделями-манекенщицами превратилась сегодня в разновидность шоубизнеса. Показы новых коллекций, как правило, проходят с использованием декораций, светоэффектов, музыки, изысканной хореографии. Так, устраиваемые в Милане известным итальянским брендом «Роберто Кавалли» шоу по количеству зрителей и атмосфере, царящей в зале, напоминают, скорее, рокконцерты, чем показы мод. Напротив, дефиле Дома «Ив Сен-Лоран» проходят в фешенебельных залах, в сдержанной атмосфере под классическую музыку. В свою очередь, авангардистские марки, чтобы привлечь внимание аудитории, используют различные эпатажные «приколы». Примером может служить демонстрация моделей Imitation of Christ в похоронном бюро и показ моделей спортивной одежды австралийской марки Tsubi в сопровождении выпущенных на подиум крыс. Не случайно, модели Haute Couture и оцениваются по критериям изобразительного искусства, где ценится оригинал, а не копия. Многие из них предназначены исключительно для показа, автором даже не предполагается, 112 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 113 что их будут носить в массовом количестве, или что вообще кто-то осмелится выйти в таких одеяниях на улицу. Напротив, художник, работающий в области Высокой моды, стремится оторваться от толпы, воспарить над ней. Главное правило, управляющее миром моды,— это правило тиража. Тираж одновременно выступает и как стимул, и как фильтр. Высокая мода производит штучные экземпляры платьев, сшитые для избранных клиентов по цене не менее 5000 долларов за каждое. Однако наряду с уникальными Высокая мода включает и такие лабораторные экземпляры, которые при необходимости могут с определенными коррективами пойти в серию. Они зачастую служат источником вдохновения и толчком для размышлений широкому кругу модельеров, работающих «на поток», производящих модели pret-aporter (буквально «готовые к тому, чтобы носить») класса люкс. Модели preta-porter класса люкс предназначенные не для подиума, а для ношения в реальной жизни, могут тиражироваться в 100-200 экземплярах, и их вряд ли уже можно рассматривать как чистое «искусство для искусства». В свою очередь, большую часть составят модели, связанные с серийным производством нарядов и украшений. Важно отметить, что если первоначально pret-a-porter воспроизводил стили Высокой моды, адаптируя их к более широкому кругу потребителей модной одежды и более низким ценам, (а более дешевые конфессии подражали, в свою очередь, pret-a-porter), то сейчас коллекции pret-a-porter вместе с народной музыкой и молодежными контркультурами превратились в новые источники стилей в Высокой моде. Фольклор вторгается в мир Высокой моды, аналогично тому, как некогда в романтизме фольклор органично вошел в искусство романтизма. Поэтому в современных условиях теория «нисходящей фильтрации», в соответствии с которой вкусы в моде формируются сверху вниз, от элиты к массам, практически не работает. Поэтому если прежде именно Высокая мода маркировала стили, определяла тип ткани, образы маркетинга, избирала идеологию, ассоциирующуюся с тем или иным сезоном и т.д., после второй мировой войны в моде происходят изменения. Параллельно развитию таких черт рынка одежды, как универсализация, демократизация, происходит оттеснение Высокой моды с передовых позиций. Таким образом, Высокая мода и мода, адресуемая широкому кругу потребителей, соотносятся как элитарное искусство и утилитарная массовая культура. Собственно мода начинается там, где появляется массовость моделей. Высокая мода, как и любое искусство, стремится к свободе творчества. Поэтому чертой высокой моды зачастую является экзотичность, экстравагантность. Рядовой потребитель может позволить это лишь в очень ограниченной мере, поскольку во-первых, у него нет средств, а во-вторых, массовая мода исключает желание человека быть «белой вороной». Моден тот, кто является, образно говоря, «самым черным» среди «обычных черных ворон». Материалы международной конференции 114 Мода как таковая находится во власти толпы, является частью массовой культуры, основа которой – массовый вкус. Она выступает «в качестве особого эстетического закона, управляющего массовым вкусом» [7]. Сила высокой моды в том, чтобы обозначить тенденции будущего с риском быть не понятой сегодня. Сила тех, кто делает на моде бизнес - в способности уловить и спрогнозировать поворот во вкусах масс, что дает шанс на большое количество продаж и, следовательно, на более высокие прибыли – главный критерий успеха. Чтобы эффективно править толпой, надо быть очень чувствительным к ее слабостям, надо чувствовать ее чаяния, предрассудки, страхи и надежды. Поэтому амбиции дизайнеров, работающих в области массовой моды, не идут далее мечты о превращении в «королей толпы», формирующих ее вкус и направляющих потребление. Наоборот, художник, творящий в области высокой моды, стремится оторваться от толпы, заглянуть в будущее, возвыситься до мира искусства, сравняться с великими художниками. Примечания 1.Килошенко М.И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты. СПб., 2001. С.154. 2. Ятина Л.И. Полистилизм: новый этап в развитии моды [Электронный ресурс]. Режим доступа: h t t p : / / s o c n e t . narod. ru/ Rubez/16-17/Yatina. Htm 3. Кто повелевает модой? Ануш Гаспарян и Александр Долгин выясняют устройство модных рынков // Критическая масса. 2004. № 4. 4. Терешкович Т.А. Словарь моды: термины, история, аксессуары. Минск : Хэлтон, 2000. 5. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. Опыт естественной истории человеческого познания. М., 1998. 6. Такер Э., Кингсвелл Т. История моды. М., Аст-Астрель, 2003. С.89. 7. Басин Е.Я., Краснов В.М. «Гордиев узел моды». // Мода: за и против. Сборник статей. Общ. ред. Толстых В.И., М., 1973. С.48. Данилссон Э. Санкт-Петербург Человек эпохи Постмодерна в скандинавской культуре Порой человеку случается ускользнуть от натиска вожделений, от тирании инстинкта самосохранения. А вот перспектива упадка способна иногда прельстить настолько, что человек добровольно отказывается от своей воли, впадает в апатию, восстает против самого себя и взывает о помощи к своим злым гениям. Он начинает суетиться, наваливает на себя кучу вредящих ему дел, обнаруживает в себе такую энергию, о которой и не подозревал, 114 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 115 – энегию распада. Он чрезвычайно горд этим, горд представившейся ему возможностью обновиться с помощью собственного разрушения. Сиоран. Искушение существованием. Художественная культура Скандинавии в последние три десятилетия вызывала и продолжает вызывать неподдельный интерес со стороны, как ученых, так и просто культурно заинтересованных людей. Будучи частью культуры Постмодерна, современная скандинавская культура максимально отображает идейные особенности существования ее творца – Человека. Базируясь на эстетике Постмодерна, художественная культура скандинавских стран смещает акценты с существа человека в общем на онтологическую составляющую искусства, зачастую лишая его определенной, привычной, ортодоксальной структуры (инсталляции, модернистский балет, литература «потока сознания»). Аксиологический сдвиг в сторону большей толерантности во многом связан с новым отношением к массовой культуре, а также к тем эстетическим феноменам, которые ранее считались периферийными. С точки зрения биосоциального подхода к восприятию человека в скандинавском обществе, можно заключить, что его «существование» жестко определенно рамками социально ориентированного «государства благоденствия», без которого не состоялся «человек комфорта, наслаждения и потребностей». Однако же, рассматривая человека как «художественный образ», как «Автора» культуры, можно прийти к заключению, характерному для европейской цивилизации XX столетия – «смерти субъекта», «невозможности человека». Датский философ XIX века Серен Кьеркегор первым ввел понятие «экзистенция» в том смысле, как оно понимается в современном дискурсе. В центре религиозно-философской концепции Кьеркегора стоит экзистенциальная истина. В трудах Кьеркегора уже постулируется будущее понимание сути экзистенциальной истины – истины парадоксальной и ироничной. Парадокс заключается в том, что мы знаем, что истина в классическом понимании должна быть объективной, в то время как истина экзистенциальная всегда субъективна, так как направлена на саму себя. Роль иронии заключается в том, чтобы относиться к себе, как у другому, и, таким образом, помогает осуществить проект самопознания. Во всем своем творчестве Кьеркегор отстаивал положение, что истина не может существовать вне мыслящего человека и неотделима от него. Разум пытался искать правила еще со времен Декарта, тогда как Кьеркегора интересовали исключения. Протест датского мыслителя против засилья всеобщей посредственности был реализован в объявлении приоритета частного над всеобщим. Частная жизнь для Кьеркегора – это духовный мир личности, имеющий в своем основании божественную истину, бытие в духе. Таким образом, религия стала наиболее адекватной формой экзистенциального отношения к миру. 116 Материалы международной конференции Ключевым понятием, характеризующим героя скандинавских романов является экзистенция, его, то есть героя, открытость миру, дефиниция его бытия в мире, то, как он себя определяет в сущем («Смерть – сама текучесть, и она пугает меня больше, чем даже вода, потому что вода – это одновременно и жизнь и смерть, и я боюсь и того и другого, ведь они одинаково текучи»[1], «Я по-прежнему не знаю, в чем состоит связь вещей и будет ли все в конце концов хорошо. Но я поверил, что есть важные вещи. Я верю в очищение души через игру и веселье»[2]. Герой романа «Молчание в октябре» цитирует Лесли Ховарда: «Я никто, а кто ты? Ты ведь тоже никто? Тогда мы с тобой пара. Как тоскливо быть кем-то, ты становишься общедоступным как лягушка…»[Молчание в октябре, 205] и сам говорит об своей экзистенции: «Я научился вести себя так, как все. Научился правилам игры, милой, невинной игры, которая ничего не значит, потому что, в сущности, может означать все что угодно»[Молчание в октябре, 207]. Героиня романа сравнивается с письмом: «Она знает лишь, что любая комната и любой город будут для нее западней. Так продолжает она идти, словно она – письмо, не посланное никем и не предназначенное никакому адресату, письмо всем и никому, которое постоянно распечатывается и постоянно снова запечатывается до тех пор, пока кому-нибудь не удастся прочесть, что в нем написано»[Молчание в октябре, 226]. Бытийственность героев носит пессимистический характер. Л.Густафссон в «Дне плиточника» утверждает, что «есть ли хоть одна жизнь, о которой можно сказать, что с течением времени она становилась лучше? Ведь дурные привычки множатся человек все легче идет на уступки, ведет себя все более противоречиво. Короче говоря, получается, что жизнь эта, по сути, всегда медленное сползание от некоего маленького порядка к все большему хаосу»[3]. «Совершенно очевидно, что жизнь отнюдь не намерена служить нашим целям. Мы цепляемся за нее, где удается, и делаем с нею, что можем. Но ведь на самом деле мы уже существуем, живем задолго до того, как приходит понимание, что с этим делать. Вся штука в том, что мы об этом не просили. А после вынуждены придумывать, что с этим делать»[День плиточника, 119]. В стихотворении Пану Туоми «Усыпальница» говорится о том, что «мы вечные изгнанники уже с колыбели. Как же рассказать о своей тоске словами, которыми мы выражаем любовь и ненависть?»[4]. В романе Й.Грендаля «Молчание в октябре» эта тема получает свое продолжение: «Я уже давно перестал спрашивать себя, счастлив ли я. Не было необходимости да и смысла спрашивать об этом. Ведь нельзя же быть счастливым постоянно, задыхаясь и захлебываясь в одном долгом судорожном спазме счастья с самого утра, когда встаешь с постели, до позднего вечера, когда ложишься и засыпаешь с идиотской улыбкой на слюнявых губах»[Молчание в октябре, 348]. Тема материального благополучия и выживания в условиях рыночной экономики давит на психику человека, создавая условия для его одиночества. 116 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 117 Деньги – основа скандинавского общества, бытие героев направлено на их получение. Э.Лу в «Лучшей стране в мире» пишет: «Деньги – это, что скрепляет, что составляет самую основу общества, то, что заставляет вертеться колесики, то, благодаря чему мы можем не заниматься охотой и собирательством, а посвятить себя абстрактным вещам, только деньги и делают это возможным…»[Молчание в октябре, 92-93]. Практически все герои романов не работают – они либо бездельничают [Наивно. Супер], либо занимаются временным трудом [День плиточника], надомной работой [Лучшая страна в мире]. Такое было бы невозможным без соответствующей социальной системы скандинавского общества, где пособие по безработице позволяет жить в свое удовольствие. Проблема скуки нашла отражение в скандинавской литературе – главный герой «Наивно. Супер» не работает и от безделья собирает детские игрушки, от скуки совершает неадекватные своему возрасту и социальному статусу поступки. В «Наивно. Супер» происходит встреча главного героя романа с маленьким мальчиком детсадовского возраста: «Я спустился на двор. Бёрре по-прежнему сидит в песочнице …Бёрре понастроил множество цилиндрических домиков. Наверное, он наполнял песком свое ведерко и, хорошенько утрамбовав песок, переворачивал ведерко вверх дном. Так и делают домики. Он предлагает мне, если я захочу, провести дороги и построить мосты. Конечно хочу! Некоторое время мы с ним сидим в песочнице, строим и переговариваемся. Это даже здорово. Снимает напряжение. Бёрре говорит, что у меня хорошо получается. Я говорю, что у него тоже получается хорошо. Мы с ним оба молодцы»[Наивно. Супер]. В романе «Лучшая страна в мире» подросток не посещает школу, отождествляет себя с членом тайной националистической организации и устраивает погромы. В большинстве своем скандинавы – замкнутые люди. Они боятся перемен[Лучшая страна в мире], но любят информацию – один атрибут массового сознания накладывается на другой: «… людям требуется информация, они хотят быть информированными, информированность для них самое главное, потому что они думают, будто бы информация поможет им разобраться в существующей неразберихе…»[Лучшая страна в мире, 111]. Возможно, их внутренняя закомплексованность связана с климатическими условиями. Они испытывают страдание от одиночества и нуждаются в человеческом общении. Скандинавы, как и другие европейцы, посещают психоаналитиков, так как в большинстве своем, они не уверены в себе, они – меланхолики; но меркантильный интерес присутствует во всех их жизненных ситуациях. Сигбьёрн (герой «Декоратора») посещая каждую неделю своего личного психиатра Фруде размышляет об украшении кабинета врача, то есть превратить Фруде из помощника в своего клиента, поставить его в зависимость от себя: «Но осознание того факта, что я прохожу курс психоанализа, стало бы более вещным и явственным, а за что иначе я плачу?»[5]. 118 Материалы международной конференции В каждом произведении присутствует тема дома, например: «Такое впечатление, что этот чудный дом воздействует на мысли»[День плиточника, 27]. «Но я хочу домой, я хочу домой во что бы то ни стало, а дома уже нет, нигде нет у меня дома, и в этом источник страдания, это и есть то самое, откуда берется вода, ее источник в том, что всюду дом, и нигде нет дома, что домой невозможно вернуться, потому что вернуться – значит, научиться жить без него»[Лучшая страна в мире, 180]. Дом воспринимается как ограничение непотаенности сущего, так как дом устанавливает определенные осязаемые и умопостигаемые границы индивидуального восприятия (в отличие от квартиры). Дом – определение человека в сущем и ограничение этого сущего («человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют»). Дом как самовыражение души. Жилище – это наша маленькая планета, наш райский сад, храм и сцена, где совершается мистерия каждого дня, где разыгрывается комедия обретений и радостей, трагедия горестей и потерь. В целостности, названной домом, все, подчиняясь определенному ладу, согласуется между собой, складывается в единую музыку индивидуальности владельца: «…что дом с идеальными пропорциями особым образом одухотворяется и становится живым существом. Что человек – это своего рода дом, а дом – человек»(Ингер Эдельфельдт. Дом, где жить невозможно)[6]. В традиционной литературе дом был цитаделью, убежищем, укрытием, где человек мог передохнуть, чувствуя себя защищенным от всего безумия окружающего мира. В современной же литературе «дом» обычно играет современно противоположную роль. Начиная примерно с 1960-х годов, дом и семья ассоциируется у писателей со злом, несвободой и пошлостью. В Скандинавии большое число разводов и неполных семей и детская психика, зачастую оказывается поломанной. У них нет традиционных семей: «В наше время почти не осталось семей в традиционным понимании. В наши дни семья может состоять из двух и более гомосексуальных личностей с приемными или рожденными в результате искусственного оплодотворения детьми или из супругов с таким сложным прошлым, что у их детей оказывается несколько разных отцов и матерей, и детки считают, что так и надо – иначе просто не бывает». [Лучшая страна в мире, 48-49]. В романе «Молчание в октябре» разрушился мир подростка. Он уходит из дома и поселяется на разрушенной «вилле». Здесь явная отсылка к Фрейду – если у человека в детстве была психологическая травма на тему развода родителей, то у взрослого будет предрасположенность к одиночеству[Молчание в октябре, 200]. Редким объектом в книге выступает семья, как художественный образ единения и стабильности. Все герои либо изначально одиноки, либо ими стали. Их рефлексия носит глубоко затяжной характер, они мечутся в поисках своего места в мире. Неслучайно это связано с иррационалистическими интерпретациями ХХ века учения философии жизни, когда человек должен сам определить свое 118 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 119 бытие, свое Я, и поэтому всю ответственность за неправильный выбор он несет сам, когда как в классической философии человека определяло общество и бытие, и он играл по его правилам. Этот груз ответственности лежит на душе героев, порождая у людей с сильной психикой – депрессии, а со слабой – серьезные душевные расстройства и самоубийства (Скандинавия по их числу лидирует в мире). Вторая половина ХХ века характеризуется ростом юношеских (преимущественно) самоубийств. Смерть – главное оружие человека против общества, где закреплен мораторий на смерть. В романе «Декоратор» Т.Эгген отмечает, что «среди норвежцев верят в ад сорок четыре процента, а среди наших соседей – только три»[Декоратор, 422]. Героям свойственна рефлексия, отчетность перед самими собой в совершенных или перспективных поступках, и эта рефлексия носит характер двойной: с одной стороны, это отчет, с другой стороны – это новая информация, доносимая до читателя и имеющая отличный от отчета смысл. Герой Лу «Наивно. Супер» говорит о такой рефлексии: «Лучше всего мне работается по утрам, но я всегда забываю закрыть дверь между спальней и кухней. В прихожей я достаю из-под двери газету и, возвращаясь на кухню, на ходу пробегаю первую страницу. Газету я оставляю лежать на столе и, голый, выпиваю стакан воды – натощак вливаю стакан воды в голое пузо»[Наивно. Супер, 32] Грендаль «Молчание в октябре» повторяет эту мысль: «Был ли я счастлив? Или это все же было не более чем утешающее возмещение, это будничное счастье, которое способно было выносить и свет дня, и ежедневные заботы, это терпеливое и скромное, зиждящееся на обывательских радостях счастье, которое можно и стирать, и гладить?»[Молчание в октябре, 200] Герои рефлексируют приблизительно в одном направлении, и можно сказать, что вектор их рассуждений сводится к упрощению и уменьшению событий, присущих человеку. «Я стараюсь понять свое состояние, но отдельные кусочки никак не хотят складываться в целостную картину. Я не совсем понимаю, что со мной происходит. За последние недели многое изменилось».[Наивно. Супер, 46]. Тем самым они затягивают себя в порочный круг размышлений и мыслят одинаковыми категориями. Сознание героев «захламлено» одними и теми же наборами шаблонов, большая часть которых безнадежно устаревает в первые секунды существования явления (смерть близких («День плиточника»), рождение ребенка («Молчание в октябре»)) и отягощает обладателя. Образ видения мира у них предельно стандартизирован, что позволяет говорить об интерсубъективности героев, то есть их редуцированности и деградации к некому общему образу, с определенными атрибутами и акциденциями, унифицированным сознанием, бытием и универсумом. Например, с одной стороны, в романе «Серый шелк» Туве Янсон[7], ее героиня покупает уже готовые шаблонные открытки, напечатанные миллионным тиражом, хотя раньше она делала их сама. С другой стороны, у них присутствует идея безответственности, так как строение универсума снимает с них подотчетную деятельность: «Я не просил родиться. Как и никто из лю- 120 Материалы международной конференции дей. При мысли об огромности и сложности Вселенной я чувствую себя таким маленьким и свободным от всякой ответственности. Это вызывает у меня такое ощущение, словно единственное, что имеет для меня смысл, - это постараться получить удовольствие от жизни…»[Наивно. Супер, 139]. Поэтому, герои по сути своей одинаковы и легко бы смогли понять друг друга, если перенести их в один литературный рассказ или спектакль. Это и отражено в литературных текстах – герой безлик, его почти ни описывают внешне, ни подробно внутренне, но безликость эта гендерная – женщины дифференцированы до определенной меры. С этим и связано переход к употреблению слов с унисексуальной окраской: «Предыдущий клиент рассчитался…»[Лучшая страна в мире, 102] Скандинавы претендуют на самобытность, но при этом потеряли индивидуальность. «Имело ли вообще смысл стремиться к индивидуальности и достоверности в мире, где все ездят на одинаковых японских автомобилях»[Молчание в октябре, 238], «Слушая Сибелиуса, утверждаемся в своей самобытности»[Лучшая страна в мире, 53]. Они все подвержены местячковому национализму в прикладном смысле этого слова. Они недолюбливают иногородних, иностранцев, иммигрантов, их культуру и привычки. «Сибелиус – это скандинавская музыка. Ладно, финская, но ведь финская – это тоже скандинавская, потому что финское – это и скандинавское, а скандинавское выражает наши скандинавские души, мы все, как я понимаю, узнаем себя в этой музыке, для того мы и оплачиваем лицензию, чтобы всегда, каждый день, узнавать себя, утверждаться в своей самобытности, а если в нас хотят утвердить немецкость, так лучше уж сразу оплачивать лицензию немецкого радиовещания…»[Лучшая страна в мире, 53], Т. Эгген «Декоратор»: герой комплексует из-за своего акцента, но при этом сам осуждает иммигрантов: «У скандинавов часто возникают проблемы с позвоночником, если они готовят на столах, созданных для … чуть было не сказал “чернозадых”»[Декоратор,77]. Героям скандинавских писателей присущ эгоизм, сводящийся к ярко выраженному индивидуализму, граничащего порой с безумием одиночества и «шизофренизацией» мыслей. Герои мыслят маниакально, параноидальные образы можно встретить во многих произведениях: очень многие зацикливаются на «idée fixe»: «Никогда в жизни я не брал чужого без разрешения. Для меня честность всегда была идеей фикс. . . всю свою жизнь я боялся полиции. Это, наверное, связано с моей честностью. Боялся и тогда, когда не делал ничего плохого, чтобы как-нибудь не угодить в обвиняемые… можно ведь оказаться в ненужном месте, или случайно стать владельцем краденого, или попасть на дороге в какую-нибудь переделку …я решил, что убью себя, если полицейские меня поймают»[8]. Героям присущ нарциссизм и гедонизм по отношению к собственному телу. «Человеку свойственно жить обнаженным. Подавляющее большинство ведущих норвежских модернистов и архитекторов-функционалистов тридцатых годов были убежденными нудистами. 120 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 121 Они видели связь между прагматичностью в архитектуре и производстве мебели и тем, что летом человек скидывает с себя лишние тряпки»[Декоратор, 429] Без собственной душевной жизни даже банальная музыка становится суррогатом, и главный герой «Декоратора» глубоко взволнован песней, которую исполняет Уитни Хьюстон, — «I’ll Always Love You» («Я буду всегда тебя любить»). Он считает, что песня приближается к катарсису и содержит чрезвычайно важное послание. Встречаясь с Сильвией он концентрируется на отождествлении ее с этой песней. Ее универсальное послание пересекает все границы и внушает человеку надежду, что нам еще не поздно стать лучше и добрее. Поскольку мир так устроен, что невозможно сопереживать всем, мы можем всегда сочувствовать хотя бы самим себе. И это очень важное послание, поистине ключевое. Однако эта же песня будет звучать, когда он убьет ее. Однако, несмотря на все, у героев «есть будущее» – например, «В раннем детстве он усвоил христианскую заповедь, что отчаиваться грешно»[День плиточника], «Огонь никогда мне не угрожал и не поселялся в моей душе, как вода, которая мне угрожала и поселилась в моей душе». [Лучшая страна в мире, 313], «Пожар всех сильнее, а вода – бессильный карлик»[Лучшая страна в мире, 314], роман «Лучшая страна в мире» заканчивается предложением: «В пожаре сгорает мое одиночество» [Лучшая страна в мире, 315]. «Я верю в очищение души через игру и веселье» [Наивно. Супер]. Примечания 1. Лу Э. Лучшая страна в мире / Пер. с норвежского И.Стребловой. СПб., 2003. С.144. (Далее ссылки в тексте). 2. Лу Э. Наивно. Супер / Пер. с норвежского И.Стребловой. СПб, 2004. (Далее ссылки в тексте). 3. Густафссон Л. День плиточника / пер. со шведского Н.Федоровой. М., 2001. C.39. (Далее ссылки в тексте). 4. Этот безумный разумный мир (Литература современной Финляндии) / Сост. и ред. Юрье Варпио, Анне Пуумала. СПб., 2000. С.40. 5. Эгген Т. Декоратор / пер. с норвежского О. Дробот. СПб., 2004. С.330. (Далее ссылки в тексте). 6. Эдельфельдт И. Удивительный Хамелеон / Перевод со шведского М.Людковской. 1-ое изд. М., 2001. С.210. 7. Янсон Т. Серый шелк / пер. со шведского Л.Беляковой, Л. Брауде. СПб., 2005. С.8. 8. Верронен М. Черепок // Этот безумный разумный мир (Литература современной Финляндии) / Сост. и ред. Юрье Варпио, Анне Пуумала. СПб., 2000. С.137. Дементьева Е.В. 122 Материалы международной конференции Санкт-Петербург Синтез «массового» и «элитарного» аспектов искусства в творчестве Л.Ноно Как правило, принято противопоставлять «элитарность» и «массовость», более того, если творчество какого-либо художника, композитора, режиссера определяют через одно из данных понятий, то это практически полностью исключает его возможную связь с «противоположным лагерем». Существуют сравнительно хорошо обозначенные критерии, согласно которым производится подобное разделение, но, сколько бы ни разводили «массовую» и «элитарную» культуру, вплоть до тривиального, когда говорится, что «элитарное» – это нечто, не относящееся к массовому, «конвейерному» производству, или наоборот: «массовое» – то, что распространено среди «обыкновенных» людей, не допущенных к «элите», очевидно: они обе возникли в одно время и принадлежат современности, поэтому невозможно говорить о «массовом» или «элитарном» без мгновенного соотнесения их друг с другом. Искусство также может рассматриваться с точки зрения «массового» и «элитарного» аспектов, причем последний из них, в XX веке зачастую функционирует в качестве «штампа», применяемого критиками при анализе творчества мастеров отвергнувших прежние каноны построения произведений, и посвятивших себя поиску новых, «авангардных» стратегий развития художественного языка. Легче всего объявить то или иное произведение «элитарным» (т.е. обремененным излишним «интеллектуализмом»), когда не понимаешь ни его значения, ни процессов, обусловивших его появление. Не избежала таких обвинений-характеристик и музыка, обнаружившая, впрочем, как и любое другое искусство, на рубеже XIX – XX вв. сильнейшую деформацию своего «языка». Проиллюстрировать взаимодействие «элитарного» (как «не всем доступного») и «массового» (как направленного на самый широкий круг зрителей) начал позволяет творчество итальянского композитора Луиджи Ноно (1924 – 1990). Принимая додекафоническую традицию, идущую от А.Шенберга, развивая и дополняя ее, Ноно работает в русле серийной и сонорной музыки и, таким образом подпадает под определение «элитарного» творца; «массовое» начало выражается по преимуществу в идеологической ангажированности его искусства, так как марксистская философия оказала основополагающее влияние на мышление музыканта. Прежде чем переходить непосредственно к обозначенной проблеме, необходимо кратко указать на то, что же изменилось в мире искусства с появлением марксизма. Начиная с эпохи Возрождения, художник, несмотря на утверждение приоритета авторского начала в формировании произведений (уже не бог, благодаря своей всеобъемлющей благодати создавал нечто посредством человека, но сам человек, развивая бесчисленные свои возможности, мог 122 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 123 уподобиться богу) все-таки мыслит искусство либо в рамках установленных церковью традиций (наследие средних веков), либо направляет свою деятельность на службу светской власти. Так как возможность существования автора и его работ (живописных, музыкальных и т.д.…) оплачивается подчинением их интересам и, возможно, вкусам правителя и его двора, позднее же – господствующего сословия. И только начиная с середины XIX в. появляется иная функция искусства, совершенно не свойственная ему ранее – социальная. Если во времена Баха композитор мог быть только композитором, и его обращение к не касающимся напрямую собственной сферы деятельности предметам, т.е. – теории музыки, считалось бы неслыханной дерзостью, то на примере Вагнера видно как постепенно сближаются искусство и социальная борьба. Художник теперь вправе рассуждать о недостатках и проблемах общества и культуры, то есть о том, чем до этого занималась исключительно философия. Итак, марксизм своим утверждением, что любая деятельность человека, пока не будет достигнут единственно справедливый общественный строй, должна выражать собой борьбу с буржуазным классом сводит, таким образом, назначение искусства, а, следовательно, и музыки до инструмента, с помощью которого проводится подобная битва, а точнее – идеологическая пропаганда. На фоне других композиторов, творивших в это же время (Д.Кейджа, П.Булеза, К.Штокхаузена), Ноно сильно выделяется благодаря своим политическим взглядам, причем характерно, что и сам он осознает и обосновывает свою позицию. Так он упрекает своих коллег в «отсутствии перспективы новой социальной функции музыки и научно-исторического анализа»[1]. Кроме того, не только для создания нового общества требуется новое искусство, но и для самой возможности последнего (поиска стратегий развития музыкального языка, технических приемов) необходима, как считает Ноно, четко выраженная идеологическая направленность: «какой смысл имеют слова о «человеческом слушании», о новых акустических пространствах, новых кругах, новой психологии слушания, новой технике, если не связывать их с новым социальным строем человечества, который, не основывается на эксплуатации, частной собственности, неокапитализме и неоколониальном господстве, короче говоря, – с социалистическим строем (или строем близким к нему)…»[2]. Бесспорно, как коммуниста Ноно не устраивал существующий режим, но не менее капитализма критиковал он и буржуазную культуру, которая поддерживала и оправдывала сложившееся общество. Следовательно: «надо создать такую концепцию преобразования действительности,… которая наряду со сдвигами в области средств производства и производственных отношений, учитывала бы возможность развития новой функции культуры. Представление о культуре как выражении духовной жизни общества должно опираться на политические и экономические реалии»[3]. Если в социальной сфере контроль над рабочим происходит с помощью частной собственности, 124 Материалы международной конференции механизмом и предпосылкой воздействия которой является отчуждение (от продукта труда, от себя самого, от другого человека…): «частная собственность оказывается, с одной стороны, продуктом отчужденного труда, а с другой стороны, средством его отчуждения, реализацией этого отчуждения…»[4], то в области культуры положение также не многим отличается. Иллюстрируя создавшуюся ситуацию, Ноно пишет: «те, кого именуют художниками, творят в изоляции, не имея непосредственного контакта с потребителями своей продукции, они работают на анонимного заказчика, отдаляющего их от общества. Это отчуждение усугубляется специфической особенностью империализма – поощрением узкой специализации. Рынок сбыта, на который художник работает, заставляет его отключиться от всего окружающего»[5]. Поэтому то производство музыки (искусства вообще), полностью подчинено интересам капитала и фабрикуется в зависимости от его спроса, а мероприятия, на которых производится демонстрация новых произведений, функционируют аналогично бирже. Так – «за плотной дымовой завесой эстетической болтовни целых полчищ буржуазных критиков и “экспертов” проводятся коммерческие сделки. Провозглашая в своих писаниях очередного “гения”, критики прекрасно понимают, что тем самым устанавливают его “курсовую стоимость”»[6]. Из данного рассуждения с необходимостью следует вывод: эмансипировавшись от контроля представителей духовной и светской власти, искусство попадает в еще более жесткую зависимость от диктата буржуазии, сосредоточившей в своих руках финансы, которыми время от времени «подкармливает» избранных ею художников. Альтернативу этому Ноно видит в том, чтобы, объединив усилия искусства и политики направить их на создание нового общества и соответственно – культуры, так как одно без другого с очевидностью не смогут существовать: «интеллигенция осознает, что культура есть существенный элемент в борьбе рабочего класса за власть; вместе с тем культура тесно связана со стремлением к новому, более современному, совершенно устроенному обществу»[7]. Значит, новое искусство должно создаваться, прежде всего, в расчете на иную аудиторию – крестьян, рабочих, всех, борющихся с прежним режимом – именно она и позволит ему освободиться от гнета капиталистического рынка. Произведения подобного искусства необходимо, следовательно, формировать исходя из той функции, которую они будут иметь в жизни этих людей. Теперь музыкант не просто музыкант, он – солдат, воюющий за счастье нового отечества. Поэтому Ноно решает уйти от старого наименования – «художник»: «мы отвергаем концепцию, на которой ныне зиждется это понятие. Мы считаем себя продуцентами культуры, находящимися в состоянии воинствующей политической борьбы. Живописец – не только живописец; музыкант – не просто музыкант! Оба они в первую очередь товарищи, принимающие своим творчеством активное участие в 124 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 125 организационной борьбе и отдающие свои специальные способности музыканта, артиста, художника в распоряжение своего класса»[8]. Вместе с тем, ратуя за возникновение «небуржуазного» искусства, Ноно отнюдь не требует уничтожения положительного опыта предыдущих эпох, накопленного историей – такой опыт может вполне органично вписаться в новую культуру и придать ей стимул для дальнейшего развития. Композитор обязан изучать как историю музыки, так и современные эксперименты: «чтобы развивать те средства, совершенствовать те выразительные приемы, которые могут нам пригодиться»[9], и далее – «революция не может начинать с нуля: она нуждается во всей прогрессивной культуре прошлого»[10]. В создании нового искусства, культуры Ноно отводит доминирующее положение разуму, из чего не раз возникали упреки в чрезмерном «интеллектуализме» по отношению к его творчеству, в частности – в общем для них обоих снобизме от Бруно Мадерны. Но сам композитор считает их несостоятельными и возражает следующим образом: «мы имеем множество примеров из истории, когда человек в одиночестве, изолированный изменил эпоху (я имею в виду Галилея…или последние дни Бетховена, Шенберга и т.д.). Существует порой настоятельная потребность побыть одному, не так как отшельник, но чтобы иметь возможность подумать, поразмышлять, покритиковать – в том числе и себя самого, послушать, еще раз прокрутить все и попытаться найти нечто новое»[11]. Поэтому «обвинение в заумности мне кажется абсолютно банальным, оно связано с вульгарно-марксистской социологией; композиторы такие же специалисты и так же не могут обойтись без рациональности и интеллекта…»[12]. На первый взгляд, может показаться, что благодаря подобной позиции Ноно входит в противоречие с собственным утверждением о необходимости создавать произведения в новом (социальном) контексте исключительно в расчете на воспринимающего. Если рабочие не могут де уловить всю тонкость его интеллектуальных исследований, то им такая музыка будет чужда и малопонятна. Однако сам Ноно отмечает, что сложность нового художественного языка вовсе не затрудняет восприятия рабочих, ибо общность идей, а также актуальность темы, помноженные на искреннее желание понять, делают его работы вполне для них доступными: «После того, как рабочие прослушали мою музыку (которую буржуазные музыкальные критики вовсе и не воспринимают как музыку, аттестуя ее как шумы), оказалось, что они ее восприняли без труда и что вопрос о сложности восприятия большого значения не имеет»[13]. С другой стороны, необходимость иного художественного языка, а возникнуть он может лишь благодаря насыщенной рассудочной деятельности, определяется невозможностью конструирования без него самого нового искусства, которое в свою очередь является необходимой составляющей новой культуры. «В пятидесятые годы, – пишет Ноно, – образцом для меня был Маяковский: мне 126 Материалы международной конференции хотелось объединить зарождающиеся идеи с языком, способным возродить чувства, открыть тебе пути к самовыражению. Это было время нашего противостояния социалистическому реализму»[14]. Утверждая необходимость изучения, как истории музыки, так и культурного наследия с одной стороны и непременное использование нового музыкального языка – с другой, композитор прекрасно воплощает эту идею в своем творчестве, в частности – через обращение к античным сюжетам. Так как серийная, сонорная и т.д.… музыка для Ноно суть не просто новые, увлекательные стратегии развития музыкальной мысли, но, прежде всего те технические приемы (оружие классовой борьбы), с помощью которых он может способствовать рождению действительно истинного, искусства, то и возникновение «трагедии слухового восприятия» или «трагедии слышания» («tragedia dell’ ascolto») – «Прометей» связано ни в коем случае не с очередной попыткой реконструкции древнегреческого театра, но с желанием поговорить еще раз о современных ему социальных (культурных) проблемах, воплотив свои раздумья в мифологических образах. Более того, лишь, поскольку фигура борца-титана соответствует общему порыву Ноно противостоять сложившейся гнетущей его атмосфере – «в начале шестидесятых годов европейские страны закрыли двери перед моей музыкой»[15] – а также изобразить «взаимоотношения массы с яркой, не похожей на других личностью, которая ищет ответы на сущностные вопросы бытия, ошибается, но продолжает поиск, не имея путеводной звезды»[16], постольку, вероятнее всего, он и выбирает именно этот миф. Будучи сравнительно поздним произведением (1984 – 1985) «Прометей» явил собой ту наивысшую точку развития художественных поисков, на которой происходит переосмысление всей проделанной работы, «всего образа существования музыканта сегодня, интеллектуала в этом обществе, для того чтобы открыть новые пути познанию, воображению. Некоторые схемы, некоторые мысли уже отошли в прошлое; сегодня же необходимо как можно более сильно пробуждать воображение»[17]. «Направление развития Прометея (которое мы долго обсуждали в книге Verso Prometeo, изданной «Рикорди» в 1984 г…) можно было бы определить как музыкальнофилософское. Основа слышания (dell’ ascolto) [осуществляется] через «ту тишину, что больше, нежели жизнь»…основа слышания способна расколоть вынуждающие поклоняться идолам оковы образа, повествования, последовательности времени, ограниченных беседой слов – итак, эта основа неразличимо сплелась и трансформировалась в символ этой Открытости, этой чистой возможности или виртуальности, знак которой продуцирует каждая вещь, каждое существо, и в стольких качествах демонстрирующей свое существование, сколько предоставляет ей ее происхождение из ничего»[18]. Так комментирует композитор концептуальные и структурные посылки, послужившие стимулом для возникновения «Прометея» в одноименном очерке. 126 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 127 Помимо собственно трагедии Эсхила Ноно использовал для своего произведения еще тексты таких поэтов как Вергилий и Гёльдерлин, а также сочинения философов шестнадцатого века, Ницше и Беньямина. Благодаря подобному синтезу – фонетическому и концептуальному – Ноно задумал «преодолеть все формы рационализма, догматизма и избитой научности», кроме того, – «следует постоянно изобретать новые возможности существования. Как сказал Мюзиль: “Если существует чувство реального, должно также быть и чувство вероятного”»[19]. Для Ноно Прометей – не просто герой, восстающий против существующего миропорядка, он представляет собой символ, сосредотачивающий в себе революционных дух всех эпох и культур, а естественным и необходимым следствием развития этого духа должен был бы явиться коммунистический строй. Прометей – не только божество из-за своей чрезмерной любви к людям принесшее им огонь, и научившее их всем искусствам, а затем подвергшееся за это наказанию, так как не достойно бога заботиться о преходящем, он также является олицетворением нового человека, может быть даже «сверхчеловека», нового общества. Подобными образами: людей, жертвующих своей жизнью в залог будущего прекрасного мира, насыщенны практически все произведения Ноно: «Прерванная песнь», «Нетерпимость 1960», «Под яростным солнцем любви»… Как уже было отмечено, Ноно не представляет дальнейшее развитие искусства, искусства включенного в социальную борьбу, без радикального переосмысления всех его составляющих – как на техническом, так и на идейно-тематическом уровне. Относительно первого – это разработка серийной техники со включением в нее различных сонорных (поиск новых созвучий, тембров) элементов и конкретной музыки представляющей собой те же эксперименты со звуком, но на материале шумов, имеющих природное возникновение. Что касается второго уровня, то сюда в частности относится формирование новой концепции слушания, связанной с трансформацией, расширением, «выворачиванием» музыкального пространства, во многом как раз и обуславливающим подобное слушание. Новое слушание не в коем случае не ограниченно лишь физикоакустическим аспектом, оно представляет собой нечто большее, скорее всего – это образ мышления, или даже жизни. Становлению теоретических воззрений композитора способствовало в большой степени его обучение у Бруно Мадерны, проходившее на заре творчества Ноно. Бруно, по словам Ноно, учил «мыслить музыкой, мыслить музыку в различных комбинированных временах, как, например, в загадочных канонах нидерландцев…»[20], иными словами: «Мыслить ее не в тот момент, на который она приходится, а в различных, отличающихся друг от друга моментах. Речь шла о том, чтобы преодолеть идею временнóй прогрессии, понятой как движение слева направо. Согласно такой более текучей и гибкой перспективе, ты в рамках одного произведения открываешь, к примеру, 128 Материалы международной конференции после пятнадцати минут звучания связь с событием, произошедшим семью минутами раньше, и так далее, при помощи непрерывной сети отсылок, которые ведут вперед, назад, пересекаются, накладываются друг на друга, спонтанно разбросанные по разным точкам в разных направлениях»[21]. Исходя из этого рассуждения Ноно делает вывод о том, что единственного времени (в рамках постоянно разворачивающегося таким образом сочинения) не существует: «...неверно, что через две точки проходит одна соединяющая их линия. Очень часто линии выходят из начальной точки, но никогда не доходят до конечной»[22]. Именно из подобного восприятия бесконечного количества возможных путей развития, скрытых в самом художественном материале и возникает новое слушание. Поэтому-то: «Главный герой «Прометея» – звук»[23]. Критикуя «кризис слушательского восприятия», которое является следствием вышеперечисленных недостатков буржуазной культуры, Ноно отмечает, что необходимо «не писать, но слушать. Я полагаю это условие как фундаментальное для всей жизни. Должно слушать инаковости, различия, разнообразие. Не искать согласия, успеха, одобрения, но попытаться услышать разнообразие, так как здесь и заключена возможность нового взрыва»[24]. Новое слушание характерно не только исключительно для музыки, но также для живописи, архитектуры, словом – для любого искусства и знаменует собой смешение культурных, исторических пластов-пространств: «Это так же как если бы слушать сегодня великую венецианскую школу – Сан Марко, Габриэли, Виларета; слушаешь различные пространства, различные времена, различные знаки – так как слушаешь в данный момент изменение акустического сигнала проходящего не через синтез, но через анализ вплоть до полного растворения в пространстве. Таким образом, пространство становится композиционным элементом. Не известно когда будет начало и когда – конец… его можно понять лишь post factum»[25]. Процесс освоения новых категорий связан с долгими и напряженными поисками, работой, впрочем, как и формирование всей будущей, революционной культуры. В связи с этим Ноно говорит: «Я не верю в непосредственное слушание, в непосредственное видение или прочтение. Я верю в необходимость медленного проникновения в сущность феноменов. Иногда считают, что они все поняли, но на самом деле они схватили лишь самые поверхностные элементы. Можно критиковать простоту или натурализм Рафаэля, не замечая при этом скрытой геометрической концепции. Добиваться озарения, проницательности – это необходимое условие познания, гнозиса»[26]. Как уже было отмечено, достижение нового слушания было бы невозможным без существенной трансформации того пространства, где воспроизводится эта музыка. Здесь «буржуазная эпоха слушания» утверждается за счет гомогенного пространства и строгой фиксации мест исполнителей и зрителей. «Унификация пространственного слушания есть 128 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 129 результат сведения к единообразному управлению и измерению геометрии, обостренной в некоторых случаях возможностями отражения. С сосредоточиванием музыкальных опытов в театрах и концертных залах, безвозвратно исчезает пространство, соответствующее тем местам, где перемешиваются в постоянном переворачивании бесчисленные геометрии… Вспомните только базилику Св. Марка или Собор Парижской богоматери…Бесконечное архитектурное разнообразие этих храмов!…Однако следует отметить, что практически во всех хоры, органы были расположены на полувысоте: музыка исполнялась по вертикали, она воспроизводила различные высоты, “отвечающие” различным геометриям, которые очевидно переворачивали сочинение. Но на самом деле сочинение было задумано, составлено как раз для этих геометрий и вместе с этими геометриями…Единство геометрического пространства разворачивалось в этих местах согласно размножающимся линиям поливалентной геометрии… в базилике Св. Марка ты продвигаешься, твои пути и открытия пространств все время новы, но ты чувствуешь: вместо того, чтобы их прочитывать, ты их слышишь, даже если в это время не звучит музыка»[27]. Эту же идею Ноно воплотил в жизнь при постановке «Прометея», состоявшейся в церкви Сан Лоренцо, там был сконструирован так называемый «звуковой корабль» – оригинальное масштабное устройство из дерева, призванное изменить акустические параметры помещения. Размышления и работы Ноно, с одной стороны, конечно, не являются характерными для большинства художников его эпохи, поскольку заранее предопределены позицией марксиста, но с другой – именно они позволяют увидеть как понятия «массовости» и «элитарности» растворяются друг в друге (там, где все люди изначально равны в правах не может быть ни элиты, ни толпы), свидетельствуя тем самым о своей условности. Примечания 1. Ноно Л. Музыкальная власть // Современное буржуазное искусство. Критика и размышления. М. 1975, С.377. 2. Там же. С.379. 3. Ноно Л. Интервью // Советская музыка 1974, №4. С.122. 4. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844г.//Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. В 50 тт., М.1966, т.42, С.98. 5. Ноно Л. Интервью // Современное буржуазное искусство. Критика и размышления. М. 1975, С.382. 6. Там же. С.383. 7. Там же. С.383. 8. Там же. С.384. 9. Ноно Л. Интервью // Советская музыка 1974, №4. С.123. 10. Там же. С.123. 130 Материалы международной конференции 11. Entretien avec Luigi Nono // Festival d'Automne à Paris, Contrechamps, Paris, 1987, pp.13. 12. Ibid. 13. Ноно Л. Интервью // Современное буржуазное искусство. Критика и размышления. М. 1975, с.387 14. Entretien avec Luigi Nono // Festival d'Automne à Paris, Contrechamps, Paris, 1987, p.17. 15. Ibid. 16. Ноно Л. Найти свою звезду // Советская музыка. 1989, №2. С.112. 17. Jurg Stenzl Les chemins de Prometeo. Nouvelle version//Festival d'Automne à Paris, Contrechamps, Paris, 1987 pp.170-173. 18. L. Nono Scritti e colloqui, vol.1 Ricordi 2001 pp. 493. 19. Ibid. 20. Ноно Л. Автобиография // XX в. Зарубежная музыка: очерки и документы. М.1995. С.58. 21. Там же. С.61. 22. Там же. С.61. 23. Ноно Л. Найти свою звезду // Советская музыка. 1989. №2. С.112. 24. Entretien avec Luigi Nono// Festival d'Automne à Paris, Contrechamps, Paris, 1987. P.22 25. Ibid. P.22. 26. Ibid. P.22. 27. Conversation entre Luigi Nono et Massimo Cacciaripar Michele Bertaggia// Festival d'Automne à Paris, Contrechamps, Paris, 1987, PP.132-146. Дробышева Е.Э. кандидат философских наук Санкт-Петербург «Модель», распятая между массовым и элитарным «Модель», о которой пойдет речь в нашем тексте – это тот феномен современного культурного пространства, непременный атрибут fashion world, социальная маска, ставшая профессией, поведенческой матрицей, объектом мечтаний многих представителей юного поколения, которая наиболее полно и ярко демонстрирует проницаемость границ между массовой и элитарной культурой. Винтажное название этой профессиональной группы – манекенщики – сейчас используется редко, поскольку уж слишком явно обнаруживает главное – отсутствие лица. Апофеозом этой бессубъектности являются витринные обитатели, лишенные черт лица, а то и вовсе без голов. Это напоминает языческих традиции некоторых народов не прорисовывать лиц куклам, чтобы в них не вселились злые духи. 130 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 131 Обратимся к словарям. «Энциклопедический словарь онлайн» дает следующее определение: «Модель (лат. modulus – мера, образец) – 1) образец (эталон, стандарт) для массового изготовления какого-либо изделия или конструкции; тип, марка изделия. 2) Изделие (из легкообрабатываемого материала), с которого снимается форма для воспроизведения (например, посредством литья) в другом материале; разновидности таких моделей – лекала, шаблоны, плазы. 3) Позирующий художнику натурщик или изображаемые предметы («натура»). 4) Устройство, воспроизводящее, имитирующее строение и действие какого-либо другого («моделируемого») устройства. 5) В широком смысле – любой образ, аналог (мысленный или условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его заместителя, представителя. 6) В математике и логике – моделью какой-либо системы аксиом называют любую совокупность (абстрактных) объектов, свойства которых и отношения между которыми удовлетворяют данным аксиомам, служащим тем самым совместным (неявным) определением такой совокупности. 7) Модель в языкознании – абстрактное понятие эталона или образца какой-либо системы (фонологической, грамматической и т.п.), представление самых общих характеристик какого-либо языкового явления; общая схема описания системы языка или какой-либо его подсистемы»[1] (Курсив мой – Е.Д.). Философский словарь определяет моделирование (фр. modele – образец, прообраз) как «воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для их изучения. Этот последний называется моделью. Потребность в моделировании возникает тогда, когда исследование непосредственно самого объекта невозможно, затруднительно, дорого, требует слишком длительного времени и т.п. Между моделью и объектом, интересующим исследователя, должно существовать известное подобие. Основные достоинства такого рода «моделей» – их универсальность, удобство, быстрота и дешевизна исследования»[2] (Курсив мой – Е.Д.). Такое подробное цитирование словарных статей понадобилось нам, чтобы подчеркнуть характеристики «модели» во всей их полноте и в различных аспектах. Курсивом выделены те свойства, которые наиболее полно иллюстрируют вторичный, симулятивный характер этого явления. «Модель» не обладает субъектностью, не несет на себе отпечаток собственной истории, не обладает суверенитетом, который, наряду с «постоянством и целостным образом поведения, а также с устойчивой доминантой окружающего мира через фильтр самовосприятия»[3] характеризует личностное начало. То есть по вышеозначенным параметрам «модель» – атрибут массовой культуры, однако, парадокс заключается в том, что данный социокультурный феномен позиционируется и воспринимается как логичный элемент культуры элитарной, к коей, несомненно, относится мир высокой моды. Глянцевая пресса неустанно расписывает жизненные реалии «моделей» как атрибуты миры 132 Материалы международной конференции элитарной, недоступной большинству культуры. Психологи и социологи, проводя тестирования школьниц, в графе «Кем бы ты хотела стать в будущем?» в подавляющем большинстве получают ответ «моделью». И объяснить маленькому человеку парадоксальность того, что он стремится быть Никем, Тем-Который-Не-Имеет-Своего-Лица, весьма проблематично, учитывая ареол элитарности и вечного праздника, созданный масс-медиа вокруг этой профессии. Ситуация постмодерна характеризуется постоянным смещением границ явлений, сменой знаков, перекодировкой означающих и означаемых. Об этом сказано достаточно много и полно, наиболее яркими образами, характеризующими данную социокультурную реальность, являются «складка» (М.Хайдеггер, Г.Мерло-Понти, Ж.Деррида, М.Фуко, Ж.Делёз) и «ризома» (Ж.Делёз, Ф.Гваттари) как «внутренний креативный потенциал самоконфигурирования»[4]. Н.Суворов отмечает: «понятие «ризомы» позволяет теоретически увидеть потенциальную «пронизанность» различных явлений друг другом, как будто в одной сущности может проступать другая. Так ризоматическая методология позволяет увидеть нелинейное развитие элитарного сознания, <…> проникновение элитарной культуры в массовое сознание и различные его интерпретации»[5]. Взаимопроникновение элитарных и массовидных элементов в рамках современного социокультурного пространства весьма заметно на примере fashion индустрии, «винтиком» которой и является в буквальном и переносном смыслах «модель» как (просится «центральное действующее лицо», но как раз – ровно наоборот) tabula rasa, на которой размещают свои messages модельеры и создатели рекламы. «Юноше, обдумывающему житье, думающему – делать жизнь с кого», очевидно, что быть «моделью» – значит априори принадлежать миру элитарной культуры. Здесь, безусловно, обнажается одна из «трудностей перевода» – в данном случае «с русского на русский». Имеется в виду проблема понятий и категорий, которыми оперирует научное и обыденное мышление. Так, один из исследователей массовой культуры, Д.В.Колесов подчеркивает: «понятие «массы» может быть отнесено и к толпе, и к собранию, и к смешанному скоплению, поэтому не надо забывать о недостаточной его дифференцированности и непригодности для научного анализа»[6]. А.Тоффлер полагает, что к «обществу третьей волны» неприменим термин «массовое», поскольку в нем нарастают тенденции демассификации. И если с категорией «масса», несмотря на всю палитру его трактовок, все-таки ситуация более или менее ясная, то с категорией «элита» дело обстоит гораздо сложнее, т.к. этот термин стал настолько общеупотребительным, что то значение, которое вкладывают с него исследователи–гуманитарии зачастую не совпадает с профанным его значением. Гламурные издания и бесконечные «светские хроники» в «желтой» прессе, рекламное и медиапространство трактуют «элитарность» как принадлежность к миру потребления high-luxe-luxury-класса, обеспеченную не выдающимися личностными интеллектуальными или творческими 132 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 133 способностями, а исключительно «попаданием в нужное время и место». Таким образом, произошло смещение семантической нагрузки, выполняемой термином «элита» в сторону его профанирования, что как нельзя лучше и демонстрирует исследуемый нами феномен. Один из российских элитологов С.С.Комиссаренко подчеркивает: «представитель элиты – это, безусловно, ярко выраженная индивидуальность»[7]. В случае с «моделью» это не работает: она на то и «модель», чтобы была способна мимикрировать, перевоплотиться в тот или иной образ, задуманный модельером, у нее не должно быть «лица с собственной историей», поэтому ни Инна Чурикова, ни Николай Караченцев не смогли бы претендовать на эту роль, несмотря на присущую им бездну обаяния и таланта. Общество потребления сформировано вокруг так называемого «ложного центра» (термин Ф.Ливиса), где ценностная доминанта диктуется рыночными законами, а высокая истинная культура оказывается во враждебном окружении и вынуждена либо «торговать лицом», либо довольствоваться статусом с трудом терпимого, но обязательного к сохранению атавизма. Реальная элитарная культура требует недюжинных интеллектуальных усилий и определенного background, массовая же культура акцентирована на визуальности в чистом виде (канал Fashion-TV вещает круглосуточно и принимается практически во всех уголках земного шара, поскольку зрелище круглосуточно шагающих по подиуму «моделей» не требует перевода). Зрелищный характер современной эпохи исследователи оценивают то как поворот к «новой архаике», то как атрибут переходной эпохи в качестве «момента господства хаотической стихии» в противовес временам воцарения Гармонии (по мнению Н.А.Хренова и А.В.Костиной[8]). А.В.Костина отмечает: «в современную эпоху зрелище становится одной из самых актуальных форм, которая в большей мере, чем многие иные, соответствует содержанию культуры. Сегодня приходится признать, что достаточно идеалистическое представление о формирующейся индивидуализированной и персонализированной культуре, обусловленной доминированием интеллектуальных технологий и качественно новым способом организации технологической среды, оказывается не в полной мере соответствующим действительности. <…> Даже в границах тех социальных систем, где уже два столетия доминируют идеалы гражданского общества, с его повышенным вниманием к свободной и автономной личности, эта индивидуализированная культура является лишь тонкой пленкой над бушующей стихией массы с ее мощными пластами коллективного бессознательного»[9]. Причем следует разводить традиционное зрелище, инициированное коллективной личностью, и современное, участником которого является “массовизированный индивид”»[10]. «Век толп» многими исследователями трактуется как «век зрелищ». Зрелище становится актуальным в ситуации распада целостности социокультурной среды, ценностно-нормативной перекодировки, что как раз и характерно для постмодернистской ментальной парадигмы. «Модель – «лицо» эпохи 134 Материалы международной конференции постмодерна – так можно сказать, пользуясь терминологией «глянцевой» литературы: «имярек стала ЛИЦОМ косметической фирмы такой-то» (задача для психологов – исследовать состояние самоидентичности человека – «лица фирмы»…). Это – иное, нежели «товарищ Нетте – пароход и человек» у В.Маяковского. Причем в случае с «лицом фирмы» хоть на какое-то время имя «модели» высвечивает ее из массива безымянных ее коллег, но ненадолго – как только фирму перестанет устраивать типаж или «модель» повзрослеет, ее заменят следующей. Большая же часть воинов армии мира высокой моды остаются безымянными на протяжении всей своей карьеры. В этой связи они напоминают куклы, на которых девочки оттачивают свои модели мировидения. Л.Горалик в книге «Полая женщина: мир Барби изнутри и снаружи» достаточно подробно исследовала в культурологическом дискурсе феномен куклы Барби как знакового «персонажа» эпохи. Девочки подобно кутюрье наряжают своих кукол – «болванок, tabula rasa, для которых именно одежда создает identity»[11]. Автор подчеркивает роль вещей в создании образа: «в пластмассовом мире вещи служат для проявления личности их обладателя еще сильнее, чем в мире реальном»[12] и приводит статистику: за 46 лет своего триумфального шествия по миру Барби получила около миллиарда костюмов и столько же пар туфель. Кроме этого – неисчислимое количество аксессуаров, дома, мебель, автомобили и пр. Неудивительно, что в обществе потребления эта кукла стала наделяться личностными характеристиками, заняла законное место центра Вселенной Барби и «воспитывает» подрастающих барышень гораздо эффективнее, нежели весь корпус дидактической и педагогической литературы. Л.Горалик пишет: «“Маттел” (компания, выпускающая Барби – Е.Д.) продвигает не кукол, а новые ценности: право мечтать о достижениях, право играть в любые игры и побеждать»[13]. В 1976 г. кукла была помещена в «Американскую капсулу времени» среди других артефактов, итожащих 200-летнюю историю Америки. Ценности, культивируемые обществом потребления и воплощаемые «моделями» вполне соотносятся с парадигмой «века зрелищ». Сонмы жриц fashion world маршируют по подиумам мира как участницы древних мистерий и буквально жертвуют собой во имя ценностей призрачного мира богемы, мира элиты. Этот новый «крестовый поход» не остановить, покуда ценностные основания существующей социокультурной ситуации будут оставаться в пределах потребительской парадигмы. А пока хрупкие «модели» как кариатиды мужественно держат на своих плечах мир элитарной, «высокой моды», оставаясь при этом частью массы, не выделяясь «лица необщим выраженьем». Примечания 1. Энциклопедический словарь онлайн / http://www.jiport.com/ 2. Философский словарь / h t t p: / / k s a n a k. n a r o d . r u / B o o k/ F i l o s o f/ m a i n . h t m l 134 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 135 3. Колесов Д. В. Человек и толпа. М.; Воронеж, 2001. 4. Энциклопедия постмодернизма / h t t p : / / s l o v a r i . ya n d e x. r u / d i c t / p o s t m o d e r n i s m 5. Там же. С.23. 6. Колесов Д. В. Человек и толпа. М.; Воронеж, 2001.С.218. 7. Комисаренко С.С. Российская элита как предмет отечественной культурологии // Вопросы культурологии. 2007. № 7. С.13–17. 8. Костина А.В. Зрелище как актуальная культурная форма переходной эпохи: концепция динамики культуры Н.А.Хренова // Вопросы культурологии. 2007. № 2. C.65–74. 9. Там же. С.65. 10. Там же. С.69. 11. Горалик Л. Полая женщина: мир Барби изнутри и снаружи. М., 2005. С.116. 12. Там же. С.119. 13. Там же. С.139. Ижикова Н.В. кандидат культурологии Петрозаводск Художественное образование и эстетическое воспитание в деле развития трудовой культуры Немало научных трудов написано об уникальности всеобщего художественного образования в связи с особенностями успешного развития творческого, новаторского мышления: достаточно вспомнить пример из образовательной системы страны новаторов – Японии, где в технических вузах художественным предметам выделен значительный процент учебного времени. Экономист И.А.Столяров, анализируя социально-культурные основы культурной политики 80-х годов прошлого столетия, пришел к одному из выводов о необходимости разработки новой программы «по внедрению системы культурно-художественного воспитания детей, а потеря связана с развитием явления бездуховности, которые влекут за собой самые негативные проявления»[1]. Кстати, связь отсутствия художественного воспитания и негативных проявлений бездуховности ученым не была разъяснена: экономисту не может быть неинтересна эта взаимообусловленность, что могло бы послужить обоснованию необходимости инвестирования в человеческий капитал подрастающего поколения, даже чуть ли не на уровне точных цифр. Цель таких расчетов потрясающая – каждый член общества, получивший качественное художественное, эстетическое образование, готов на самореализационную, преобразовательную и другую позитивную деятельность, не способен на деструктивные как для себя, так и для общества действия. Именно такой ход 136 Материалы международной конференции рассуждений влечет за собой констатация ученого о необходимости для общества, для государства, для отдельной личности художественного образования. Но, к сожалению, не проводились исследования лонгитюдного характера о том, что люди, имеющие эстетический капитал, менее способны на злодеяния, чем другие. Тем не менее, имеются данные, что процент высокообразованных самоубийц гораздо ниже, чем малообразованных. Какой механизм удерживает от разрушительного импульса? Нам представляется, в нем заложен, скорее не информационный, «знаниевый» образовательный потенциал, а эстетический, связанный в большей мере не с логикой и рациональностью, а с глубиной и богатством интуиции, иррациональной неоднозначностью, эмоциональным, чувственным многообразием. В объяснении рентабельности красоты Т.Г.Богатырева прибегает к категории иррационального: «потребность все делать красиво – есть, в конечном счете, интуиция все делать правильно»[2], то есть иррациональное подсказывает рациональное. Эстетическая глухота чревата в социальном и индивидуальном мире нерациональностью, эстетически неразвитый человек невыгоден и даже опасен и для себя и для общества, так как имеется связь с безразличием, равнодушием к качеству жизни и труда. Подобной познавательной проблемой пытается заниматься нынешняя экономическая наука, – квантифицировать воздействия информации на экономическую жизнь и выразить этот наиважнейший фактор в финансовых категориях[3]. Несомненно, красоту, эстетическую категорию, принципы которой имеют силу законов, а способность понимать и создавать ее определяет эффективность производства, следует рассматривать и как экономическую категорию. А эстетическое воспитание это «закладка прочного фундамента для экономического и целесообразного ведения хозяйства»[4]. К сожалению, сложилась практика, характеризующая не только российскую, но и зарубежную ситуацию, процесс развития и удовлетворения духовных потребностей протекает стихийно, неорганизованно. Социологом Ж.Т.Тощенко замечено: «Навыки культурного общения, эстетического видения мира, нравственности в общении приобретаются людьми лишь на основе жизненного опыта. В этом отношении им слабо помогают система образования, средства массовой информации»[5]. За 90-е переменные годы в связи с тем, что государство переложило на плечи населения проблемы культуры, в обществе произошло много драм. Непонимание роли культуры и искусства проявилось в недальновидности: огромной стране одного Большого театра мало, но и для него, для того, чтобы оркестр сел на сцену, нужно чтобы 10 тысяч маленьких детей пошли в музыкальные школы. Для этого у родителей должны быть деньги, или государство должно платить за обучение детей музыке. И речь идет только о проблеме воспроизводства профессионального искусства, не беря во внимание народное, художественное любительское творчество, как исполнителя, так и слушателя[6]. 136 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 137 Искусство, с одной стороны, – самостоятельный социальный феномен духовной самореализации художника и потребителя художественных ценностей, но, с другой стороны, система всеобщего образования и другие каналы трансляции созданной художниками картины мира в огромной степени умножают социальное воздействие художественной культуры. Поэтому широкое художественное образование, организованное на разных возрастных уровнях обеспечивает достойно образованных потребителей искусства. Дело государства – поддерживать престижность обладания данным образованием. Отчасти, справедливости ради, следует отметить, не только государство не озадачено всеобщим эстетически-специальным обеспечением, но и мотивация семей, родителей не высока. Не все могут быть творцами – «Идею культуры определяет ее государственность, и государство должно быть не демократическим и не аристократическим, ибо не для того существуют культуры, чтобы хорошо жилось всем или лучшим, но для того, чтобы наилучшим и возможно полным образом осуществлялась идея культуры»[7]. Довольно близки для нас утопические идеи мыслителей прошлого о том, что всеобщее эстетическое воспитание подрастающих поколений до совершеннолетнего возраста, способно повлиять на качественно иной образ будущего общества. В новом обществе профессиональное искусство не будет иметь нынешнего значения: не будет музыкантов, актеров, художников и ученых по профессии, но тем больше их будет по вдохновению, по таланту и гению[8]. И их произведения будут настолько же превосходить все то, что делается в этих областях в настоящее время, насколько индустрия и техника в будущем обществе будут совершеннее, чем в современном. Таким образом, возможно снятие серьезной антиномии культуры: творческий труд элиты (научной, художественной, политической и т.п.), освобождая немногих и доступный немногим, соблазняет всех. Тысячи блестящих талантов, которые до сих пор подавлялись, достигнут полного расцвета, их знания и уменье обнаружатся всюду, где это будет нужно, говоря словами В.Л.Иноземцева по поводу современного мира: «существует столько творцов, сколько людей считают себя таковыми и действуют в соответствии с этим самоощущением»[9]. Для искусства и наук наступит новая эра, какой мир еще никогда не видел и никогда не переживал, и на такой же небывалой высоте будут стоять творения этой эры. Искусство испытает возрождение, как мыслил композитор, мыслитель Р.Вагнер еще в 1850 году, с наступлением достойных человека порядков[10]. Нам близок «демократический» подход К.Манхейма по поводу музыкального обучения: «всякий ребенок потенциально музыкален; явные различия в музыкальных способностях объясняются лишь разницей в ранних впечатлениях детстве». То есть «мастерство в музыке или других искусствах не является уделом исключительных индивидов; способность овладеть им не менее универсальна, чем способность научиться говорить. Дети становятся немузыкальными потому, что им в свое время не привили интереса к заняти- 138 Материалы международной конференции ям музыкой или в другом случае еще в детстве отбили охоту развивать свои художественные способности»[11]. Подобной демократической позиции позволяет придерживать вера в пластичность природы человека и педагогический оптимизм, другая точка зрения о педагогическом пессимизме на разных уровнях современного социума обладает наибольшей востребованностью: это связано, с одной стороны, с недемократическими аристократическими взглядами, с другой – с самоуничижением, а с третьей коммерциализированной – с оценкой и окупаемостью времени. Среди предсказаний Р.Вагнера о будущем свободных людей - добывание средств к существованию не будет более целью жизни[12]. О царстве дилетантов, каждый из которых без всякого напряжения занимается любым делом и ежедневно меняет занятия, писало немало мечтателей. Многое из описанного Р. Вагнером было воплощено в советскую эпоху чрезвычайно быстрыми темпами, а возникшие издержки (однообразие, силовые методы) не получили должного реагирования, в застойный период все накопленное, достигнутое вместо поддержания было пущено на самотек. В новых условиях можно было бы вспомнить о достижениях, ибо сейчас на стадии рыночного всеобуча идет поиск достойных подходов к пробуждению на уровне общества, государства и личности творческих, созидательных импульсов. Проблемы российского образования во многом обусловлены именно усиливающимся прагматизмом в вузах и средних учебных заведениях и снижением ориентации на гуманитарные ценности и принципы. Превращение знания, умений в основной общий капитал послужило основанием рассматривать образование в качестве объекта рыночных отношений[13], а художественное по разным причинам как было, так и осталось роскошью. Примечания 1. Столяров И.А. Организационно-экономический механизм управления культурой. Автореф…. д. экон. н. М. 1989. С.22,24 2. Богатырева Т.Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России: Монография. М., 2002. 3. См.: Будущее за обществом труда / В.Г.Долгов, В.Я.Ельмеев, М.В.Попов, Е.Е.Тарандо и др. // Под ред. проф. В.Я.Ельмеева. СПб., 2003. 4. Богатырева Т.Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России: Монография. М., 2002. 5. Тощенко Ж.Т. Эстетические параметры развития культуры / Ж.Т.Тощенко // Социология. Общий курс. М., 2001. 6. За последнее десятилетие на 12% сократилось количество детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, где «ежегодно и целенаправленно приобщаются к искусству почти 1,3 млн. детей разных возрастов из сел и городов: это очень актуальное и общественнополезное для грядущих поколений дополнение к общему школьному образо- 138 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 139 ванию. Однако количество таких детей крайне недостаточно: оно едва достигает 6,5% от общего числа детей (7-15 лет) в России. 7. Николаев А.Е. Культура и власть в философии Л.В.Карсавина. // Культура и власть. Сб. науч. трудов. Тверь, 1999. С.113-121. С.116. 8. В античную эпоху профессиональное занятие искусством считалось низменным делом, уделом рабов. См.: Шестаков В.П. Эстетические категории: Опыт сист. и ист. исследования. М., 1983. 9. Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации. М., 1995. 10. Вагнер Р. Искусство и революция // Избранные работы. М., 1979. 11. Манхейм К. Избранное: Социология культуры. М.: СПб., 2000. 501 с. С.176. 12. Вагнер Р. Искусство и революция. // Избранные работы. М., 1979. 13. Челышев Е.П. Современная культура России: проблемы развития. // Москва. 1996. №1. С. 5-20; Лимонова Э.М. Образовательная услуга как объект рыночных отношений. // Культура и экономика региона: Материалы Всероссийской научно-практической конф. Тюмень, 2000, С.88-90. С.89. Кетова Т.Н. кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербург Альтернативы справедливости в поле природных способностей Большинство концепций справедливости основано на допущении равенства людей. Сторонники религиозной справедливости утверждают ценность каждого человека перед Богом. Распространены взгляды на справедливость, исходящие из идеи равенства врожденных человеческих прав, универсальности основных человеческих способностей. Д.Роулз в своей концепции предлагает представить гипотетическое исходное положение, в котором группа людей формулирует основные принципы справедливости, причем никто из них не знает о своем статусе в будущем обществе. По Роулзу, каждый человек должен иметь равное право на систему фундаментальных свобод, которая будет распространяться на всех, а возможное социальное неравенство может приносить наибольшую пользу тем, у кого меньше преимуществ. Встает вопрос – как быть с неравенством природных способностей? В эпоху возникновения и распространения биотехнологий, способных радикально изменить природу человека, вопрос о равенстве и справедливости приобретает новые смыслы. Что является более справедливым – сохранить природную генетическую лотерею или допустить возможность осознанного выбора физических а, возможно, и психических качеств? Проблема заключается в том, что существует социально-экономическая преграда для реализации этого выбора в современном обществе. Евгеника («учение о хо- 140 Материалы международной конференции рошем роде»), направленная на осуществление мечты достижения стандартов идеального человека, сталкивалась с проблемой реализации своих проектов в различных конкретных социально-исторических условиях. Как известно, существуют различия между, так называемой, негативной и позитивной евгеникой. Негативная – возникла в ответ на страх человечества перед вырождением. Чтобы его избежать, приоритет индивида должен был уступить примату рода. Соответственно этому принципу евгенические мероприятия ставили, например, цель ограничения репродуктивных функций «неполноценных» представителей человеческого рода. В наиболее явной дегуманистической форме негативная евгеника проявилась в нацистской Германии, где был введен государственный контроль за «чистотой» арийской расы. Начало положили действия по ограничению репродуктивных функций лиц с девиантным поведением. Далее, стали подвергаться эвтаназии дети – носители тяжелых заболеваний (гидроцефалия, церебральный паралич и др.). Впоследствии контингент лиц, «угрожающих общественному здоровью», расширился до национально-этнических масштабов: на основании расовых признаков стала предприниматься практика эвтаназии «неполноценных народов». Положения негативной евгеники, обосновывавшие тезис о расовом превосходстве арийской элиты над остальным человечеством, легли в фундамент политики и практики геноцида, осуществляемого Нацистской Германией, что вполне понятно, поскольку негативная евгеника требовала государственной поддержки для проведения программы «облагораживания» человечества. Но следует отметить, что негативная евгеника могла представать не только в форме расовой гигиены. Так, в Советской России так же возникали евгенические проекты по улучшению людей как граждан будущего идеального общества, но они не нашли воплощения в государственной политике. К.Э.Циолковский, например, предлагал поставить преграду репродукции неполноценных в физическом и психическом отношении людей, ибо перед человечеством стоит грандиозная задача освоения космического пространства, в котором не может быть места несовершенным формам жизни. По вполне понятным причинам тема элит была непопулярна в Советской России, ей была противопоставлена задача создания полноценного и здорового массового общества. И все же при всех различиях нацистская программа и проекты коммунистического типа в духе негативной евгеники имели общие черты – они опирались на положения вульгарного дарвинизма, были утопичны и антигуманистичны по содержанию, что отвратило послевоенное общество от негативной евгеники и послужило одной из причин появления биоэтики, направленной на защиту прав человека в современной биомедицине. Во второй половине ХХ века вопрос: могут ли права человека основываться на его человеческой природе, обрел новую силу в связи с бурным развитием биотехнологий. Уже в ХХI веке генетическая лотерея может смениться выбором физиологических и психических качеств, осознанным самим 140 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 141 человеком или его родителями. На смену негативной евгенике, отвергнутой цивилизованным правовым обществом, приходит евгеника позитивная, или, как ее чаще называют, либеральная. Однако, многие генетики, философы, культурологи высказывают сомнения по поводу целесообразности конструирования некоторых, и прежде всего, интеллектуальных качеств человека. В старой проблеме взаимодействия социального и биологического обостряется аспект определяющей роли генов в развертывании человеческих качеств в социальном пространстве. Биологизаторская трактовка способностей человека подчеркивает их относительно неизменный статус и эволюционное развитие под влиянием изменяющихся культурных условий. Так, представители социобиологии в концепции генно-культурной коэволюции ставят проблему взаимосвязи органической и культурной эволюций, но рассматривают природно-генетические основания человеческой жизнедеятельности как доминирующие. Культурно-историческая трактовка предполагает качественное изменение человеческой сущности при смене культур. Так как способности раскрываются в процессе сочетания генотипических и фенотипических составляющих, для конструирования более совершенного человека необходимо создание благоприятной социальной среды. «Евфеника» становится одной из сфер воздействия на наследственность человека, которая предполагает управление развитием организма путем создания необходимых условий для оптимизации фенотипа, что приведет к повышению уровня адаптации человека и улучшения его качеств как биологического вида и общественного существа. Сегодня идут научные дискуссии по вопросу: сложилась ли адаптивная норма реакции человека в результате естественного отбора, или же, как полагал В.И.Вернадский, положение человека в биосфере планеты опосредовано специфической формой адаптации – культурной (например, адаптации человека к новым информационным технологиям). Адаптационные способности человека, как и любого живого существа, ограничены и не могут адекватно отвечать на вызовы современной цивилизации, и поэтому, все больше ее представителей подвержено психическим стрессам, вегетососудистой дистонии, происходит массовая аллергизация населения. Массированное вмешательство в геном человечества не сможет моделировать необходимые для социокультурной адптации механизмы, и, кроме того, это сможет нарушить уже сложившиеся, что приведет к стандартизации генофонда и снижению степеней изменчивости. Евгенические мероприятия в массовом масштабе для достижения генетического равенства («поднятие дна», по выражению Ф.Фукуямы) не могут быть признанны однозначно целесообразными. Вряд ли также можно рассчитывать на то, что дорогостоящие процедуры коррекции генома будут доступны большинству граждан даже в странах с высоким уровнем жизни. Демократизация рынка биотехнологий невозможна в обозримом будущем, так как компании, вло- 142 Материалы международной конференции жившие огромные средства в научные исследования и продвижение продуктов биотехнологий, хотят быстро окупить свои расходы. Поэтому более актуальной можно считать тему улучшения при помощи генных технологий одного или нескольких качеств индивида по его осознанному желанию. Возникают два комплекса проблем – один связан с природой мотивации человека, решившего радикально изменить себя или заказать определенные признаки у будущих детей, другой – связан с социальными последствиями этих перемен. Когда речь идет о моделировании таких физических качеств, как рост, цвет глаз, форма черепа или груди планируемых детей, можно предполагать лишь незначительные колебания внутри сообщества сверстников, но когда значительно улучшаются зрение, слух, обоняние, физическая сила – это может привести к нарушению социальной справедливости. Ведь в таком случае те, кто принадлежит к социальным элитам, будут сознательно передавать детям не только социальные преимущества, но и создавать врожденные, что будет способствовать дегуманизации общества и может стать причиной социального протеста со стороны масс, лишенных привилегий. Так, либеральный принцип автономии может войти в противоречие с принципом демократической справедливости. Современное западное общество жаждет дальнейшего роста свободы самоопределения, но пока испытывает некоторое беспокойство перед манипуляциями природными ресурсами человека. Однако, скорее всего, страх перед неопределенностью будет побежден желанием радикально улучшить качество жизни. Стремление к физическому и психическому комфорту уже сегодня породило тревожную тенденцию изгнания сложных переживаний, страданий из внутреннего духовного мира, купирования ситуации нравственного выбора при помощи нейрофармакологии. Отказываясь от самостоятельного преодоления трудностей, человек утрачивает способность коррелировать связь между целями и средствами, становится пассивным потребителем. В современном обществе человек может свободно выбирать – прибегать ему к помощи радикальных биотехнологий или нет, но, выбрав путь искусственного улучшения, он рискует утратить свободу трезво оценивать свое состояние и отвечать за свой выбор. Алкоголизм и наркотики также ведут к деградации личности и этот путь доступен массовому обществу, однако качество жизни они не улучшают. Современные биотехнологии способны удовлетворить потребности человека в физическом и психическом комфорте, но только элиты могут ими воспользоваться. Парадоксальность ситуации в сфере «улучшения человеческой природы» заключается в том, что «идеалы» эмоционального и нравственного упрощения укоренены в сфере массового сознания, но и социальные элиты в дорогостоящей погоне за психофизиологическим благополучием также добровольно жертвуют свободой сложной самоидентификации. Перед обществом ХХI века встает проблема – что является более справедливым: сохранение прежнего генетического неравенства в виде генетической лотереи, или борьба за 142 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 143 введение генетического равенства в статус фундаментальных прав граждан, или допущение возможности усугубления генетического неравенства через осознанный выбор улучшения природы представителями элит. Кнэхт Н.П. кандидат философских наук Москва «Образ культуры» как возможность построения методологической картины-карты слежения в исследованиях прошлой и современной (элитарной и массовой) культуры «Составить себе картину чего-то значит: поставить перед собой само сущее так, как с ним обстоит дело, и постоянно иметь его так поставленным перед собой. …«Мы составили себе картину чего-то» значит не только, что сущее у нас вообще как-то представлено, а еще и то, что оно представлено нам во всем, что ему присуще и его составляет как систему». (М.Хайдеггер)[1] Тридцатилетний период переживания ситуации постмодерна на Западе был связан не только с обсуждением феноменов и процессов, прежде всего, «массовой культуры», но и с переосмыслением отношения к культуре вообще. Концептуализация и перевод методологических инноваций в академическую практику затронули различные области социально-гуманитарного знания (такие как cultural studies, media studies, социологию культуры, психологию культуры, и др.). Многие интеллектуальные принципы, заимствованные из философии и критической теории, органично вошли не только в современную нарратологию, но и стали привычными для обыденных представлений. В настоящее время трудно представить формирующееся конвенциальное знание о современной культуре без таких элементов постмодернистского дискурса, как: деконструкция, идея различия, принцип гетерогенеза и пр. Сегодня изучение культуры немыслимо не только без «больших работ» в области теории культуры (можно выделить труды теоретиков постмодернизма: Жана-Франсуа Лиотара, Жана Бодрийара, Фредрика Джеймисона), но и без сочинений «первых имен» – тех, кто делал открытия и «прорывы» в зна- 144 Материалы международной конференции нии (Ролана Барта, Мишеля Фуко, Жака Деррида, Жиля Делеза, Феликса Гваттари). Ассимиляция идейного багажа теоретиков постмодернизма современными исследователями сказывается на появлении различных предметных полей, в которых формируется современное знание о культуре. Выделение полей исследования задается не только уже существующей дисциплиной (например, история и социология культуры, культурная антропология), но и предметом (исследования медиа), иногда подходом (гендерные и мультикультурные исследования), а в последнее время и практическим интересом (изучение практик потребления в маркетинговых культурных исследованиях). Предмет изучения и сама сфера современной культуры «трансформируются в зависимости от того, какую понятийную сетку на них накладывают – в соответствии с оптикой исследователя и его тезаурусом ...Культура выглядит как подвижное пространство, в котором пересекаются или не соприкасаются различные объяснительные теории и языки описания, по-своему формирующие предмет изучения и его границы»[2]. Панорама современных исследований новейших и неожиданных тенденций, проявивших себя в современной западной культуре, напоминает «множество причудливо составленных картинок в духе puzzle»[3]. Данное обстоятельство рождает естественное стремление получить достаточно цельное изображение не только динамики культурных процессов, но способов их описания. Этим актуализируется проблема образа культуры. Здесь важно выделить некоторые моменты, т.к. актуализация идет в различных аспектах. 1. Проблема образа культуры отражает ситуацию в современной культурологии, эта проблема не могла появиться раньше. Возникновение культурологии совпало с распадом классической парадигмы науки, с переосмыслением заданности субъектно-объектных отношений, что привело к новому пониманию ее задач. 2. Отличительной особенностью нашего времени является то, что современный человек попадает в новую знаковую среду, не имея навыка существования в ней. Сама среда рассеивает, децентрирует и десистематизирует мышление. В подобной ситуации оказывается и современный ученый. Появляется множество различных наук (множество различных «историй», «психологий», «физик», «философий» и пр.), но нет единой науки. Каждая научная школа, работая с одними и теми же фактами, создает свои «синдромы», «симптомы» и «феномены», порождая непримиримый антагонизм школ. Дух конфликта формирует мнение: пока наука не станет моноединой, она будет в кризисе. Однако не скрывается ли за поисками монизма, гомогенного, монистического мира познавательный эгоцентризм? Может быть, сегодня появляется уникальная возможность научиться жить в поликультурном пространстве и многообразие научных школ воспринимать не как патологию, а как норму? 144 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 145 Через образование междисциплинарного дискурса открывается возможность для нормальной работы. Понимание коммуникативной парадигмы как современной, признание существования сетевых взаимодействий знаний и школ, признание права на многомерность поможет расстаться с влюбленностью в кризис. Парадигмальная ситуация, связанная с постмодернизмом – это обычный процесс изменения методов, изменения отношения к области научного и социально-гуманитарного знания, в том числе и к различным философским приложениям. Существенным сегодня является осознание того, что как не может быть запрета на выбор предмета исследования, так не должно быть запрета и на выбор метода. Нужна своеобразная карта слежения, или картина разнообразия методов, которые координируются, находятся в конкуренции, во взаимоотношении и взаимообогащении[4]. Это приведет к освобождению исследовательского мышления, перенастроит его на современный лад, поможет преодолеть узкий позитивизм, схематизм, линейность. Своеобразная «распахнутость», открытость исследовательского сознания поможет развеять иллюзию, что кто-то, или что-то может помешать, какая-то методология окажется вредной, разлагающей, дестабилизирующей сознание. Как это случилось с постмодернизмом (не только в обыденном сознании, но даже в среде ученых-гуманитариев), что привело к инфляции самого термина. 3. Проблема образа культуры связана со способами репрезентации культурных процессов. Образ культуры отражает мерцающе изменчивую природу культурных феноменов, скопление пульсирующих с различной частотой и интенсивностью культурных явлений – замещающих друг друга, исчезающих, обретающих устойчивую культурную форму или образец, который закрепляется традицией. Проблема образа культуры фиксирует наблюдение за непрерывной трансформацией-переработкой фрагментов-образцов в поле культурных доминионов и указывает на уже состоявшиеся или возможные способы «собирания» общей картины культуры в ту или иную эпоху. Принципы, теории и модели описания могут быть разными. Это и органическая теория Гете-Шпенглера; это и романтическая теория «фрагмента» Ф.Шлегеля, Новалиса, Жана-Поля Рихтера, основанная на принципе «распадения» и «повторного собирания» культуры как незавершенного абсолютного Произведения; это и Руина как модель культуры, позднее ее придерживался В.Беньямин для описания кризисных стадий западной культуры; это и нейтральная модель «калейдоскопа» К.Леви-Стросса, согласно которой выбор определенной теории задает выделение поля исследования культурных объектов (феноменов); это и всевозможные современные теории семиотического плана. 4. Проблема образа культуры связана с меняющимся мозаичным панно представлений не только о прошлой, «мертвой», культуре (не прекращаются 146 Материалы международной конференции попытки ее реконструкции), но и о современной, «здесь-сейчас», «живой» культуре. И, прежде всего, это попытка преодоления кажущегося произвола в прошлых и современных исследованиях, представляющих не только научное, но и неакадемическое знание о культуре. Иначе говоря, это попытка увидеть определенную логику (рациональность) за кажущейся случайностью в подборе фрагментов, в выборе методов, в выделении определяющих факторов, ритмов в изучении различных типов культуры – удаленных во времени («мертвых»), локальных и закрытых, традиционных (сохраняющих национальную и этническую идентичность) или новейших – современных, сверхдинамичных культурных процессов. Постоянно меняющийся образ современной культуры, допускает возможность применения разнообразных приемов наблюдения, описания, освидетельствования актуальной культуры. Он связан с саморефлексией и анализом личного культурного опыта, будь то историк, социолог, антрополог, этнолог, представитель гендерных или мультикультурных исследований или просто зритель ток-шоу, посетитель виртуальных форумов и даже футбольный болельщик. Если традиционно под культурой принято понимать устойчивые, повторяющиеся, избранные процессы, являющиеся опорой в текущем потоке жизни, то новейшее время, когда главным фактором становится скорость изменений, свидетельствует об утрате культурой прежнего социального статуса. 5. Проблематика образа культуры связана не только с утратой культурой прежнего социального статуса, но и с новым отношением к знанию, с появлением нового типа социального знания. В политическом пространстве позднекапиталистического общества размывается оппозиционность традиционных лозунгов: «свобода или господство», «либерализм или тоталитаризм», «право или закон», «социализм или капитализм». Несмотря на универсальные механизмы действия властных и репрессивных структур, накладывающих отпечаток на типы сознания через доминирующие идеологии, возникает новое сознание, новый тип социального знания. Уже не требуется социального и культурного дистанцирования с целью предвидения и прогнозирования будущего развития общества и культуры, т.к. оказалось, что не существует единого наблюдательного центра-вершины, формирующего (синтезирующего) универсальное знание. А экспертные функции традиционного интеллектуала «быть сознанием «за других и для других» все больше начинают выполнять СМИ, «создающие и умножающие теории, образы, стереотипы, столь необходимые для поддержания определенного типа политической стратегии в общественном сознании»[5]. Концепт образа культуры перенастраивает исследовательское мышление, показывая, что никакая культура не имеет особой, привилегированной точки отсчета – трансцендентного центра в отношении к наблюдаемому. 6. Наблюдатель включен в то, что наблюдает. Это значит, что наблюдаемое имманентно средствам наблюдения, наблюдается лишь то, что может 146 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 147 быть понято и репрезентировано в той форме, которая позволяет принять сообщение о событии за реальное событие. Происходит ценностная переориентация с непосредственной связи на обратную, опосредованную (важно не «что», а «как»). В.Изер использует метафору «рекурсивной петли», которая в последнее время стала основным интерпретативным приемом для многих исследователей в понимании феноменов культуры. В переживаемом образе культуры запечатлены чувственные и идеологические установки эпохи, позволяющие воспринять образ и заместить реальность. Рекурсивность как прием предполагает обратную направленность познавательного усилия на герменевтический объект, каким является культура. Важным является то, что внимание фокусируется не на «теле» культуры, не на структурном «планктоне» составляющих ее элементов, а на способе организации, на живой системе отношений. Этот познавательных ход, заимствованный из современной эпистемологии, основанный на понятии «аутопоэзиса» (Фр.Варела, У.Р.Матурана) сопрягается с проблематикой образа культуры, предполагающей перенастройку исследовательского мышления. Мерцающе изменчивая природа образа культуры отражает процесс познания по модели «челнока»: «…познание – это эффективное действие, и по мере узнавания того, как мы познаем, мы порождаем самих себя»[6]. 7. Проблематика образа культуры связана с поиском междисциплинарных «мостиков», всевозможных исследовательских аналогий, сопряжения процедур познания в различных предметных областях. Уже есть опыт использования новейших эпистемологических моделей (например, теории хаоса) для определения отношения к Реальности. Использование термина «странный аттрактор» в изучении динамики культурных процессов, его корреляция с понятием симулякра. Идея фрактала – бесконечно делимой единицы, указывающей на бесконечную делимость образов реального – может быть использована как модель при объяснении и понимании культуры как части от целого, которое отсутствует. Интерпретационный прием «рекурсивной петли»; идея «аутопоэзиса». 8. Проблема образа культуры имеет еще один важный аспект. Она связана с переосмыслением соотношения Культуры и Реальности. Это переосмысление стало наиболее актуальным, когда обнажилось противоречие между, с одной стороны, непрекращающимся процессом производства множащихся образов реального, с другой – до сих пор пугающе настойчивым требованием референции к одной единой Реальности. Реальное и Реальность не одно и то же. Событие переводится в разряд реального, когда оно уже пережито, наделено дистанцией и может быть репрезентировано. Мы не знаем, как было «на самом деле», но пытаемся выдать реальное за Реальность. Предположение о том, что за реальным скрывается истина основано на изначальном, нами же принятом условии, что порядок – схема реального. В сущности, мы имеем дело только с реальным, точнее с образами реального. Реальное лишь одна из модальностей реальности (наравне с возможным, актуальным, виртуальным, 148 Материалы международной конференции фантастическим, симулятивным, символическим и пр.) – один из образов, замещающих реальность. Сама Реальность непредставима, безобразна, мгновенна. Прорываясь к реальности, мы лишь расшифровываем следы реального. Порядок, имманентный реальности, если он и существует, то «залегает на такой глубине явлений, которая может оказаться недоступной герменевтическим процедурам, обычно практикуемым в культуре»[7]. Интересно сопоставить образ реальности и идею симулякра – понятия, которое использует Ж.Бодрийар, критикуя институты позднего капитализма. Симулякр – копия без образца. Наглядно симулякр можно представить в виде отражения в зеркале при отсутствии отражаемого (того, что отражается). Идея симулякра отражает ситуацию в современной культуре, когда опыт заранее опосредован его визуальным двойником, и он, поэтому, приобретает по преимуществу медийно-отчужденный характер. Иначе говоря, постепенно приходит понимание того, что материальность (реальность) сегодня не может быть доступна индивиду вне культурных репрезентаций. Образ культуры по своему статусу относится к образам реального. Это не симулякр, хотя при определенных условиях может стать симулякром. Концепт «образ культуры» отражает не только ситуацию «выравнивания методологии» в современном социально гуманитарном знании, но и может выступить основным понятием, моделью зарождающейся науки, имеющей свой язык, способы описания меняющегося мира. Пока трудно назвать эту науку, но можно предположить, что у нее будет новый язык с использованием пространственных, визуальных технологий, картографирования. Примечания 1. Хайдеггер М. Время картины мира // Время и Бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С.49. 2. Зверева В. Предисловие // Массовая культура: современные западные исследования. М.: Фонд научных исследований «прагматика культуры», 2005. С.15. 3. Подорога В.А. Послесловие // Массовая культура: современные западные исследования. М., Фонд научных исследований «прагматика культуры». С.308. 4. Подорога В.А. Выступление на открытии научно- методологического семинара по «Философской антропологии литературы» в РАШ при РГГУ, февраль, 2006. 5. Подорога В.А. Власть и познание (археологический поиск М.Фуко) // Власть: Очерки современной политической философии Запада. М., 1989. С.210. 6. Матурана У.Р., Варела Ф.Х. Древо познания. Биологические корни человеческого понимания. М., 2001. С.215. 148 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 149 7. Подорога В.А. Послесловие // Массовая культура: современные западные исследования. М.: Фонд научных исследований «прагматика культуры». С.311. Кривко М.А. кандидат философских наук Ростов-на-Дону Гламурный дискурс в современной российской массовой культуре Гламур – одно из наиболее часто употребляемых слов в последнее время, из модных журналов оно переместилось в повседневную жизнь и стало воплощать в себе не просто «мираж, магию, шарм, обаяние, очарование, привлекательность», а систему ценностей и моделей поведения, характеризующую особый тип субкультуры. За последние три года гламурная культура в России оформилась как мощный культурный пласт, характеризующийся специфичным стилем и идеологией, выстроенной вокруг процессов потребления. Гламур «по-российски» стал особым типом потребительской культуры, воплощающей стандарты успешности, стабильности, светскости, легкости человеческого существования в обустроенном и сверхблагополучном обществе, ярком и сияющем мифологическом пространстве мира товаров, упаковок, услуг, развлечений, шоу – «лучшем мире из всех миров». В русский язык, а затем и в культурное пространство всей страны, слово «гламур» пришло из английского языка. Этимологически термин glamour происходит к английскому grammer, что трактовалось как «искусство букв». В XV веке слово приобрело новое значение и стало означать «оккультное изучение магии», а затем в XVIII веке несколько изменило свое звучание на grimoire и стало обозначать «магический ритаул для заклинания духов». В конце XIX века слово приобрело современное звучание glamour и утратило всякий магический смысл, оставив на память о своем происхождении лишь одно из значений «волшебство, чары». В российскую повседневность экспансия гламура началась в постперестроечный период, когда с наступлением глобальной эпохи «свободы слова» российский издательский рынок предложил «новым русским читательницам» переведенные на русский язык глянцевые журналы, уже давно ставшие на западе брендами, олицетворявшими мир моды, красоты и успеха. Выпуск первого женского глянца в России стал революционным в прямом смысле слова: на смену шершавости и блеклости печатных изданий советского периода пришли яркие и «веселые картинки» на гладкой, сияющей, глянцевой 150 Материалы международной конференции бумаге, вначале выполненные по принципу «синхронного перевода» западных аналогов. Постепенно к процессу издания женского глянца были подключены российские издатели и авторы, их содержание адаптировалось с учетом российской ментальности и архетипов, на смену историям из жизни далеких западных звезд пришли современные российские герои и героини, олицетворявшие новый культурный стиль, исключающий из своего содержания любые проблемы и неприятности. Происходя из рекламного контекста активного потребления, гламурный дискурс в российской прессе трансформировался в определенную идеологию, согласно которой главной ценностью стала успешность, сохранение молодости, красоты и спокойствия, удовольствия и демонстративной праздности. Свою тотальность, окончательное утверждение в качестве субкультуры, гламур приобрел, завоевав главное медиапространство существования российского человека – телевидение. В России, как в никакой другой стране мира, телевидение представляет собой значимую часть бытийствования человека в культуре, становясь транслятором культурных и социальных императивов ввиду своей общедоступности и воспринимаемости. Телевизионные новости, передачи различных форматов, рекламные ролики, телефильмы влияют на социальный процесс, участвуя в субъективации социальной стратификации и идентичности, представляя и вырабатывая ролевые повседневного поведения, предписывая систему ценностей и норм. Поточное создание и показ глянцевой «красоты», «глазирование» картинок социальной и политической жизни – одна из ведущих тенденций на современном отечественном телеэкране. ТВ вывело гламур из пространства исключительно жанра женских изданий, придало ему всеобщность, наделив набором установок идеологического свойства, расширив до безмерности и бесконечности «магию» и ауру его влияния на массы. В российском обществе сложилась уникальная ситуация: при отсутствии «среднего класса», низком уровне материальной обеспеченности, резком социальном расслоении, минимальности потенциальных покупателей дорогих брендов товаров и услуг, гламурный дискурс в культуре реализуется даже не как реальность потребления и осязания, а как некая внебытийственная, запредельная сфера человеческого существования, как «мир идей». Гламурная субкультура в России реализует себя как часть не реальности даже, а как масштабная составляющая медиакультуры, транслируемая телеэкраном путем демонстрации ярких и фрагментарных картинок из жизни медийных звезд. Телеэкран как Олимп служит пространством обитания и жизненных коллизий сонма гламурных персонажей, показывающих атрибуты своей элитности, подчеркивающих и воплощающих в своей являемой российскому обществу «экранной жизни» культ поверхностности, предпочтения формы, оболочки содержанию. Телевизионный контент насквозь гламурен: герои и героини переходят с одного канал на другой, демонстрируя свой гардероб, интерьеры, раскрывая 150 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 151 вплоть до мельчайших подробностей «секреты» личной жизни и пересказывая мифические истории своей успешности, акцентируя внимание на легкости, яркости, без фокусировки на усилие и трудности. В последнее время на российском ТВ сформировалась новая тенденция: превращение в глобальную «Фабрику звезд», конвейерным способом выпускающую новых медиаперсонажей. Телевидение проповедует идею доведения «до блеска», лакировки, «тюнинга» обывателей – некрасивых, неудачливых людей (или их квартиры, гардероб, внешность) ТВ-чародеи отдают в руки стилистов, дизайнеров, пластических хирургов. Человек должен быть успешным, сексуальным, уверенным, молодым и обеспеченным – такова установка, связывающая воедино многообразие программ и шоу на российском телевидении. Российские каналы при всем своем многообразии и многоформатности функционируют как пространство шоу, безудержного веселья, конструируя облегченную картину мира, создавая сглаженную реальность жизни. В российской медиакультуре гламур, проявляясь как форма эскапизма, пронизывает собой уже практически все сферы культуры, втягивая их в свое пространство, стилизуя их содержание. Телевизионные форматы глазируются, изменяя общие принципы построения визуального и вербального текста. Происходит «огламуривание» экрана: новости и публицистические программы теряют свою информационность, трансформируюсь в infotainment, представляя зрителю трактовку реальности в эстетике клипа и предпочитая информационной риторике развлекательную, ассоциативную. Редкие образцы социальных программ с «высокой идеей» помощи людям («Жди меня», рубрика «Ищу маму» в «Пока все дома», «Здоровье») превращаются в аккуратные отретушированные глянцевые картинки, построенные на крупных планах, на штампах, излишней фиксации на эмоциях. Кинофильмы, «продвижением к зрителю», «промоушеном» которых зачастую занимаются телеканалы, строятся в жанре гламурной телеэстетики, предполагающем выверенность кадров, алгоритм «предназначенных зрителю» эмоций, фиксирование на деталях одежды и внешнего вида героев. К примеру, бойцы «9 роты» радуют зрителя белоснежными, почти рекламными улыбками; сложный драматизм сюжета в фильме «Связь», не исключает постоянное «любование» камерой деталями туалета главной героини, а создатели ставшего событием 2006 года фильма-притчи «Остров» некоторые несуразности сюжета скрывают за рекламной эстетикой нарезки крупных планов. Еще одна важна черта гламурного дискурса в пространстве медиа – исчезновение темы детства. В современной российской культуре остро чувствуется кризис детского телевидения, детской прессы, детских песен. Советская система «технологий субкультуры детства» развалилась, но новая Россия на ее обломках не создала пока чего-то существенного. Медиакультура трансформирует образ ребенка в «маленького взрослого», лишая его особого языка, особого детского мира. Федеральные каналы почти не включают в свой контент программы для детей или ставят их в нерейтинговое, «деше- 152 Материалы международной конференции вое» время: старые советские мультфильмы и сказки демонстрируются в период с пяти до семи утра, а новое российское детское кино практически не имеет выходов к телезрителю. Дети смотрят «взрослые» программы, носят «взрослую» одежду, поют «взрослые» песни, усваивают «взрослую» систему ценностей. Экран лакирует детское лицо, включая «маленьких ангелочков» в пространство рекламы или ситкомов, наделяя их чертами зрелости (сын главной героини ситкома «Кто в доме хозяин»), или аппелируя к детской сексуальности (стилизованные костюмы «маленькой женщины» у ведущей «Цирка со звездами» девочки Александры). «Библия гламура» – журнал Vogue, в мартовском номере за 2007 год опубликовал материал посвященный «новым русским детям», при всей своей риторической легкости, фиксирующий важные изменения, произошедшие в российском обществе под влиянием гламурных установок: «Эти дети – первое поколение России, выросшее в эпоху Vogue. И теперь они намерены победить. Эти дети не считают, что скромность украшает. Они уверены: говорить о деньгах не стыдно, стыдно их не иметь. Они не согласны с Пастернаком, утверждавшим, что «быть знаменитым некрасиво». Эти «милые тенденции» (выражение автора статьи) демонстрируют влияние мифологии гламура на формирующееся под воздействием медиа сознание современных детей, иллюстрируют всесильность и экспансизм гламурной культуры. Опасность масштабной трансляции идеологии гламура вызывает опасение и активно дискутируется в качестве проблемы, требующей осознания и регуляции. Специфика гламурной культуры обсуждается в научных сообществах, серьезных, «не гламурных» изданиях («Искусство кино», «СОЦИС»), радиопрограммах, Интернет-форумах. Возникло целое литературное направление «антигламурного» толка. Впрочем, следует отметить, что еще в 2003 году, Татьяна Толстая опубликовала эссе, обличающее паразитирование «глазированной культуры»: «В гламуре гражданин, а тем более гражданка уже не сеет, не жнет, не собирает в житницы. В гламуре нет ни прыщей, ни вросших ногтей, ни заусениц, ни храпа, нет отчаяния, наплевательства, ответственности, тревоги за родственников, наконец, нет смерти, в лучшем случае – «неумирающая легенда». Ироничность ситуации в том, что в современной медиакультуре Татьяна Толстая уже сама трансформировалась в гламурный персонаж, активно пишущий для глянцевых журналов и тиражируемый телекартинкой шоу «Минута славы», что свидетельствует о проницаемости гламурной культуры, быстрой ее ассимиляции на почве классической культурной традиции. Опасность гламурного дискурса в российском медиапространстве состоит вовсе не в том, что глянцевая картинка демонстрирует пропущенное сквозь рекламную мясорубку многообразие товаров, услуг, этикеток и картинок «красивой жизни». Стремление к экономической стабильности, к благополучию не может вызывать негативного отклика, тем более, что «красота ногтей» как известно, вовсе не мешает «дельности» и личностному росту. 152 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 153 Мифология гламура поражает своей масштабностью, натиском, объемами трансляции. Гламурная культура покрывает «глазурью» систему норм и установок, вырабатывая легкое, поверхностное мышление. Уникальность отечественного варианта гламура в том, что этот феномен теряет свою изначальную иллюзорность, легкость, магичность, игривость, превращаясь в масштабную систему ценностей, в давящую дидактичность культурного слоя, претендующего в российской культуре на всесильность и всеобщность. Куклинский И.В. Красноярск Отношение Человека и Абсолютного в философии Жоржа Батая Вероятно, проблемы языка являются одними из древнейших в истории человеческой цивилизации. Можно выделить две основных проблемы языка, которые, условно, в соответствии с его функциями, могут быть обозначены как – дескриптивная и коммуникативная. Дескриптивная проблема языка заключается в самой онтологии языка. Так как язык имеет границы, то всегда остаётся что-то невысказанное и недосказанное, что-то невыразимое[2]. Практически все религии положительно относятся к обету молчания и произнесению молитвы про себя. Эта проблема языка была признана наукой ХХ века и ведущими учеными, которые признавались в невозможности адекватного фиксирования обычным языком тех процессов, которые происходят в мире элементарных частиц[3]. Нам, видимо, следует признать некоторую несостоятельность феномена языка в целом, который не способен точно зафиксировать то пространство, в котором мы существуем, и всё чаще затягивает нас в своё языковое пространство. Примером коммуникативной проблемы языка является указание М.Хайдеггера о том, что римско-латинское мышление переняло греческие слова без соответствующего им равноизначалъного опыта того, что они говорят, без самой сути этих слов[4]. Другой пример – история переводов Библии, «Книги Перемен», «Дао де Цзин» и других священных текстов. Очевидно, что проблема адекватного перевода философского, религиозного, художественного произведения (в особенности поэзии) с одного языка на другой, остаётся актуальной всегда. Казалось бы, у человека есть два предельных пути – либо Молчать, либо изучать максимальное количество языков и знакомиться с текстами только на языке оригинала. Однако есть и другой путь – это путь посредничества. Этот путь пролегает через фигуру перереводчика-интерпретатора, того, кто выступает в отношении оригинального текста одновременно как читатель и как творец. Подобные фигуры в полной мере существуют в истории литературы как переводчики поэзии. Главное свойство переводчика-интерпретатора это умение, так сказать, вжиться в автора и его произведения. Так, чтобы мышление переводчика 154 Материалы международной конференции объединило в себе мышление языка автора и его произведения, а результатом их отношения стало как бы переодетое в новые языковые одежды, всё то же мышление языка автора и его произведения. Нижеследующее исследование является примером интерпретациисотворения произведения Жоржа Батая «Теория религии». Причем за основу берется не оригинал книги, а её перевод на русский язык[1]. Целью исследования является раскрытие «Теории религии» Жоржа Батая, то есть собственно специфики Отношения Человека и Абсолютного (ибо именно это является смыслом любой религии). В соответствии с оригинальным текстом книги «Теория религии», внутри данного исследования, также отсутствуют сноски, которые могли бы помешать цельному потоку мысли языка автора. Анализ Образа Абсолютного Тот мир, в котором, живые существа сливаются с окружающей средой, не выделяясь на фоне прочих существ, является по сути бесполезным и бесцельным, не служит чему бы то ни было, и лишен какой бы то ни было значимости: он ценен сам по себе и обходится без того, чтобы служить достижению какой-либо цели. Ярким примером подобного мира является Солнце, которое, истощая себя каждую секунду выбрасывает в Космос огромные количества энергии, и со временем неминуемо потухнет. Смысл этой растраты совершенно непонятен человеческому разуму. Такой Мир является Абсолютным (от лат. absolutus – безусловный, неограниченный), то есть независимым от разума, логики и языка человека, и развивается по своим законам. Из того Абсолютного мира человек вышел и удаляется все дальше, создавая этот мир вещей, основой которого выступают человеческий разум, логика и язык. Началом отрицания того Абсолютного Мира является создание орудий труда, которые являются привнесенными в то Абсолютное мироздание, где субъект ощущает свою сопричастность к различаемым им тем или иным элементам, где, наряду с сопричастностью к окружающему его миру, он пребывает как поток воды в водной стихии. Негативность орудия труда заключается в том, что оно подвластно использующему его человеку, который способен видоизменить его по своей прихоти в соответствии с намечаемым результатом, в то время как элемент Абсолютного мироздания, во взаимодействии с которым находится субъект, будь то окружающий его мир, животное ли, или растение, не подвластны ему. Однако созданное и используемое человеком орудие труда преобразует не только природу, но и человека: с его помощью человек покоряет природу, природа превращается в вотчину человека, но более не является ему имманентной. Она оказывается в его власти, но это не делает ее более открытой. Человек покоряет тот Абсолютный мир, но упускает из виду, что тот мир и есть он сам: он отвергает тот мир, но выходит, что отвергает самого себя. В том мире царит единение всего сущего и не существует противопоставления между духом и телом. Люди, воспринимающие Абсолютное миро- 154 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 155 здание в свете единения всего сущего (по отношению к их собственному интимному, к свойственной им глубокой субъективности), ощущают необходимость приписывать такому мирозданию свойство вещи, способной действовать, мыслить и изъясняться подобно им самим. При таком сокращении до уровня некой вещи, Абсолютный мир предстает как в образе обособленной индивидуальности, так и в идее созидающей силы. Но эта сила, наряду с тем, что она отлична сама по себе, отличается вдобавок и тем, что несет в себе божеские черты обезличенного, смутно различимого и имманентного существования. Ощущение единения, при котором животное было не в состоянии дифференцировать себя от чего бы то ни было, и которое пребывало в нем и представляло в его глазах единственно возможный способ существования, как раз и привело человека к противопоставлению серости обыденного орудия труда (предмета, привнесенного, а затем выделенного из того мира единения всего сущего) всей притягательности мира священного. А с появлением мистического представления о духах, существующих независимо от тела, последнее причисляется к вещам, поскольку высшие духи оного напрочь лишены. Мир реальный начинается восприниматься в качестве отходов того материала, что использовался при сотворении мира божеского: реально существующие животные и растения, отделенные от своей былой духовной сути, постепенно все более наделяются чертами, свойственными пустопорожней объектности орудий труда, бренное человеческое тело исподволь причисляется к разряду вещей. Так Абсолютный мир сводится к ирреальному миру высших духов или богов, для которого действительность, коей он не является, выступает как антипод. Действительность же мира светского, материального мира, состоящего из вещей и тел, оказывается посюстороння человеку, в отличие от того потустороннего ему мира, окутанного ореолом святости и мистики. Отринув интимное и погрузившись исключительно в автономный мир вещей, наука окончательно отвернула человека от самого себя и низвела жизнь во всем ее многообразии до реального миропорядка вещей. Однако, непризнание за миропорядком интимным весомости и аутентичности, которых преисполнены человек и Природа, а также подмена его существованием в виде вещи (каковой, собственно, и является индивид в составе общества труда), означает и невозможность приобщения к Абсолютному. Этапы эволюции/деградации Мира и мировосприятия: 1. Изобретение орудий труда, предметов, вещей. Рукотворное орудие труда олицетворяет зарождающуюся форму того, что не есть «я». Выделение человека из Абсолютного мироздания путем привнесение туда вещей (подмена человека вещью). 2. Искусственно-религиозное представление реального мира материи в качестве отходов того материала, что использовался при сотворении ирреального божеского мира духов. Сведение Абсолютного мира к божеско- 156 Материалы международной конференции му миру духов (умопостигаемому и идеальному). В таком мировосприятии божеское приобретает рациональную и моральную окраску, а всё иррациональное вменяется в вину безбожному. 3. Низведение наукой жизни во всем ее многообразии до реального миропорядка вещей. Искусственно-научное восприятие Мира, как огромного цельного механизма. Единое существование этого мира вещей, отрицание других миров. Для этого мира в сравнении с бурным развитием промышленности все остальное выглядит крайне незначительным. Таким образом, Абсолютное не являет собой некое персонифицированное существо, но естество в целом. Это Интимное (глубинное), не поддающееся на операции-провакации дискурсивного мышления. Абсолютное есть свободное животное начало, которое представляется воплощением непосредственности или имманентности (лат. immanentia – перетекание, пребывание). И это перетекание (имманентность) вовнутрь извне, изнутри вовне, составляет сущность органической жизни. Анализ Образа человека Объект наделен смыслом, и, противопоставляя себя потоку всего живого, являет собой прерывистость в единении всего сущего. Такое положение объекта, которому нет места в животном мире, заключается в использовании им орудий труда. По крайней мере, если таковые в среднем соответствуют своему предназначению, при условии что тот, кто их использует, продолжает эти орудия труда совершенствовать. Лишь в той мере, в какой орудия труда изготовлены в соответствии со своим предназначением, сознание и воспринимает их в качестве предметов как прерывистость в смутно ощущаемом единении всего сущего. Рукотворное орудие труда олицетворяет зарождающуюся форму того, что не есть «я». Само по себе орудие труда не представляет ценности, соизмеримой с той, что присуща человеку и элементам мироздания, Его ценность определяется тем, насколько полно оно соответствует функции, ради которой оно создано. Орудие-вещь подвластно тому, кто его использует для достижения той или иной цели. В свою очередь животное существует само для себя, и для того, чтобы стать вещью, его необходимо либо умертвить, либо приручить. Человек, будучи собственно духом, облечен в телесную оболочку, а посему уподобляется вещи, и в этом кроется нечто унизительное, но и величие человеческого тела состоит в том, что оно является субстратом некоего духа. И дух настолько тесно привязан к телу-вещи, что последнее, будучи осенено его благодатью, окончательно обращается в вещь лишь испустив дух. В некотором смысле труп выступает в качестве ярчайшего утверждения наличия в живом человеческом теле духа. В силу того, что человек суть дух, он отмечен печатью божественности (святости), но в этой ипостаси он продолжает оставаться зависимым от своей телесной оболочки, ибо он материален. В той степени, в какой действитель- 156 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 157 ность человеческого существования осенена присутствием духов, она свята, и напротив, чем больше в ней реального, тем меньше остается места божескому. Животные, растения, орудия труда, как и прочие, поддающиеся использованию вещи, составляют наряду с использующими их человеческими телами мир материальной реальности, покорный и всецело подверженный воздействию божеских сил, но при этом абсолютно приниженный. В то же время, цель, преследуемая объект-человеком, как шестеренкой государственного и общественного механизма расходится с его личным предназначением и желанием. Такой человек уже в процессе своего труда выступает в качестве вещи. Таким образом, человек в той степени, в какой он представляет собой бескрайнюю имманентность, живое существо, частицу мироздания, в этом мире оказывается чуждым себе самому и нуждается в прорыве через материальные рамки собственного тела и окружающих его вещей. Анализ Отношения человека и Абсолютного Отношение человека и Абсолютного это Путь, который пролегает во мгле. В силу этого сознанию понадобится достичь наивысшей степени отчетливости, но при этом оно тем более исчерпает меру того, что доступно человеку или живому существу, чем с большей отчетливостью оно проникнется мраком неопределенности, в котором пребывает животное, ощущающее свою интимную связь с окружающим миром. В основе жертвоприношения, как традиционного способа отношения человека и Абсолютного, лежит принцип разрушения, однако, вовсе не уничтожение является целью, преследуемой во время жертвоприношения. Это действо направлено на то, чтобы разрушить собственно вещь, и единственно вещь, которая приносится в жертву. При жертвоприношении разрываются связи, реально определяющие подчиненное положение предмета, жертва выхватывается из предписанного ей мира полезности и причисляется к миру, в котором властвует безотчетный каприз. Однако стремление вознестись над вещизмом, движимое отрицанием, противится насилию в не меньшей степени, чем самой разрушенной насильственным путем вещи. Если бы человек безоглядно следовал имманентности, то он бы изменил своему человеческому началу, он довел бы это начало до его логического завершения, что привело бы к его полной утрате, и в итоге жизнь возвратилась бы к дремотной интимности мира животного. Разгул страстей, к которому побуждает празднование ритуала или жертвоприношения приводится в соответствие с требованиями той самой действительности, отрицание которой такой разгул и призван воплощать. Извечная проблема, порождаемая невозможностью сохранить в себе человеческое, не снизойдя до уровня некой вещи, и избежать ограниченности, свойственной вещам, не вступив при этом на путь возврата к дремотному 158 Материалы международной конференции животному существованию, находит свое ограниченное разрешение в обрядничестве. Причем, обрядничество как таковое сохраняется в силу того, что оно олицетворяет собой потребности светского мира. Для вещи и для индивида обряд является горнилом, в котором контуры различий теряют свои очертания под воздействием жара интимного. Но интимная сущность обрядничества проявляется в реальном и индивидуализированном положении всего того, что задействовано в обрядах. Обряд оказывается ограниченным уже в силу того, что в него вовлекается реальное сообщество индивидов, он выступает как социальное деяние, представляемое в виде вещи, как производимую совместными усилиями операцию с прицелом на будущее: сам по себе он выступает как некое звено в неразрывной цепи деяний, производимых в утилитарных целях. Благодать, которую сулит отправление обряда, исходит вовсе не из того, что она созвучна природе человека, напротив, кульминация ритуала возможна лишь в силу неспособности человеческого сознания проникнуться его истинным значением. Таким образом, собственно обряд не будет являться возвратом в лоно имманентности. Так как, осознание интимного возможно лишь на такой стадии сознания, когда оно уже не являет собой операцию, результат которой рассчитан на долговременное воздействие, то есть на такой стадии, когда отчетливость сознания, как следствие подобной операции, более не достигается. Однако процесс самосознания не требует собственно низложения миропорядка вещей. Миропорядок интимный не в состоянии по-настоящему развенчать миропорядок вещей (также как миропорядку вещей это не удалось в полной мере в отношении миропорядка интимного). Между тем, этот реальный мир, может быть низложен путем перерождения в направлении интимного. Если угодно, сознание не может сделать так, чтобы интимное укладывалось в его рамки, но ему все же под силу оборотить вспять подконтрольные ему операции таким образом, чтобы они постепенно сошли на нет, а само оно оказалось бы низведенным до самого что ни есть интимного. Сам миропорядок вещей – ничто в избыточной вселенной, в которой он растворен, равно как и прилагаемая масса усилий – ничто в сравнении с незначительностью одного единственного мгновения. А принятие того факта, что предметы оказываются растворенными в одно мгновение от прикосновения интимного, и лежит в основе отчетливого самосознания. Если человеку удается достичь наивысшей степени отчетливости сознания, то он из всецело зависимой вещи превращаемся в самовластителя. Стержнем отчетливого сознания является отчетливое осознание того, что есть я сам. Направив сознание на самое себя, мы углубляемся во мрак неопределенности имманентного и сливаемся с Абсолютным. Заключение 158 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 159 Имманентное (пребывающее) Абсолютное (безусловное) Интимное (глубинное) есть органическая жизнь, которой по природной сути является и человек. Однако жизнь в мире вещей и воспитание значительно изменяют человеческое существо, превращая его в функцию достижения определенных целей. И отдельный измененный объект-человек не может не понимать искусственности всех производимых им и другими объект-людьми действий. Когда же такой человек осознает искусственность (вещизм) всего окружающего его мира, он уже не способен спокойно жить. На занимаем собой месте в мире вещей такой объект-человек ощущает дыру, которую невозможно чем-то заполнить. Единственным выходом для такого человека становится как раз эта дыра, пройдя через которую он оказывается вне этого мира вещей, но в том мире Абсолютного. Однако создать дыру в ткани мира вещей способна только смерть человека – члена общества. Нам не дано проникнуться интимной сутью жизни во всей ее полноте – мы преимущественно воспринимаем её как вещь, и лишь её отсутствие предстает перед нами со всей остротой невосполнимой утраты. Смерть открывает нам глаза на полноту жизни и осуждает на небытие реальный миропорядок вещей Другой выход – замыкание на себе, концентрация сознания внутрь себя. Объект-человек, будучи наделенным разумом и неся в себе потенциальную разрушительную для природного мироздания силу всеовеществления, может наконец-то ощутить себя как поток воды в водной стихии, лишь осознав себя как Ничто, нуль, нечто бесполезное и бесцельное, что не служит чему бы то ни было, и лишено какой бы то ни было значимости, но ценно сам по себе и обходится без того, чтобы служить достижению какой-либо цели. Эта ячейка общества бездейственна: бесполезна и безвредна для общества и этого мира вещей в целом. Такая позиция будет являться единственно возможным способом Отношения человека и Абсолютного. Существование замыкает круг, но оно не смогло бы сделать этого, не включив в него и ночь, из которой оно выступает лишь затем, чтобы вернуться в нее. Поскольку оно шло от неизвестного к известному, ему следует низвергнуться с вершины и вернуться к неизвестному. Примечания 1. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Перевод и параллельный философско-семиотический комментарий В. Руднева // Логос, №1, №3, №8. 1999. 2. Капра Ф. Дао физики. М., 2002. 3. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв.: трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. ред. Г. К. Косикова. М., 1987. 4. Батай Ж. Теория религии. Литература и зло / Пер. с фр. Ж. Гайковой, Г. Михалковича. Мн., 2000. 160 Материалы международной конференции Лебедева А.В. кандидат философских наук Краснодар «Театр ужаса» или образы страха в традиции современного визуального искусства Страх является одной из основных доминант человеческого бытия, ведь он имеет множество оттенков и взаимосвязей с другими эмоциями, поэтому для развития личности имеет огромное значение. В след за Юнгом его можно назвать одним из основных архетипов человеческого сознания, ведь неотступно следует за человечеством и сотавляет экзистенциальную основу его бытия, принимая актуальные формы конкретного времени. Поэтому неудивительно, что исследовать эту тему оказывается заведомо сложно, так как объект ее не всегда поддается строгому логическому анализу и трактовке. Но попытка изучения образов страха в современном искусстве составляет особую задачу, в которой и хочется наметить основные тенденции и направления, характеризующие современную нам эпоху. Несомненно, что подобная тема наводила на размышления многих исследователей, и по этой причине в науке существует достаточное количество подходов и мнений. Однако, ответить на вопрос, что же такое страх оказывается проблематично даже сегодня, несмотря на такой долгий путь его изучения. В связи с этим существуют и различные дефиниции страха, но мы не станем углубляться в их истоки и возможные варианты, а определим его как эмоцию, возникающую в ситуации угрозы биологическому или социальному существованию человека. Хотя в аспекте данной работы представляет особый интерес термин «алармизм», как понятие психологии, экзистенциализма и социальной философии, которое отражает особое самоощущения страха, боязни чего-либо в настоящем и будущем[1]. В самом общем виде эмоция страха возникает в ответ на действие угрожающего стимула. Но иногда, перерастая в болезненные формы, то есть фобии, развивается как патологический страх, возникающий по отношению к объекту, который не обладает реальной опасностью. В этом смысле страх полностью становиться результатом когнитивной оценки. Таким образом, страх основан на инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и сопровождается определенными изменениями высшей нервной деятельно- 160 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 161 сти. Наши знаменитые физиологи И.М.Сеченов, а позже и И.П.Павлов, показали важную роль рефлекторных механизмов в формировании высших психических функций, а так же на основе этого ярко продемонстрировали особое значение страха. Но существует и другой страх, самый необъяснимый, таинственный и не поддающийся строгой логике, который был прекрасно описан С.Кьеркегором. Страх гения, как говорит о нем философ, не похож на страх обыкновенных людей, которые опасаются только за свою безопасность: «страх его скорее лежит в предшествующем мгновении и в мгновении последующем, – это момент трепета, когда ему приходится беседовать с тем великим незнакомцем, имя которому – судьба… Но больше всего страха для него бывает в мгновение победы, так как последовательность судьбы состоит как раз в ее непоследовательности»[2]. Гений страшится судьбы, которая может повернуться к нему одной из своих сторон – случайностью, и все достигнутое у него внезапно отобрать. Поэтому страх одновременно и притягивает, и отталкивает, в этом экзистенция в наибольшей степени проявляет свою диалектическую природу. Основания страха находятся в самом существовании и специфических свойствах рефлексии человека, поэтому базовые категории страшного все же могут изменяться, несмотря на то, что сам страх никуда не исчезает. В этом смысле хочется согласиться с Фрицем Риманом, который говорит, что «страх существует независимо от культуры и уровня развития народа или его отдельных представителей; единственное, что изменяется, – это объекты страха, ибо как только мы полагаем, что победили или преодолели страх, появляется другой его вид, а также другие средства и мероприятия, направленные на его преодоление»[3]. Конечно, для современного человека уже не является доминирующим страх грома и молнии, потому как на смену этим явлениям приходят другие, возможно даже более страшные и угрожающие катаклизмы. Но в таком случае следует выяснить какова культурная составляющая страха, в чем особенность такого пристального внимания искусства к этому феномену, ведь в действительности оба эти элемента, и страх и культура, обуславливают друг друга. Следует начать с того, что в науке было сформулировано множество теорий происхождения искусства (мифологическая, игровая и др.), однако в аспекте рассматриваемой нами темы становиться интересной позиция Д.С.Лихачева, который, выделяет страх как одну из причин зарождения художественного творчества. В своей работе он пишет: «мне представляется, что изображалось в пещерах, прежде всего то, чего боялись, что могло нанести смертельный вред. Человек … нейтрализовал окружающий его мир в том, что несло ему опасность»[4]. В этом смысле, преодолевая страх, искусство стремиться создать безопасную модель мира. 162 Материалы международной конференции Подобное преодоление страха посредством его «называния», опредмечивания и локализации в конкретном персонаже или явлении зачастую можно наблюдать и в современном искусстве, особенно в кинематографе, литературе. Нельзя победить страх, но можно уничтожить маньяка, этот страх олицетворяющего. Разумеется, базовый страх при этом не исчезает, а поэтому требуется постоянное репродуцирование новых образов взамен уже «побежденных». Вампиры, оборотни, ученые, взбунтовавшиеся машины, фашисты, шпионы, террористы и инопланетяне — каждая эпоха рождает как собственные предметы страха, так и отчасти наследует те, что были созданы ранее. Но существуют, несомненно, и константные страхи, например, канибалистический, то есть страх «быть съеденным». И на поверхность всплывает уже традиционный образ ликантропа-оборотня, который является довольно древним и насыщенным символическим значением. Представления о человеческом воплощении в волка (ликантропия) были популярны еще в ХVI веке (хотя и существовали гораздо раньше, например, известный исследователь А.Афанасьев приводит сообщение Геродота о народе оборотней, умевших превращаться в волков). Тем не менее, даже в те далекие времена верования в то, что человеческое тело возможно менять на какое-то иное, никогда не имели под собой глубоких убеждений. Ведь, как правило, считалось, что люди одурманивают себя наркотическими средствами, тем самым, изменяя свое сознание. Отношение церкви к ликантропии было неоднозначным, и нередко считалось, что проблема эта именно галлюциногенного характера, но тогда это называли «демонической иллюзией». Однако источник таких галлюцинаций виделся в «ведьминых снадобьях» и «волчьих мазях», которые использовались для подобного «превращения». Следует заметить, что наряду с мистическими представлениями о ликантропии существует реальное психическое заболевание — клиническая ликантропия, при которой больной считает себя волком, оборотнем или другим животным. Словарь медицинских терминов трактует ликантропию как бред превращения в волка. Но, несмотря на подобный рационалистический подход, который разрушает это мистическое очарование ликантопии, современному человеку все же хочется верить в существование могучих людейволков, преследующих добычу при свете луны. На основе этого примера можно увидеть, что для появления прецедента страха необходима особая бинария, которая может заключаться в различных категориях, например «норма-патология», «традиционное-новаторское», «священное-демоническое» и т.д. Зло, собственно как и сам страх с ним связанный, часто бывает именно пограничным, когда происходит смешение с добром, либо очевидное зло скрывается под маской добра. Здесь сразу же вспоминается один из величайших шедевров кинематографа, фильм А.Хичкока «Психо», а так же частично работа С.Кубрика «Сияние». Именно в этих плоскостях пролегает граница массовости и элитарности современно- 162 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 163 го искусства, когда за сюжетной канвой казалось бы обычного психологического триллера скрывается тонкое произведение искусства, раскрывающее весь ужас мутаций сознания его героев. Для создания особого эффекта в фильме А.Хичкок использовал специальный прием, саспенса (нарастание напряженного ожидания), который им же и был введен в историю кинематографа. Самим режиссером это явление объяснялось как состояние беспокойства, тревоги, возникающей у зрителя при просмотре фильма. В «саспенсовые» моменты зритель как никогда оказывается вовлеченым в происходящее на экране, он переживает так, как будто ему, а не герою угрожает опасность. Возможно, что наиболее часто используемые приемы в кинематографе, литературе, изобразительном искусстве, а порой и наиболее увлекающие широкие зрительские массы, лежат в области телесных изменений и аномалий. Базис такой обусловленности «страшного» во многом располагается в сфере «боязни за свое тело», потери дееспособности, невозможности контролировать себя, (недостаток воздуха, получение травмы, возможность потерять сознание). Эта, на первый взгляд, охранительная функция страха (которая свойственна большинству, исключение составляют только больные психическими расстройствами), имеет важное значение в формировании феномена ужаса, особенно в современном кинематографе. Страшно, как всегда то, что выходит за пределы телесно-душевных/моральных границ. А здесь же стоит заметить, что, как и прежде, присутствуют основные мотивы устрашения, связанные с базовыми функциями человеческого тела (звериный голод, мутация конечностей, мертвенно-бледный цвет кожи). В этом смысле, можно заключить, что человеческое тело становиться экраном, на фоне которого происходят изменения и мутации ментального содержания. Человек вольно или невольно наблюдающий над подобной дисгармонией тела и души, испытывает тревожное и устрашающее чувство. Здесь возникает вопрос: почему человек боится быть изуродованным? И почему изуродованный человек выглядит страшно? Ответ на первый вопрос остается очевидным – человек теряет возможность нормального социального функционирования. Но, с другой стороны, происходит определенный процесс не только на уровне тела, но и в структуре сознания (ср.: в традиционной культуре существовало множество примет в случае рождения младенца с физическими отклонениями (в особых случаях даже рыжих). Теперь хочется обратить внимание на то, что в современном мире происходит мутирование образов «страшного». Впрочем, традиционно страшен и «социальный реализм» с его жестокостью и необоснованностью насилия (фильм А.Балабанова «Груз 200»), хотя, порог сенсативности у современного человека весьма занижен, и причиной тому становится пропаганда насилия медийными источниками. Но к привычным телесно-духовным изменениям добавляются вполне современные факторы страха: массовые манипуляции сознанием, интернет-убийца, создание виртуальной реальности и различные химические соединения, изменяющие сознание человека. То есть трансфор- 164 Материалы международной конференции мации с психической составляющей человека становятся наиболее актуальными и устрашаюшими. Если обратиться к так называемым мейнстримовым направлениям в искусстве, то можно столкнуться с тем, что художники нередко используют специфические визуальные эффекты для вызова ужасающих эмоций у зрителя. Творчество школы «молодых британских художников» зачастую основано на работе с объектами мутационного процесса. И ярким примером тому служит творчество братьев Чепменов, где они в работе «Зиготная акселерация»(1995) выразили, возможно, довольно резкое мнение в отношении генетически измененного тела. Здесь, конечно присутствует особое отвращение как к телесными, так и к психическими крайностями, но для авторов они выступают как забавные или удивительные, и в то же время и отвратительные. Эти художники изначально подбирают специфические символы, наводящие на зрителя страх и ужас. К примеру, манипуляция с нацистской символикой была ими с особой яркостью выражена в работе «Ад»(2000), где фигурки звероподобных нацистских солдат предстают в жестокой схватке с обнаженными мутантами. Здесь уместно будет вспомнить Ж.П.Сартра, который упоминает о метафизическом страхе, как страхе перед самим собой, своей свободой и возможностями. И в свете этого примера, кажется, это звучит и как напоминание и как уже свершившееся явление. Основоположник школы, к которой и относятся Чепмены, Демиан Херст центральной темой для творчества выбрал смерть. Но что же соединяет это понятие и те концептуальные образы, которые использует автор в своем творчестве? Ответ оказывается очевидным - страх! Ярким примером может послужить знаковая работа Херста — «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (тигровая акула в аквариуме с формальдегидом, 1991). Выбор конкретного образа, связывающего воедино концептуальную идею и ее воплощение, был для автора естественно не случаен. Акула всегда наполнена угрожающей символикой в сознании человека, но тем более акула, увиденная что называется «вживую» однозначно призвана произвести должный эффект на зрителя. Здесь Херст удивительным образом смог соединить визуальный образ и идею, которая становится весьма актуальной. Автор ярко подметил, что осознание собственной смертности, а, следовательно, и страх перед смертью, является отличительной чертой психики человека. Более того, именно осознание своей смертности и делает человека человеком. Эта мысль наводила на размышления и конкретные высказывания многих философов. Например, М.Хайдеггер считал, что смерть, непременно вызывающая страх, затрагивает самую суть нашего бытия. И благодаря этому происходит глубинное осознавание себя. «Страх, – писал философ, – всегда обнажает, хотя и с разной явностью, присутствие в бытии»[5]. Но именно cмерть делает человека личностью, считал он. 164 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 165 Таким образом, причиной страха считается пребывание в мире как таковом. Страх обуславливает человеческое существование и раскрывает его как возможное бытие. «Невольное влечение к смерти, - пишет В. Подорога, - тяга к саморазрушению, к тому, что находится за порогом бытия - короче, любопытство к ничто»[6]. Здесь хочется отметить, что на современном этапе своего развития, человечество преодолевает в искусстве множество своих тревог, моральных, социальных, физических, но кажется, что в большей степени именно страх смерти. Итак, cтрах является не только одним из способов самосохранения, но и определенной энергией, подпитывающей культуру. Он способствует символическому воплощению образов в искусстве, и в этом преодолении заключается его победная функция. Несомненно, что страх – это один из многих спутников человека, и порой он живет с этим чувством всю жизнь. Но в заключении хочется сказать одно, что «страшашийся» человек – это всегда человек «надеящийся», потому что только там, где есть страх, всегда есть место надежде. Примечания 1. См. об этом: Разумовский О.С. Социальный алармизм // Полигнозис. 1999. № 2. С.38-48. 2. Кьеркегор С. Понятие страха // Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1998. С.195. 3. Риман Ф. Основные формы страха. Исследования в области глубинной психологии. М., 1999. С.5. 4. Лихачев Д.С. Заметки об истоках искусства // Контекст-1985: литературнотеоретические исследования. М., 1986. С.15. 5. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. C.135. 6. Подорога В. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. М., 2006. С.102. Лейбель Е.В. кандидат филологических наук Санкт-Петербург Фридрих Ницше. Миф по ту сторону элиты и масс «Порою мне нравятся люди»[1] – так однажды сказал Дионис и подмигнул в сторону Ариадны. Дионис Ницше. За ним Ницше идет в лабиринт греческого мифа, его, словно звездный венок, бросает в пространство века XIX, с него начинает свое мифотворчество. В самом треугольнике Миф – Ницше – Дионис, в каждом его углу висит рыболовный крючок – знак вопроса – кого на этот крючок ловить: человека (м.б., Сверхчеловека) или людей? В книге 166 Материалы международной конференции Заратустры, где уже название перепрыгивает через нас – «Книга для всех и не для кого», – первым слушателем, которого выловил пророк, был Труп. Сам организм мифа требует к себе бережности особого рода – он требует всего лишь веры в его существование. Курт Хюбнер в работе «Истина мифа»[2] пишет копию с мифического оригинала и вырисовывает характерные детали, по которым мы можем узнать его (миф), даже не изучая ни феномена принципа верификации, ни теории архетипов. Что может быть более массовым, чем знание о том, что Венера – богиня любви или о том, что приснившийся нам сон действительно был? С другой же стороны разве не элитарным называется знание, вверенное лишь узкому кругу достойных, и разве не над желанием познания тайны висит дамоклов меч? Рассказать миф – значит рассказать истину – а как иначе? – так того требует его суть. Рассказанный, он ложится в основу ритуалов и культов, мистического опыта, надевает корону сакральности и мантию тайны и в таком виде расхаживает по эпохам, повторяя себя в простых и обыденных вещах. И каждый сновидец, каждая рожающая женщина, каждый играющий ребенок становятся для него той элитой, которой он открывает свое лицо, которую он посвящает в свои жрецы. Ницше. С его поиском Сверхчеловека, с его подписью под записями последних лет «Дионис» (иногда – «Распятый»), с его критикой христианской морали и проповедью для потусторонников «на горе Елеонской» – Ницше всем, не окутывая себя покрывалом, объяснил в «Ecce homo», почему «я так мудр», почему «я пишу такие хорошие книги», почему «я явлюсь роком»; а в «Дионисийских дифирамбах» во всех ракурсах явил своего Скарлатинного Принца, Загадочного Зверя – Заратустру. Искал он Сверхчеловека или только играл в его поиск? Он ведь знал, что такой еще не зачат Ариадной и Дионисом – божественной парой, убившей себе подобного руками героя, который «наловчился разгадывать загадки, ходить по лабиринту и побеждать быка»[3]. А ведь Минотавра убили зря – он уже был достаточно хорош, и Ницше его любил. Жиль Делез объясняет причину этой любви: «ему (Минотавру – Е.Л.) необычайно легко в глубинах лабиринта, но хорошо и на вершинах, это зверь, который распрягает и утверждает жизнь»[4]. Именно утверждения жизни, легкости игры и танца не хватает тем, кто вьючен и тащит на себе вериги морали, тяжесть осмысливания и блеск славы. Нет, элита слишком тяжела, чтобы дать легкость, дать Сверхчеловека. Элита, высшие люди, подобные тому же Вагнеру, способна дать только тяжелого героя – утверждающего не жизнь, а собственную волю, которую он уже хотя бы успел себе отрастить, отбросив вместе с лишним грузом собственные глаза и уши. Ницше не хочет элиты – ему нужен Труп. Труп самого настоящего человека, который может дать ему любой – нужно всего лишь убить человека, чтобы жил Сверхчеловек. Убить, разумеется, в себе! Однако на примере Тесея видно, что убивать-то мы пока не научились. Есть только один, кто это умеет – он даже вывел особый сорт терзателей человеческого естества – вакханок, кото- 166 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 167 рые в благодарность растерзали его самого. Это третий вопросительный знак, это тот, кто в равной степени принадлежит и Ницше, и Греции – Дионис. В Греции он бог, однако, никак не верховный. Зачатый земной женщиной, он все-таки рождается только от Олимпийца – Зевс сам донашивал его в своем бедре, пока сын не был готов родиться. Но Греция лишает Диониса и божественного отца, и любящей матери, оставляя в утешение лишь козу, чтобы малыш не умер с голода. Однако Греция не избавляет героя от мучительной смерти, а лишь дает ему некоторую отсрочку, чтобы, возлюбив жизнь и утвердившись в ней, чтобы опьянев от жизни и дав опьянение всем без разбора, он оказался растерзанным. Его искал Ницше – бога, великого и в своем буйстве, и в страдании. Ницше приглашает Диониса в свой миф, дает ему пророка, заселяет пространство привычными для Диониса существами – Ариадной, Тесеем, быками, безумцами, но он делает и еще одно: он вкладывает в ухо Диониса слово о брате – Распятом, растерзанном его брате. В дифирамбе «Среди хищных птиц» (в сущности – среди стервятников) Ницше практически изображает свою усмешку в адрес одержимых письмом и мыслетворчеством в его сторону по поводу его анти-христианства: Einsam! Wer wagte es auch, hier Gast zu sein, dir Gast zu sein?… Ein Raubvogel vielleicht: der hängt sich wohl dem standhaften Dulder schadenfroh ins Haar mit irrem Gelächter, einem Raubvogel- Gelächter … Wozu so standhaft? – höhnt er grausam: man muß Flügel haben, wenn man den Abgrund liebt… man muß nicht hängen bleiben, wie du, Gehängter! – Одиноко! Да и кто бы отважился быть здесь гостем, быть тебе гостем?... Пожалуй, хищная птица, которая виснет, наверное, злобно в волосах страдальца стойкого, 168 Материалы международной конференции с сумасшедшим хохотом, хохотом хищной птицы. Зачем ты такой стойкий? – глумится она жестоко: Имей крылья, раз ты любишь пропасть, нельзя продолжать висеть, как висишь ты, повешенный! (перевод Е.Л.) Стервятник виснет в волосах Заратустры, зависшего над бездной в позе распятого, Заратустры, который как Канатоходец, еще все-таки боится стать Трупом, хотя, выпрямив ходули своей стойкости, утверждается в любви к бездне. Стервятник просто смеется, просто играет с ним, как умеет, как с обитателем выси, который умеет забраться ввысь, прыгнуть в бездну и вынырнуть оттуда все с тем же смехом. Он лишь кажется злорадным – кажется тому, кто так играть не умеет. Да, это он – сам Ницше – антихристианин, но ни на минуту не Антихрист! Зачем бы он стал крушить христианскую мораль ради того, чтобы жила мораль с приставкой анти? Он мог через нее просто перепрыгнуть, вывернуть ее на изнанку, а за богом для своего мифа ему бы надлежало не подниматься на Олимп, а спуститься в христианский ад. И можно ли говорить о ненависти Ницше к кому бы то ни было (ведь если Христос – бог любви, то антихрист – пророк ненависти)? Антихристу подобает ненавидеть христиан, а Ницше и христиан-то не видел (не считая тех, что хранили за спиной приставку псевдо). Единственным Христианином для него был Христос. Почему же тогда «Дионис против Распятого»? Против распятия, против кары за грехи и против самопожертвования ради других, слабых, выступает Ницше. Жертва, которая приносится его пророком – это жертва во имя нового, сильного. Это жертва не коварному богу-каверзнику, богу, ставящему условия и требующему поклонения – это жертва медовая, жертва переизбытка, жертва в первую очередь будущему себе, грядущему сверхчеловеку. Что же позволяет говорить о том, что нигилист и христианин рифмуются? В мире Ницше, так же как и в мире Библейском царит монотеизм. Миф формируется вокруг одной фигуры. У христиан это Христос, у Ницше – Дионис. Оба бога страдальцы, оба были казнены их собственными адептами, оба способны к воскрешению. Но если Христос приходит спасать задыхающуюся в своем бессилии слабость, то Дионис приходит ее удушить, разрушить ее мир и зачать нового человека. Он приходит потопить ту мораль, в истоках которой лежит всемирный потоп. Мораль, смывавшая с лица земли нечистоты, сама должна быть смыта, как образчик этих же нечистот. Дионис против Распятого с той первой минуты, когда Распятый появляется – когда Христос переживает великое страдание, великую муку, когда он волит ее переживать. В своей муке он сам становится одним из тех, кто носит имя Диониса – он терзаем и мучим, а 168 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 169 через это – предельно родственен своему греческому побратиму. И Дионис против него! Против того, кого заметил в страдании – он против самой причины этого страдания, против его культа. Христос говорит о жизни вечной, во имя которой в христианском сейчас должна наступить абсолютная аскеза. Земной путь для христиан – путь в Чистилище, для дионисийца – это путь лабиринт, который необходимо пройти со всем его опьянением, всеми его пытками, всеми переизбытками и лишениями, путь, на котором возможно познать жизнь и смерть, метаморфозу и становление. Это путь по ту сторону добра и зла, путь на котором нельзя быть злым или добрым, можно быть только вьючным или играющим, тяжело ступающим или танцующим, рабом или господином воли. Брат-близнец Христа появляется, чтобы разрушить заблуждение, созданное его антиподом, но желание этого разрушения носит созидательный характер. Дионис в Мифологии Ницше – это стихия истины, пришедшая убить бессильную мораль, уродливость страданий, карикатуры смерти. Это творческий акт, а не личная вражда. Так в определенном смысле Ницше, говоря о Христе в мифотворческом контексте, делает его одной из масок Диониса, т.е. – сейчас-дионисом. Этот, совсем, казалось бы, парадоксальный ход на самом деле только яснее доказывает универсальность принципа, заложенного в основу самого феномена дионисийства. Еще в «Рождении трагедии» Ницше препарировал этот принцип с особой бережностью и тщательностью. Не следуя за его мыслью по лабиринту, и ловя ее на выходе, можно сказать об этом принципе, что дионисийское искусство (а вслед за ним – и мифотворчество Ницше) не то, что не нуждается в зрителе (будь то масса, которой отпускаются грехи, или элита с острова Наксос), более того – оно делает зрителя невозможным. Если даже Христос переживается Дионисом и становится им, чтобы оказаться в поле нового мифа, любой гипотетический зритель неизбежно становится соучастником действа – оргии, страдания, познания или поиска истины, становится тем, на кого изливается переизбыток, становится убивающимчеловекавсебе. Одинокий бог (Дионис) рождает целую галерею масок, играющих в него, участвующих в его игре. И получается, что все население мифа Ницше – это дионисийские маски, вечное повторение того же самого, мифологический архетип, уже не имеющий автора, тем более – адресата, кроме, пожалуй, того, кому поет пророк свой Requiem aeternam deo. Примечания 1. Ницше Ф. Соч. в двух томах, М., 1990. Т.2, С.403. 2. См. об этом подробнее: Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. 3. Делез Ж. Критика и клиника. СПб, 2002, С.137. 4. Там же. С.139. Любимова Т.Б. доктор философских наук 170 Материалы международной конференции Москва Псевдо и контрэлиты Эстетика, культурология, этика заимствовали термин «элита» из социологии. Там он используется для обозначения высших страт, до этого говорили о классах, слоях, группах. Впрочем, эти термины используются и сейчас в зависимости от контекста. Они связаны между собой и переходят друг в друга, их поля значений пересекаются в той же мере, в какой связаны между собой и пересекаются дисциплины гуманитарного знания. Несколько в стороне стоит употребление термина «элита» в традиционализме Р.Генона, где ему придается особая смысловая нагрузка, о чем и пойдет речь. Эта смысловая нагрузка вызвана тем, что традиционализм развертывает мощную концепцию истории, сравнимую разве что с гегелевской, а по ясности, всеохватности и проницательности ни в чем ей не уступающую. При сравнении точек зрения традиционализма и доминирующих в настоящее время социальных наук мы обнаруживаем совершенно различные образы того, что принято называть элитой, нередко оценки значения и роли последних оказываются не просто другими, но противоположными, даже взаимоисключающими. Но прежде чем обратиться к такому сравнению, желательно рассмотреть, из чего складывается идея элиты. Ведь все понятия социологии суть обобщения неких эмпирических наблюдений, размышлений, сравнений. Они никогда не бывают настолько точными, чтобы не вызывать возражений и сомнений. Понятно, что это ведь не естествознание, и сколь сильно ни стремились философы и социологи к «определению понятий», все равно приходится рассчитывать на понимание и интуицию читателя. Элита есть, прежде всего, оценочное понятие, в котором утверждается обладанием неким качеством в наибольшей степени. При этом считается, что большинство членов данного сообщества такого качества лишены или оно там встречается в недостаточной степени. Чем же само это качество задается? По отношению к чему определяется наличие упомянутого качества? По какому критерию оно узнается, чаще всего интуитивно? Очевидно, что этот критерий и определитель есть не что иное, как ценность. Например, несомненной ценностью религии в христианской цивилизации, по крайней мере, является святость. Элитой с точки зрения причастных этой религии людей будут святые. А поскольку этим эпитетом награждают всех священнослужителей, все они «святые отцы», а самый большой их начальник даже и «святейший», то элитой в религиозном отношении оказывается клир. Любой социальный институт строится вокруг определенной доминанты, ценности, которую провозглашают и принимают в качестве такой нормы, к которой желательно, чтобы стремился каждый. Ценность науки есть истинное знание. Элита науки формируется через образование и принятие тех или иных авторов гипотез в качестве авторитетов в этой сфере истинного знания. С точки зрения экономических от- 170 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 171 ношений в западном обществе сложились ценности богатства, обладания, формальным выражением чего служат деньги, наличие капитала. Соответственно для тех, кто эти ценности разделяет, элитой будут богатые и очень богатые люди. Институт права ориентируется на ценность справедливости, соответственно качеством элиты должны быть честность и бескорыстие. Властные элиты являются чем-то вроде общего знаменателя. Им должно быть присуще качество способности принимать оптимальные решения, они должны ориентироваться ценностью самого общества в его целостности и целью их, соответственно, должно быть благо всего народа, а не свое собственное. Не существует единого, общего критерия для квалификации той или иной социальной группы как элиты. Еще более запутанным этот вопрос оказывается в определении элиты в таких институтах, как искусство, философия, того, что принято называть культурой. Ведь границы этих сфер деятельности очень расплывчаты, да и не обязательно эти границы фиксировать, потому что как раз в них в первую очередь идет поиск нового. Человечество, человек и его мир постоянно меняются, и то, что недавно казалось общепринятым, сегодня уже не отвечает ни на запросы Души, ни просто условиям существования и общения. Конфигурация доминирующей ценности в этих сферах деятельности более сложная, вопрос признания получает большее значение. Искусство нуждается в признании, а признание может быть отложенным, мало того, его можно навязать публике, что и делается масс медиа очень успешно. Поэтому то, что сегодня навязывается в качестве элитарного искусства, уже завтра будет забыто навсегда, что и бывало в истории не раз и происходит постоянно. И здесь мы сталкиваемся с третьей составляющей идеи элиты, а именно с тем, что можно назвать целеполаганием, т.е. утверждением тех целей, ради которых эти элиты формируются. Нормально, когда элиты сами полагают цели в сфере присущей им деятельности, но современная цивилизация не может быть названа нормальной. Само существование элит предполагает в нормальном обществе правильную иерархию, которая минимизирует риск деградационных процессов, «циркуляцию элит» и прочую разрушительную мобильность. В современном обществе элиты, действительно, сопротивляются своему разрушению, но в виду довольно хаотичных процессов, происходящих здесь, подпадают под действие этой самой циркуляции. Таким образом, мы выделяем несколько необходимых значений при установлении понятия элиты: качество, признание, ценность и цель. Наполняться эти значения могут конкретным содержанием в зависимости от того, о каком социальном и институте идет речь. В любом рассуждении об элитарном или массовом искусстве, культуре обязательно присутствуют эти смыслы, явно или скрыто. Но поскольку социальные науки являются индуктивными, то все знания об этом явлении мы получаем через обобщения более или менее случайно выбранного эмпирического материала. Совершенно иную позицию занимает в этом вопросе традиционализм, а именно Р.Генон. Его концепцию можно вполне назвать дедук- 172 Материалы международной конференции тивной. Он выводит строение общества, символизм культуры и наполнение символов значениям, а также все поворотные события в истории человечества из идеи существования Изначальной Единой Духовной Традиции, по отношению к которой все конкретные культуры есть только частичные проявления. Генон квалифицирует современную западную цивилизацию как антитрадиционную. Это проявляется, прежде всего, в извращении всех нормальных отношений, чему предшествует полное извращение ментальности. Говоря коротко, если цивилизация существует в согласии с Единой Духовной Традицией, то она нормальна и может жить очень долго, потому что эта Традиция является вечной и ее истоки в сверхчеловеческом порядке, в человеческом мире она проявляется тем или иным своим аспектом. В обозримом историческом времени мы не находим ее полного воплощения, но древние восточные цивилизации, в особенности Индия и Китай, а также те, что существовали на территории Европы до нового времени, считаются им более или менее традиционными. Традицию он ни в коем случае не смешивает с памятью прошлого или с обычаями, устоявшимися культурными формами. Это совершенно особое понятие духовного истока всякого проявленного существования в мире человека. Отступлением от Традиции на Западе было, прежде всего, Возрождение, поскольку именно с него началось сужение идеи человека. Человека свели только к индивидуальному существованию, а затем и к материальному, телесному. Все трансцендентное такому телесноматериально-индивидуальному человеку было поставлено под сомнению, отнесено к области психического, духовное стало проявлением материального и индивидуального. Эти перевернутые по отношению к нормальным убеждения и установки пронизывают всю западную ментальность. Генон демонстрирует это на примере науки, философии, религии и вообще состояния западной культуры. Традиционная культура не является массовой, поэтому элита не противопоставляется никакой «массе». Напротив, она есть органическая часть иерархии, а общество иерархично. Если в традиционной культуре существовала истинная иерархия, то это означает, что вершину этой иерархии как раз и представляла элита, воплощавшая в себе сверхчеловеческие знания. Представители ее и были истинными носителями Традиции. Таковы, например, в индуизме риши, первые божественные поэты, создатели первоначальных Вед (до того, как они были записаны). В более поздние времена к духовной элите относились представители высшей из варн. Эти знания носили характер тайны, но не потому что их скрывали по каким-то практическим соображениям, а просто, потому что они были доступны лишь через посвящение. Таковы были «священные науки» Традиции, от которых сегодня остались лишь символы, значение которых полностью ускользает от современного искаженного сознания. На каждом уровне упомянутой иерархии реализовались знания, доступные людям этого уровня, т.е. наделенным вполне определенными качествами: каждый такой уровень предполагал свое посвящение. Вся иерархия в целом и была достаточно полным воплощением 172 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 173 Традиции или ее определенного аспекта. Разумеется, что вся она также была духовной. В этом смысле в традиционном обществе не может быть много элит, там есть только одна, интеллектуальная элита, которая несет ответственность и способна вместить в себя высшее духовное и интеллектуальное знание, оно же эзотерическое, священное знание. Понятно, что эзотерическое знание тоже не в смысле современных представлений о магии, религии, теософии, антропософии и т.п. Все эти замены истинной элиты на множество разнообразных форм «знания без посвящения» Генон называет псевдотрадицией, соответственно носителей этой псевдотрадиции он называет псевдоэлитой. Хотя носители такого «знания без посвящения» или с незаконным, самовольным посвящением и пользуются вечными символами традиционных священных наук, но они не ведают о пагубных последствиях своей деятельности, даже о том, с какими силами они имеют дело. Западная цивилизация характеризуется Геноном как нисхождение, деградация от нормального, традиционного общества к полностью извращенному, хаотичному и разрушающемуся антитрадиционному. Следующим после псевдотрадиции, т.е. подмены и извращения, этапом является контртрадиция, т.е. временем разрушения всего, что еще сохранилось от подлинной Традиции. Здесь, на этом этапе ее адепты сознательно действуют по внушению инфернальных сил, под влиянием «противника», как он это называет. И действительно, процессы, происходящие в современном мире, глобализация и смешение культур, распространение стиля жизни западной цивилизации, а также связанных с этими процессами идеологем о «золотом миллиарде» и «тайном мировом правительстве» в независимости от реальности и возможности этого, явно свидетельствуют о наступлении эпохи контртрадиции. Причем, что интересно, строятся эти идеологемы по образцу пришествия Антихриста. Смысловая фигура эта возникла, очевидно, в недрах идеологии христианства, да она и не могла возникнуть нигде больше. Означает она не только отрицание христианского мира, но прежде сего установление абсолютной власти посредством насилия, сопутствующие этому катастрофы во всех сферах жизни. Внушается неизбежность, «нормальность» катастроф, что как раз следует за полным разрушением того нормального порядка, который устанавливается Истинной Изначальной Традицией. Эта идеологема навязывает «духовность наизнанку», являющуюся активным проводником этих самых инфернальных влияний. Поскольку любая культура есть информация и духовная энергия, заключенная в символах, то можно назвать идеологему Антихриста Информационной черной дырой, цель создания которой есть уничтожение мира. Вот так мрачно выглядит этот «проект». Очевидно, что те, кто обслуживает эту идеологему, т.е. адепты «золотого миллиарда» и «тайного мирового правительства», составляют контрэлиту, характерную для современного западного мира, ведь эти проекты возникли именно здесь и распространяются отсюда по всему миру различными средствами. Однако божественный план Вселенной не допускает ничего абсолютно негативного. 174 Материалы международной конференции Так же как Традиции в последние времена противостоит контртрадиция, так и посвящению противостоит контрпосвящение: «Последнее, идя в направлении, противоположном посвящению, по самой своей сути идет в сторону увеличения нарушений равновесия существ, последний предел которого есть растворение или дезинтеграция… Антихрист должен быть насколько возможно более близок к этой дезинтеграции таким образом, чтобы можно было сказать, что когда его индивидуальность является чудовищно развитой, одновременно она оказывается уже почти уничтоженной, реализуя инверсию стирания “я” перед “Само” или, другими словами, смешение в “хаосе” вместо слияния в Едином»[1]. Такое существо ввиду своей предельной негативности не может длительно существовать и отмечает собою момент поворота и затем полного восстановления всех вещей в том, что символически обозначается как золотой век, когда все вещи вновь поставлены на свои места. Эта смысловая конфигурация, символизированная в таком полностью искаженном существе, и есть контрэлита, сознательно или полусознательно работающая над разрушением нормального информационного порядка, т.е. культуры, а значит и подготавливающая тем самым то, что называют концом света. Однако Изначальная Духовная Традиция не может быть совершенно уничтожена, и Генон говорит, что конец света есть конец иллюзии, а точнее говоря, завершения конкретного исторического цикла, исчерпавшего свой духовный ресурс. Мы видим, таким образом, что две точки зрения на существование и роль элит, о которых шла речь, не совместимы друг с другом. Несовместимость же эта задана не тем, что одна сторона более справедливо судит об этом, нежели другая. Такое расхождение происходит от несопоставимых масштабов рассмотрения соответствующего явления, локального в первом случае, и глобального во втором, т.е. в традиционализме. Примечания 1. Генон Р. Царство количества и знамения времени. М., 1994. С.282. Махлина С.Т. доктор философских наук, профессор Санкт-Петербург Парадоксы современной массовой художественной культуры Для XX столетия характерен процесс массовизации культуры, смешение и взаимопроникновение общественно-деловой, повседневной и художественной сфер. Уже в 20-е гг. Х.Ортега-и-Гассет писал о «восстании масс», связанном с процессами массовизации. Можно вспомнить и «Мифологии» Ролана Барта, где анализируются основные параметры массовой культуры[1]. Стандартизация жизни породила однотипные вещи, получившие широкое 174 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 175 распространение. Следствием такой унификации жизни стали многие негативные явления. Это различные войны и сопутствующий им терроризм. Война же формирует жестокость нравов, привычку к насилию, легкость отношения к чужой жизни и смерти. Моральные критерии снижаются. Героями нашего времени становятся ловкие, оборотистые люди. Важная особенность современной культуры – ее поляризация, разделение на элитарную и на массовую. Массовая культура при этом стремится поглотить элитарную, агрессивно вторгаясь в ее пределы. Элитарная же культура сжимается и испытывает активное деструктивное воздействие на нее массовой культуры. Все указанные недостатки наиболее полно и выпукло проявляются в языке, а язык – это индикатор тех явлений культуры, которые происходят в обществе. В современной культуре массовое искусство заполнило повсеместно жизнь человека. Вся наша повседневная жизнь проникнута тяготением к искусству. Но, как правило, в массовом тиражировании мы сталкиваемся не с искусством, а подчас довольно умелой мимикрией под него. Все больше людей претендует на общение с искусством. Понятно, что в обществе, где большинство людей вынуждено «бороться за жизнь» (выражение Р.Гари в романе «Все впереди»), времени на восприятие искусства для таких людей не остается. Основное для них – развлечься, забыться от тягот жизни. А неприхотливые вкусы понимают под этим развлечением лишь удовлетворение самых низменных потребностей. Безусловно, каждая эпоха имеет свои особенности, свои, отточенные в данном кругу приемы и кодовые значения. И подчас современному зрителю многое оказывается недоступным для восприятия, что было само собой разумеющимся в ту эпоху, когда создавались те или иные произведения. И так впоследствии в развитии сферы искусства знание языка конкретного вида искусства было условием не только его создания, но и восприятия. И сразу же в разделенных на социальные слои обществах возникли различные, иерархизированные формы существования искусства. В итоге сформировались две основные формы бытования искусства – профессиональное и народное. Конечно, между ними были промежуточные проявления, сливавшиеся то с одним, то с другим полюсом: дилетантское направление, во многих случаях тяготевшее к профессиональному художественному творчеству, и самодеятельное искусство, чаще всего базировавшееся на народном искусстве. Естественно, что утверждение это не аксиоматично. И дилетантизм, и самодеятельное творчество нередко сливаются друг с другом и могут быть неким промежуточным элементом, звеном между профессиональным и народным искусством. Постепенно сфера профессионального искусства набрала определенные приемы, ставшие основой для каждого вида. Новая формация художников всегда взрывала эту систему, постепенно становившейся мертвенной схемой, 176 Материалы международной конференции сковывавшей развитие данного искусства. Довольно часто новые средства были уже давно не новыми. Характерен в этом отношении пример с открытым в XVII веке черным квадратом для постижения смысла бытия. Роберт Фладд (1547–1647) – британский философ-мистик изобразил образ первоначального Ничто в виде квадрата черного цвета. Рукопись этой книги была переведена на русский язык в XVIII веке, когда передача понятийных смыслов с помощью зрительных образов была очень популярна. И в рукописном фонде РНБ хранится девять фолиантов переводов Р.Фладда, в которых переводчиками сохранены все его графические символы, в том числе и «Черный квадрат»[2]. Разумеется, Казимир Малевич не мог знать об этом. Созданный им «Черный квадрат» – результат глубинного осмысления и долгих размышлений о способности изобразительного искусства отразить закономерности окружающего человека мира. Новации не только взрывали окостеневавшую систему, но и способствовали ее развитию. Процесс этот постепенно убыстрялся. Стало нормой, что новые средства выразительности, внесенные художниками в язык того или иного искусства, как правило, сразу не воспринимались публикой, трактовались как условные, далекие от специфики данного вида искусства. В то же время эти новые средства выразительности оказывались как раз наиболее полно и точно отражающими открывавшиеся человечеству грани смысла и существа бытия. К XX веку этот процесс уже и на Западе, и на Востоке стал более убыстренным, реалистические и условные формы стали сосуществовать друг с другом. Понимание новых элементов выразительности в языке искусства приобрело следующие временные параметры: как правило, критика отстает от понимания нововведений в творчестве на 15-20 лет, а публика – на 25-30 лет. И вот в ХХ веке возникла обманчивая иллюзия, что все, что не сразу воспринимается, вполне может стать впоследствии явлением, считающимся среди знатоков проявлением высшего достижения в художественной области, а, главное, дорого стоить. И вот уже поделки, ничего не имеющие общего с подлинным искусством, выдаются за истинную, художественную ценность. Здесь еще наслаивается и широкое распространение в ХХ веке китча. И вот уже многие исследователи – культурологи, искусствоведы не только изучают этот феномен, но признают за ним художественную значимость. Китч – один из питательных элементов постмодернизма, в котором он осмеивается и нередко негативно оценивается. Однако многие постмодернисты говорят о том, что одна из составляющих их искусства – китч. И часто они оказываются совсем не ниспровергателями старого, совсем не революционерами в искусстве, а убогими шутами, увы, не вскрывающими пороки, а развлекающими публику, представляя собой конформизм наоборот. Как говорит о них Эрнст Неизвестный, львы превратились в подстриженных пуделей. Одним из проявлений кича стал кэмп. Понятие «кэмп» (camp) ввела Сьюзан Зонтаг – знаменитый американский критик искусства и культуролог[3]. Она 176 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 177 рассматривала кэмп в программной статье 1964 г. как вариант эстетизма, направленного на утрирование искусственного, преувеличенного, рассчитанного на узкий круг посвященных. Во многом кэмп – проявление культуры геев, связан с «голубой» культурой, нередко претендующей на роль «аристократии вкуса», но шире ее по эстетическим рамкам. К нему Зонтаг относит живопись прерафаэлитов, лампы Тиффани, стиль «ар-нуво». К кэмпу Зонтаг относит также балет «Лебединое озеро», рисунки Обри Бердслея. Перечисление ею явлений кэмпа довольно широко. Чтобы представить себе его, назовем еще только характерные детали женского костюма 20-х годов XX в. – боа из перьев, платья с бисером и бахромой. Она выделяла при этом наивный и серьезный полюса поэтики кэмпа. Примером высокого кэмпа был специальный эстетский костюм Оскара Уайльда, который он сам разработал для лекций а Америке. Продуманная театральность его костюма поразила публику не менее содержания лекции. Чистый, наивный кэмп стремится сделать «красиво». Что неизбежно приводит к кичу. Таковы, по ее мнению, наряды танцовщиц кабаре. Серьезный кэмп отягощен рефлексией. Кэмп серьезен во фривольности и фриволен в серьезности. Его идеал – искусственность, театральность, поиск «хорошего вкуса в плохом вкусе», в предельном варианте – проявление вульгарности. В 1954 года Кристофер Ишервуд в романе «Мир вечером» выделил высокий и низкий кэмп. Ольга Вайнштейн считает, что «это разграничение можно применять и сейчас». Примером высокого кэмпа в современной культуре можно считать перформансы Андрея Бартенева, низкого – Вадика Мамышева, изображающего Мэрилин Манро[4]. Вместе с тем кэмп – противопоставление массовой культуре, но в свою очередь кэмп становится первым опытом «коммодификации» – превращения его в коммерческий товар массового спроса. Два полюса кэмпа дают возможность проявлять себя двояко: с одной стороны – это проявление утонченности, изысканности, с другой - использование вульгарности в качестве иронии, низводя высокий кэмп на демократический уровень. Каждый этап в искусстве привносит новое, живое, более адекватные и точные приемы отражения действительности, более глубокие наблюдения над ней. Происходит это в противоборстве реалистических и условных средств выразительности, которые поначалу сменяют друг друга, а в XX веке сосуществуют, хотя в какой-то период одни тенденции доминируют, уступая другим. Сегодня искусство широко пользуется лексикой разных культур, смежных искусств, стараясь приращивать смысл в своих произведениях, обнаруживая в действительности скрытые смысловые поля. В современном изобразительном искусстве превалируют хэппенинги, перформансы, инсталляции, акционизм, поп-арт и рэди-мэйд. Хотя они работают с материальными предметами, но способы работы с ними трансформируются, определяясь некоей абстрактной концепцией. Современная музыка использует синтезированные монтажи, римейки, также освобождаясь от звукового материала. Кино использует компьютер, из кинематографа зачастую 178 Материалы международной конференции превращается в компьютограф, когда в нем важны какие-то художественные приемы, а не сюжет, использование разного рода дигитальных техник повышает значимость фильма среди знатоков. В поэзии устанавливается диктат «белого листа», который становится ведущим. Широко распространенным является появление визуальной, сонорной, акционной, мелической и прозаической поэзии и т.д.[5] Живая жизнь искусства в сферу массового искусства отбрасывает все обкатанное, стереотипное, легковесное. Когда оказалось, что непонятное, странное, может быть настоящим искусством, появилось много людей, жаждущих творчества. И вот уже мы видим, что много людей, не имеющих ни профессиональной подготовки, ни соответствующих данных, ринулись в сферу искусства. Это приводит к тому, что сфера элитарного искусства сжимается, а разного рода развлекательные жанры, эстрада теснят ее, разбухая и формируя потребительский ажиотаж вокруг них. Все же следует помнить, что искусство не создано для толпы. А сегодня, когда финансовые факторы оказываются чрезвычайно важными для продвижения тех или иных направлений в искусстве, это стимулирует деградацию и упадок не только самого искусства, но и всего общества. Конечно, всегда, во все времена, были люди, углублявшиеся в духовную сферу. Широкие круги удовольствовались простыми развлечениями. Масса людей, закономерно, отстают от новаций художников. В.Комар и А.Меламид провели гигантский эксперимент. На опросах жителей России и Америки ими были созданы две картины, которые, к сожалению, выявляют убогость представлений широких масс каждой страны. Оказалось, что идеалом в обеих странах стали усредненные, приторно-сладкие пейзажи. В наше время усилилась возможность многократного тиражирования искусства благодаря развившейся технике. Особенно в последнее время, когда с помощью компьютера появилось множество дигитальных техник. Однако тиражирование не способствует постижению уникальности произведения искусства. Особенно неорганично тиражирование пространственным видам искусства и именно поэтому так болезненна для этих искусств типичная для всей современной художественной культуры проблема «развоплощения духа». В целом, в современном искусстве столь широко распространенное тиражирование приводит к его «разматериализации» (термин Люси Липпард)[6]. Тиражирование, воспроизводимость произведений искусства способствуют тому, что произведения делегируют в вечность не произведение, а его идею. Кроме того, сегодняшняя культура носит клиповый характер. Важным в ней становится предъявление, репрезентация. Отсюда становится понятным, что авторское высказывание оказывается не столь важным. Поэтому интерпретация произведения становится принципиально множественной, а в большинстве случаев и необязательной. В связи с этим изменились и те, кто воспринимает произведения искусства. Смысл произведения порождается в 178 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 179 акте его восприятия. Примитивизация процессов и продуктов творчества, тенденция упрощения, в конечном счете, приводит к выхолащиванию культуры. Лидия Гинзбург писала об этом: «Культура ослабела наверху, потому что массы оттянули к себе ее соки… снижение качества на данном отрезке времени – закономерность»[7]. Многие современные ученые говорят о необходимости синтеза «высокой» и «массовой» культур. Так, Лесли Фидлер в статье «Пересекайте границы, засыпайте рвы» призывал художников работать одновременно и на «высоколобых», и на широкую массовую аудиторию. Художник, таким образом, становится «двойным агентом», совмещая в произведении разные пласты смыслов и используя разные художественные средства, рассчитанные на уровень как подготовленных, так и неподготовленных воспринимающих. Близкой ему оказывается и позиция и Ч. Дженкса, сформулировавшего идею «двойного кодирования» – обращенного и к элите, и к массовому потребителю. Элитарный постмодернист Джеймс Стерлинг построил в 1984 году в Штуттгарте Новую галерею, по свои основным линиям привязанной к плану Старой галереи, созданной в первой половине XIX века и со Старым музеем К.-Ф.Шинкеля в Берлине. Идеи классицизма здесь передается через многочисленные «намеки», ироническое воспроизведение (цитаты) и аллюзии разных стилей компонуются в изысканный ассамбляж, открывающийся только искушенному зрителю. Те же, кто не подготовлен, воспринимает эту галерею как увлекательный и экзотический архитектурный ландшафт[8]. Следует отметить еще одну закономерность. Если в древности вещи любовно сохранялись и передавались из поколения в поколение, то в наше время – цивилизации одноразовой посуды – мы не только в повседневном быту, но и в искусстве видим быструю смену увлечений то одними направлениями, то другими. Быстрая смена течений не дает отстояться мнениям у знатоков искусства, носителями благородного вкуса уже никто не может считаться. Во-первых, само название говорит о том, что массовое искусство – это то, что потребляется широкими массами. Справедливости ради надо отметить, что не все произведения, получившие массовое распространение – массовое искусство. Сегодня, например, нередко в холлах фешенебельных гостиниц тихо звучит музыка Моцарта, авторов эпохи Возрождения и другие классические и академические произведения. Нередко музыка авторов прошлых эпох, самых престижных и ярких в истории культуры становится позывными сотовых телефонов. Правда, воспринимаются они многими слушателями зачастую как приятное развлечение и фон, а не как глубинное постижение сущности бытия. Более важное свойство массового искусства: оно легко доступно, понятно, не требует работы мысли и сердца. Нередко в современном шлягере вы услышите легкую мелодию с очень простыми словами, которые до одурения повторяются, вдалбливаясь в сознание так, так что если даже у вас память не очень хорошая, то вытравить этот сор из сознания достаточно сложно. 180 Материалы международной конференции Сложнее обстоит дело с тем, что искусство это агрессивно, брутально, воспевая насилие и жестокость и потому вызывает самые низменные чувства, формируя в воспринимающих такого рода произведения безотчетную злобу, воинственность, отсутствие толерантности и нетерпимость к другим. И эти негативные эмоции, взращенные в сознании современного человека, оборачиваются возрождением фашиствующих группировок во всех странах мира, в том числе в нашей, среди тех, кто боролся с фашизмом во второй мировой войне. Глобализация делает процесс разделения искусства на элитарное и массовое – распространенным на всей Земле. Взаимодействие культур разных ареалов сегодня оказывается общим и взаимозависимым. 11 сентября 2001 года – наглядный пример влияния массовой культуры на трагедию реальной жизни. Мы хорошо знаем, что многие люди, в том числе и в России, восприняли эту гибель людей с радостью и восторгом. А ведь именно искусство стало учителем такого рода катастрофы. Ведь даже кадры некоторых фантастических боевиков и триллеров до ужаса точно воспроизводили картинки случившейся катастрофы. И созданы они были задолго до рокового события. С одной стороны массовое искусство отрицательно влияет на творчество художника. Мифологему влияния на художника желания как можно быстрее и побольше заработать показал еще Н.В.Гоголь в своей знаменитой повести «Портрет. Уже в нашем столетии Варгас Льоса в романе «Тетушка Хулия и писака» показал, что погоня за сиюминутным успехом приводит писателя к гибели. В.Маканин в повести «Где небо сходилось с холмами» показывает механизм становления массового искусства путем вылущивания из серьезных академических музыкальных произведений легковесных попевок. В итоге единственным носителем глубоких традиций оказывается дебил, которому раньше запрещалось коверкать народное искусство своим пением. С другой стороны – влияние массового искусства на публику также оказывает разъедающее воздействие. А такое следствие его воздействия оказывается уже даже страшным. Формирование этим искусством простоты, которая хуже воровства – наиболее зримые приметы его воздействия. Грубость, насилие, легковесные развлечения – вот к чему приводит воздействие массового искусства. Между тем такое искусство широко распространено во всем мире. В романе «Качество жизни» Алексей Слаповский показывает, что распространению массового искусства способствуют даже критики[9]. Г.С.Кнабе много лет тому назад показал два регистра культуры: высокой культуры, которую он пишет с большой буквы – Культура, отвлеченной от эмпирии повседневности, обобщенной и тяготеющей к закреплению в традиции и оформленных системах знания. Помимо этой высокой культуры, мы употребляем слово культура в значении, используемом в археологии, т.е. растворенной в повседневном существовании. Именно эта культура и есть массовая культура, где неприемлемы упорядоченные системы смыслов, а единственным не дискредитированным божеством оказался хаос[10]. 180 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 181 И.Пригожин впервые предложил изучать хаосогенные процессы. Его анализ показал, что хаосогенные процессы приводят в конечном итоге к системоорганизующимся структурам каждого явления[11]. Это важное наблюдение в физических процессах приложимо и к явлениям общественным. Вообще, на рубеже тысячелетий выявилось слияние естественных наук с гуманитарными. Многие явления в физике объясняют какие-то процессы, происходящие в культуре, и наоборот, наблюдения и выявление закономерностей в гуманитарной сфере оказываются использованными в точных науках. Таким образом, можно считать, что в конечном итоге все определенным образом нормализуется. Однако процесс этот может иметь различную длительность, сопровождаясь непоправимыми утратами для человечества. Именно И.Пригожин совместно с И.Стенгерс сформулировали понятия «прозрачная» и «смутная» картины мира и показали, что современное сознание эволюционирует от «прозрачной» ко все более «смутной» картине мира[12]. Наука об этом должна задуматься. И разрабатывать необходимые пути на основе изучения реальных закономерностей развития современного искусства. Существуют идеи эпохи, которые получают развитие в обществе, отражая общие основы духовной жизни эпохи, культуры определенного периода. В европейской культуре очевидно возрастание влияния научного знания на обыденное сознание. Исследователи отмечают «сильнейшее влияние науки» на обыденное мировоззрение, стереотипы мышления, в которых «сравнительно высокий уровень насыщенности… научно-техническими компонентами»[13]. Однако нового типа идеи, которые бы получили развитие в обществе, необходимо вырабатывать. А потом они распространятся в жизни. Переломный этап в развитии современной цивилизации требует того, чтобы идеи в науке стали катализатором в развитии высокого интеллектуального уровня в обществе. Это, безусловно, сложно. Сегодня в искусстве мы наблюдаем обилие дилетантских поделок, претендующих на нахождение истинных путей. Подчас невежественные кураторы превозносят в основной своей массе ничего не понимающей публике произведения, отнюдь не являющиеся новым шагом в освоении выразительных средств, соответствующих новым путям осмысления действительности. Чаще всего, превозносимые явления искусства являются слабым воспроизведением уже давно найденного, однако, претендуя на то, что они являются последними достижениями в языке искусства. При этом именно те художники, которые меньше всего внесли в художественную культуру нечто новое и глубокое, чаще всего умеют рассказать о своей значимости. И наоборот, самые талантливые художники, в большинстве своем не в состоянии объяснить свое творчество. Именно им, действительно несущим вклад в копилку человеческой мудрости, так нужны серьезные научные исследования, честные, не ищущие конъюнктурных и меркантильных выгод кураторы, обогащенные современными научными знаниями. Сами художники, конечно, это осознают. Однако чаще всего возникает идея о беззащитности культуры перед прогрессом. Вспомним романы 182 Материалы международной конференции Евгения Замятина, Джорджа Оруэлла, Рея Брэдбери. Да и наше время не лишено пессимистических представлений. Так, роман «Кысь» Татьяны Толстой рисует жизнь после взрыва. Атомного. Но мы-то живем после взрыва не только чернобыльского, но перестроечного, уничтожившего социалистическую цивилизацию, со всеми ее страшными, но и положительными сторонами. И именно науке предстоит создавать модели демократичного и гуманного жизнеустройства на основе осмысления всех противоречивых свойств массового искусства. Примечания: 1.Барт Р. Мифологии. М., 1996. C.54-56. 2.См. об этом: Артемьева Т.В. Британские мистики в России XYIII века // История идей как методология гуманитарных исследований. /Материалы международной конференции 27-30 сентября 2001 г. Альманах «Философский век».17. Часть I. СПб. С.317-318. 3.Сьюзан Зонтаг. Заметки о кэмпе //Мысль как страсть. М., 1997. 4.Вайнштейн Ольга. Три этюда о денди // Иностранная литература, 2004, №6. C.280. 5.См., например в журнале «Urbi», 1991, №1 статью о современной поэзии «Слово лишнее как таковое». 6.См. Lippard L.R. Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. Berkеly: Univ. of California Press., 1997. 7. Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л., 1989, С.103. 8. Cм. подробнее об этом: Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. СПб., 2001. 9 Слаповский А. Качество жизни / Знамя. 2004, №3, С.93. 10.Кнабе Г.С. Диалектика повседневности // Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С.41. 11.Пригожин И.Р. От существующего к возникающему: Время и сложности в физических науках. М., 1985. 12.Пригожин И., Стенгерс И. Порядок и хаос: Новый диалог человека с природой. М.,1986. C.384-385. 13.Гусев С.С., Пушканский Б.Я. Обыденное мировоззрение: Структура и способы организации. СПб., 1994. C.26. Михалевич Б.А. член Международного Союза художников Санкт-Петербург Искусство в эстетическом поле. Субстанциализм /…линиями Авангарда/ Изобразительность как систему проникновения в предметную структуру субстанции в открытой и целенаправленной форме предъявил русский ху- 182 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 183 дожник-новатор Казимир Малевич. Методом реалистической трактовки он зафиксировал на холсте «первоэлементы созидающей материи». Для творца стало первостепенно важным преодолеть «гравитационное» напряжение предметной среды и выйти в структурно-символическую субстанцию первосущного. Даже рискуя потерей «красоты и преклонения». Но, выйдя за формат «традиционного мировосприятия», художник сохранил за собой право «вида» изобразительного искусства с решением его творчески специфических задач. «Черный квадрат», являясь элементом структуры Вселенной (в которой объемность, перспективность, временность постигаются чувственностью психоаналитического восприятия), предстал символом нового выразительного мироотношения. Определившись в логической, развернутой цепи самобытного, воспринимая все основные процессы изобразительного содержания времени, начала XX-го века, Малевич «замкнул» цепь последовательно представленной им эволюции искусства прецессией Новой эстетики. «Свой Квадрат» нашел место, точку опоры, занял пространство в Эстетическом поле. С исключительной символичностью трактовки черного и белого, в кодово-структурной сущности первоэлемента Квадрата, художник создал магическую субстанцию эстетического воздействия предмета искусства. «Плюс и минус» вспыхнули энергией магнитного заряда в беспредельном апейроне. Эта первооснова всего сущего и повлекла явление животворящего начала и, как мыслили древние, родившимся пламенем вдохнула космическую душу. В первичном, едином элементе (Substratum) скрываются все проявления, причины и развитие всего Сущего. Действительно, материя бесконечна в масштабах макро и микромира, структурна по своей организации, способна «излиться» и аксионовыми частицами, и энергетической составляющей, «размыться» светом во Вселенной, уйти в беспредельность Разума. Это так. Но когда говорится о субстанциальности искусства и что «Черный квадрат» – в поле воин, то с большой долей достоверности следует отметить напряженность насыщенного уровня завязи раскрывающейся материи строя сущностей художника Василия Кандинского. Можно сказать, что в Космической глубине его образоформы находятся много дальше и бинокулярнее от «Большого взрыва» перворождения Вселенной. Это миражи зачинающихся форм и миров в их эволюции и инволюции. Если прикоснуться рукой к небесному простору миропредставления художника, то почувствуются пульсирующие сгустки субстанций, их дыхание и самородность. Фон картин Кандинского – это общее, звучащее цветом состояние материи, в которой свершаются «взрывы» большие и малые. Мазки кисти, расширяясь и сужаясь пространством, становятся частными моментами субстанциального движения. Здесь пространству нет измерения. Мерность его неопределенна и перетекает из одной определенности в другую. Одновременно сосуществуют биоформы, формы субстанций и сущностей, их «интеллектуальная заправка» и проявление в движении. Энергия проливается тоном, многоканально пестрит астральным светом. Сильно развитая чувствительность художника, 184 Материалы международной конференции обостренность нервной системы сказалась на излишке этого сияния в организме, вызывающем необыкновенную восприимчивость внешних соотношений картинной плоскости, склонность к предчувствиям и предвидениям развития структурных связей материи, ее вероятному формотворчеству. Это как отблески и отпечатки сигнатуры, отразившие высокое небо в душе творца и завершившееся росчерком кисти. Эволютивность и инвалютивность решения им феноменов пространства и времени в картине создает образ всеприсутствия измерений. Линия как волевая содержит в себе вещую полноту развития субстантности. Манера письма все сказывает и интерпретирует, как в начальном творческом периоде, так и в «Композициях», «Импровизациях», более поздних «мечтах в красном», в биоформной абстракции. Образ един в идее и синтезе. У Павла Филонова субстанция более конкретная, «наживленная», детализируется реалиями. На первый взгляд. Да, энергетические связки в полном напряжении, многокровные и полнозарядные. Линиатура содержит в себе физическое движение в смысловой, логической нагрузке. Но какая подача. Филонов субстанцией объявляет композицию, колорит, выход тональности в цвет. Форма реального мира наполнена вселенским дыханием. В волевом порыве раскрылись ноздри, объемы, черты лиц и фигур. Цвет уходит за овеществленное понятие и объявляет себя самосущностью; «атомное» развитие полотен «в рост» окончательно заявляет о предцелевом, «сущностном» восхождении автора. Поздний Филонов потеплел, вводит «Формулы весны», космическую вязь, «Лики», кровеносные сосуды в наличествующую высокую материю. Субстанцией представляется как трепет кожи лица, так и кристаллографические цветы Вселенной. Кажется три автора, три великих творца художественного образа, но модальность у каждого своя, своя связь с сущим и Эстетическим полем. Разное отношение к материалу, фактуре, трактовке, решению, выращиванию своего образа, ни с кем не сравнимого стиля, и личный жизненный подвиг за принципы и плаху стоит на мольберте. По сути своей, широко взирая, Субстанциализм как миродействие испокон веков является законнорожденным отпрыском человека. Еще в «те» времена предки вздрагивали от предчувствия и озаряющего воздействия силы энергии, красоты, духа – эстетического потрясения, влекущего и в небо, и в тело, и в землю, и во время. Одной из ранних философских школ Средиземноморья была ионийская натурфилософия, более связанная с городом Милетом. Отличительной чертой данной школы явилось признание первоматерии как однородной непрерывной сущности. По мнению Фалеса, основывающегося на традициях индоевропейских мифологических представлений все происходящее в природе состоит в едином процессе, единой субстанции, едином начале. Фалес считал, что душа является свойством как одушевленных, так и неодушевленных тел и есть источник всякого движения. Это очень важно для структурного построения ряда эстетического присутствия в мате- 184 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 185 рии. У Пифагора превалирует качественное движение внутри исчисления гармонии. И душу Греции он видит в храмах, мистериях, в её посвященных. Аполлон осеняет своим светом мозг, плоть и сердце Греции. Мифологическое приравнивание к физическому как качество одушевленного прорицания. Глубоко изучив пропорции чисел, математику, науку всемирных принципов в концентрическом порядке, Пифагор сумел понять инволюцию духа в материю посредством творческого напряжения, качественного восхождения к единству Гармонии. Место осталось и для поклонения Богу Света. Дионис означил раскрытие божественного духа во Вселенной, а Аполлон – его развитие в земной, человеческой жизни. Так Аполлон – есть внедрение духовной красоты в человека, его мысли и плоть с чувственно открытым порывом. В знаках, числах, символах, глине, камне, металле выражалось творческое ощущение величия Создания, его одушевление. Человек, группа, общество. В любом порядке из них время проходило эпохи. В этих же корнях скрывается и глубина духовно субстанциального раскрытия образцов искусства. Египет возвел свой мир в стерильный простор взаимодействия знаковоодушевленных структур. Их объединяло сияние золотого песчаного воздуха и плазма голубого неба. Всё вращалось единой божественно-овеществленной субстанцией. Творения египтян составляют цельный художественноявленный одухотворенный образ. Пространство времени сливается в эстетической реальности созданных Творений. Стены усыпальниц из золота как металла чистой фактуры субстанции. К ней же принадлежат и зооморфные божества. Качественная определяющая золота – Свет, перешедшая к другим временам, народам и стилям и далее сохранила свою функциональность. В этом же сущем кристаллы, мрамор, гранит. И Гермес понял, что Свет был формой духовнотворящей Вселенной и что укутывающаяся Тьма есть материальная ее составляющая. Всесущую зримость другого ментального мира выводили создатели иного «Канона» светопредставления – иконы. И здесь действовали законы «смещающихся» пространственно-временных измерений, уходящих в мир горний и дольний. Объединенные субстанции духа. Мир небесный, мир земной, и подземный. И всему Голова – священный Свет, изначально ясный свет. «Во Святой Троице одна природа и три Ипостаси». Всё – икона, всё иконично. Весь мир понимался как икона Божия, как явление вдохновленного Художника. Сотворение мира представляется воплощением мысленных первообразов, логосов сущего, с видимыми явлениями и непосредственной конкретностью, с отпечатком духовного в сквозном Всём. (И вспомнятся: Малевич, Кандинский, Филонов). Икотопика зеркальна насыщенности Божественным Энергиям. Видимый, вещественный, иконичный образ есть опора к освоению невидимого. Но обратно – Священные изображения в созерцании помогают восходить к тому, что не имеет чувственного образа. Эстетическое явление в Эстетическом 186 Материалы международной конференции поле. Художники создавали икону, исходя из предопределенного субстанциального соотношения. Это Явь. В повседневности: мастерская, канон и традиция с учетом качественного эстетического освоения другой стороной – зрителем (верующим). Но если страждущие подходили к образам неподготовленные к «чтению» их иконографически, иконологически (на своем уровне) «складни оставались закрытыми», беззвучными, впечатляла только декоративно-изобразительная поверхность. Черты субстанциального присутствия развивали духом, чувством, логикой «авангардно продвинутые» художники, творцы своего времени, наиболее ясно видящие эпохи в их миростроении. Труднее это отнести к «цеховым стилям» средневековья, с их опорой на востребованные авторитеты. Творцы – подвижники ценой неимоверных поисков и усилий, отходя от «накатанных колей» улавливали и воплощали тонкую связь лидерского движения с субстанциально-эстетическим приращением качества. Леонардо да Винчи – связью божественного света, тона, колорита, образа и природы с линиями внутрисущностных рефлексов смог поднять эстетический ранг произведения в идеальный. Хотя структурная сторона «прочтения» изображения осталась открытой для движения высших сущностей. Хотя … и благодаря. Рубенс Пауль. В шикарном творчестве оставил «закон незавершенности» картины. Живая сущность зрителя «сотворчеством» дописывала произведения в идеальные. В другом субстанциальном присутствии Ван Гог и Сезанн. Винсент Ван Гог движением спиралей рельефного мазка «подкручивал материю» космического напряжения в действенную натуру, поджигал «Подсолнухи» линзой души, трепал за фактуру Вселенную. Поль Сезанн – расплавил туманным солнцем цвет, свет, колорит, объяв их всепронизывающим, опять же «стерильным» пространством, перспективой космоса и тоской холста… В этой гонке за чувством развитого рельефного духа, эстетического качества и их выразительными возможностями, торопясь и продвигая «линии Авангарда», творцы часто спотыкались и попадали в тупик. Все возможности материалов и тем использованы, душевный трепет не совпадает с чувственными восприятиями, время ставит свои козни, здоровье уходит… Стили и манеры оставались нераскрытыми, художников мучили кошмары и трагедии. Здесь не без присутствия и влияния обстоятельств, вина сложности мира искусства и тонкость сущей духообильности Эстетического поля, проходящего сквозь всё и вся. Часто задевающего чувственными порывами, да так и не раскрывающего в полной, абсолютной мере своего кодового очарования ни эпохам, ни героям, ни поэтам. Когда пишущий художник смотрит глазом натюрморта, улицы, пейзажа, скорее всего он твердо стоит на ногах в пространстве Ньютона (это не об авангарде). Если творец зрит «птичьим оком», сферой (как Петров-Водкин) – это ближе к Эйнштейну и пространственному времени, или временному пространству, в их движении. Если создатель обладает «видящим» зрением, ему явлены тайные знания и постижения вселенского озарения, прозрения, явле- 186 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 187 ны могучие берега размытых прозрачно тонких измерений. О полной «вспышке» сущего и его абсолютном сиянии непозволительно и мечтать, так как облачены они в цветение высших сфер, в качество тонкой и сверхчувствительной материи, постоянно блуждающей и опахивающей нас. При ретроспективном взгляде на миротворческие позиции инициирующих художников и философов в их сенсуализме больше общего, чем различия. Всегда проходцы авангардных линий искали смычку, контакт материального вещества искусства с его духовной завязью, духовной сущностью. Мудрецы древности подробно представляли субстанции, их элементы в связи с высшими проявлениями. Мыслители средних веков вписывались в сущности околоземных, небесных проявлений. Априорность, апостериорность, трансцендентальность и феноменологичность, аналитические и синтетические суждения только легким крылом пересекались с искусством. Шли рядом и часто дружно. Ученым точных наук того меньше пришлось. И вот Эстетика приняла на себя удар, вся в хлопотах, поисках прекрасного и идеалов. Красота обаяла, идеалы восхищали и пугали своей неприступностью. Канон успокаивал до умиления. В Новой эстетике равновесие сместилось. Именно в это время художники активно включились в создание и освоение субстанциальной, духовной материальности. Как сказал К.Малевич: «… каждый наш шаг вызывает новые приготовления, ибо старые орудия не годятся» для ухода от «видимого земного и ясного нашего мира». Эстетическое качество стало определяющим и ощущение его вышло в поле единого взаимодействия, в эстетическое поле уровня холста, масштаба, плоскости, но с явленной сущностью. Искусство (не путать с духовным искусством) стало показателем присутствия в материи высокой духовности, выразительного эстетического качества. Произведение искусства выступает эстетическим качеством, проявленным в художественной форме. К свойствам высшей сущности принадлежат идея и принципы развития этого качества. В объективном наличествовании показательной формы Малевич приблизился в «первоэлементах» к рубежу реальности, если учесть их первопредметность (хотя атомы уходят далее, в свет представления первочастиц и свечения). В общем «тексте» художник–авангардист остался в чести «первовидца» и «перводемонстратора» реалистического толка. В.Кандинский же выбрал уровень субстанциарных образований и ушел через «интеллекцию» в высший уровень биоморфизации сущего. Учитывая наличие в работах художника известных уже (хотя и не запатентованных) «первоэлементов», можно сказать, что эти два творца замкнули духовно выразительную цепь Эстетического поля. Конечно, в их «силовые линии», в сущностно содержательную кодовую структуру часто очень даже красиво вписывались творцы других линий, видов, направлений субстанциально промежуточных манер реализации эстетического качества материи. Но не в стили. 188 Материалы международной конференции Таким образом, Искусство наполняет собой Эстетическое поле, пространство – временем, движением, элементами, знаками, символами, образами, живой их плотью, дышащей тональностью, гармонией, числом… Вышесодержательное в значительной степени пересвечивается с сущностями великого Новатора П.Филонова. Да, он такой – всеядный, скорее всеведущий от «атома до материи». Сочный цветом и тоном аналитично непогрешимый в концепции и чтущий себя в искусстве, величаво и достойно. Линии Авангарда (с большой буквы) извилисты и тернисты. Истинных творцов не остановили даже последующие заявления науки о том, что «материи нет и вовсе». Есть только энергия и ее лучисто-цветное восхождение. От себя можно добавить – «наполненное самопроявляющимся высшим духовноэстетическим качеством». Вот здесь и есть последнее или первое идейнопервородное формообразование Сущности. Высшего качества Сущности. Эти явленные первопредставления, первообразцы на уровне своего чисто духовного качества, качества высшей эстетической формы. Вся духовная напряженность материи обладает структурноэнергетическими кодами субстанций, которые пронизывают всё сущее, все текущие явления и измерения. Эта «кодовость» пересигнализируется в духовно проявленной материи, содержится во всех ее очувствленных и оживленных формах, работает во всей структуре Эстетического поля, разряжается по сверхпроводникам и в своей совместимости «всполохами» проходит любовь, талант гениального творца, его творения. Насколько четко коды совпадут, спрофилируются, настолько выше чувственное напряжение, возвышеннее присутствующее эстетическое качество и влиятельнее Эстетическое поле. Природа высшего света, высшей сущности, духовно-эстетического начала одна и они находятся во взаимных «переливах», обладают всеми потенциалами измерений. Здесь же исходящий «темный свет» имеет возможность проявиться магией, демиургией, каббалой, колдовством… Обладание кодами сущего очень опасно в произволе… Но таково великое содержание всесущности и некоторых острых зерен эстетики. Художники «озарением» умеют положительно субстанциировать кодовый мир, пользоваться образной системой эстетического качества, Эстетического поля, вводить их в свои произведения. Практически, в этом величие их успеха и розы славы на устах… Искусство в творческом подъеме всегда утверждало значимость присутствия в его теле высшей Сущности. И оно эту сущность старалось чувствовать и предчувствовать везде, даже при разном результате. Все произведения, в лучшем случае содержат «плазму» проявления высшей материи. А в материи нет пустоты, как нет материи пустоты. Как и не может быть «Взрыва» из объема пустоты. Взрыв не может появиться точкой из ничего не будучи содержанием. Есть форма Субстанции, перетекающая из одного состояния в другое, преломляющаяся, меняющая формы, явления, измерения – играющая. 188 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 189 Высшее качество духовно очувствленного Всего – есть эстетическое качество, разворачивающееся и развивающееся в Эстетическом поле. И внутренними свойствами его является движение, сияние, формо, тонообразование, свето, цветосияние, интеллектно-чувственная наполненность, состояние мягкоагрессивной внутренней гармонии. Это всеобщие атрибутные свойства поля, включая сверхтекучесть процессов и сверхпроводимость энергии. Дыхание духовности. Свои конструкции и проекции. Где высшим принципом является состояние. То есть – Эстетическая сущность – это духовно очувствленное Состояние. Духовность есть качество высшей Сущности и идея его – Гармония. Мир всматривается в себя и ему становится страшно за свои «атомы», за своих Богов и богов в себе. Но так ли они хороши, чтобы за них ломать копья и перья? Так ли красивы и эстетичны? Не вмешалась ли во всё Ата, богиня заблуждений? И прав ли был Зевс, сбросив ее с Олимпа? Но мы более «приземлены», чем обожествлены и скорее отнесем себя к области «суперструн» и услышим их мелодию в горах высших сущностей, чем вернемся к диалогам с Зевсом… Обращение к Качеству повернулось его «гравитационной» стороной: качество существа, естественное качество, качество природы, общества… Фактически, творчеству, искусству осталась роль дематериализации материи через предметную духовность. А эстетическое начало, эстетическое качество всё ходит «Над пропастью во ржи», Сэленджера. «Над пропастью», ибо не охватило полносущно свой предмет обожания (тем более, когда этот предмет размыт в берегах); и «во ржи» - ибо через семя духовный строй человека откликается полнокровно на вздохи неба. Новая Эстетика поднималась от заземленности, очеловеченности традиционной. Оторвалась от земли, но в полете совей «естественности» не в полную меру ощутила всеприсутствие высшего качества. Изтонически (в духовной тональности и свете) не определилась. Новое искусство этот рубеж преодолело вполне самодостаточно. Искусство явилось эстетическим качеством, проявленным в художественной форме. А Изотоника есть очувствленная духовность. Правда, искусство в большей мере гарантирует, нежели извлекает Сущность. Присутствие чувственно-структурного в Малом (сигнатуре пальца, глаза, мозга, нервной системе) напоминает о Великом (структура Вселенной, строение Галактик, взаимодействие полей) и через Малое возвращается в сияние Великого. Тот принцип, который вывели и могли объектировать Великие Старики, Великие Посвященные. Трехмерный мир остался в рамках канонизированной и диалектизированной проекции. В сложившейся парадигме построения научных систем трудно рассчитывать на выход к истокам высшей Сущности, тем более трудно вывести принцип ее высшего качества. Материальный мир в 3-х мерной системе, мышление в 4-ом измерении. Эстетическому качеству остается «прослойка» - конечно, не по уровню. Методы неевклидовой геометрии 190 Материалы международной конференции охватили от микромира метамир, приняв в пространство и время топологическое свойство Вселенной. Общая теория относительности явилась четырехмерной римановой геометрией, где уже пространство и время, охваченные движением находятся практически в едином качественном соотношении. Выход к количеству проекций, но не далее. Кроме гравитационных, электромагнитных, ядерных или иных силовых взаимодействий, наука выявила и такой фундаментальный вид физических отношений, которые, хотя и не являются силовыми или слабосиловыми, не вписываются в «реальное сознание». Кажется, «шестимерного» пространства Эйнштейна не достает для ухода в первоматерию, в первосущее. Всё-таки, поход в высокие измерения «чисто» научным методом, кажется, не представляет возможным опознать «те» высшие сущности, познакомиться с их чувственно-духовными носителями. Тонкий мир играет тонко, хотя и он играет с нами. Эстетическое поле «повсечасно», работает оно в своем кодовоструктурном русле, раскрываясь «образотворчеством» в формодвижении, зеркальном энергочувстве. Это сверхтонкая материя, которая телом духа присутствует и в нас – «зовом сфер». Пифагор рассматривал Вселенную как великий монохорд со струной, крепящейся одним концом к абсолютному духу, а нижним концом к абсолютной материи. В звучащем Эстетическом поле чистота цвета, тона, Гармонии и души относится к Искусству качественной стороной воспроизведения сонма субстанциальных образов и их вариаций. Поиски и развитие «авангардных линий» эстетического движения, духовного преисполнения в Искусстве, качества высшей сущности были повсеместно, при разном уровне подъема и рефлексии, с различным миропониманием и меровоплощением. Субстанстность – одно из важнейших атрибутных свойств материи. Проявление ее явственного духовного содержания пререгоратива Эстетического поля. Авангардное соло линий таланта творцов, их идеи и жизненная тональность составляют монадный строй Эстетического качества. Тенденция субстанциального миропредставления развивается в Субстанциальном стиле искусства, где центральным принципом концепции есть цветотональное, формосозидающее явление Света. Свет, который видели и запечатлели в своих творениях великие художники и философы. Мозжухина Т.В. кандидат философских наук, доцент Москва Массовое и элитарное в культуре постмодернизма «…вы должны пить много молока, чтобы быть в состоянии оценить 190 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 191 вкус сливок; и вы должны пить много кислого молока, чтобы быть в состоянии оценить вкус молока…» Стивен Кинг «Пляска смерти» Современная культура отличается высокой толерантностью, сочетая «высокое» и «низкое», «массовое» и «элитарное». Стилевая микшированность, ирония, интертекстуальность, поэтическая поливалентность, «пастиш», «ризома», принцип «двойного кодирования» - отличительные черты культуры постмодернизма. Массовая культура в ХХ веке стала серьезной альтернативой элитарной культуре. Сближение с массовой культурой стало основным аргументом одной из концепций о принципиальных различиях постмодернизма от модернизма[1]. Поп-музыка, мода, развлекательная продукция, бульварная и желтая пресса, научная фантастика, комиксы, реклама и т.п. – эти направления принадлежат к сфере «массовой культуры». Массовая культура ХХ века значительно отличается от таковой ХIХ века, т.к. использует в большей степени, чем элитарная культура, самые современные технологии в различных отраслях общих антропологических дисциплин – психологии, политологии, социологии, менеджмента и др. Используя High Tech и научные достижения, массовая культура искусно манипулирует человеческими импульсами, реакциями, страстями, инстинктами масс. Становлению и развитию массовой культуры способствовал научнотехнический прогресс и политика, в частности, в Западной Европе, обеспечения всеобщего начального образования (так например, 1717 в Пруссии начальное образование для детей всех сословий стало обязательным, 1879 в Англии). Появление и совершенствование фотографии, наряду с графикой, способствовало развитию комиксов и т.н. «фотороманов». Французский критик Шарль Огюстен Сент-Бёв (1804-1869), автор статьи «Меркантилизм в литературе», был одним из первых исследователей массовой культуры. Юрий Михайлович Лотман (1922-1993), знаменитый отечественный литературовед, искусствовед, семиотик, культуролог, изучал феномен массовой культуры. Лотман отмечал, что данному феномену соответствует, как правило: цинизм, пошлость, скепсис, черный юмор и т.п. Еще в десятых – тридцатых годах ХIХ века в Западной Европе широкую популярность завоевала развлекательная и дидактическая беллетристика, как правило, выходившая крупными тиражами. Т.н. «бульварный роман»: любовный, великосветский, детективный, приключенческий и т.п. – стал самым популярным жанром для массового читателя. 192 Материалы международной конференции В одном из интервью, говоря о «бульварной» литературе, знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино, культовая фигура культуры постмодернизма, так определил ее суть: «…это книжка в мягком переплете, о сохранности которой никто не заботится. Вы читаете ее, суете в задний карман, сидите на ней в автобусе, страницы вываливаются, - и вас это ни грамма не парит. Прочитав, вы даете ее какому-либо знакомому или выбрасываете. Вы не поместите ее в свою домашнюю библиотеку»[2]. Мировую известность К. Тарантино принес его знаменитый фильм «Криминальное чтиво» (1994). Фильм завоевал главный приз Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь». Культовый фильм Тарантино – это своеобразная криминальная антология, объединяющая три короткометражных криминальных драматических фильма. Сам Квентин Тарантино не имеет режиссерского образования, и идея «Криминального чтива» появилась у молодого режиссера, когда он пытался «постичь пути построения фильма»[3]. «Криминальное чтиво» стало образцом монтажа кинематографа постмодернизма, созданным в координатах постклассической эстетики. Квентин Тарантино, автор также широко известных фильмов: «Бешеные псы»(1992), «От заката до рассвета»(1996), «Убить Билла»(2003/2004) и др. – сообщил свой простой рецепт создания фильма: «Берешь весь смак жанрового кино, добавляешь специи реальной жизни, причем не так, как принято по правилам, и получаешь кайф»[4]. «Не так, как принято по правилам» - основной принцип постклассической эстетики постмодернизма!!! «Чтиво, – утверждал Тарантино, – подается в шуточной форме, оно появилось в угоду вкусам определенного сорта читателей. Чтиво никогда не подвергалось никакой критике. Это давало возможность делать свои собственные открытия и отыскивать бриллианты в мусорной корзине[5]. Талантливый режиссер – самоучка Квентин Тарантино создал свою вселенную, принципы которой имманентны эстетике постмодернизма. В этой вселенной содержится невероятное количество иронии, цитат; море крови, насилия, черного, даже «висельного» юмора. Ей свойственны: неожиданные, шокирующие переходы от комедии к трагедии и обратно; неподдельная достоверность и доверительность диалогов, ритм реальной жизни, а также искушенность в приемах, которые за свою вековую историю накопил кинематограф[6]. Говоря об эстетике постмодернизма, в контексте творчества К.Тарантино, необходимо отметить, что невероятное количество черного юмора, насилия и крови в фильмах американского режиссера воспринимаются зрителем «отчужденно», не как реальный мир, режиссер представляет некую иную, кинематографическую реальность через «свойственные комиксу отчуждающие приемы»[7]. 192 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 193 «Я не на секунду не пытаюсь уверить вас, – утверждает Тарантино, – что представляю реальный мир. Я не хочу вызвать у зрителя шок и нигде … не акцентирую боль»[8]. «…дать по башке, а потом рассмешить»[9] – принцип работы Квентина Тарантино. На кинематограф постмодернизма оказала большое влияние т.н. клиповая эстетика, сочетающая в себе определенный ритмический монтаж фрагментов изображения, глубинные композиции, резкие сочетания цветов и т.п. В клиповой стилистике выдержан фильм Тома Тыквера «Беги, Лола, беги» (1998), принесший молодому немецкому режиссеру мировую известность. Наряду с игровыми элементами фильма режиссер использовал и анимационные. Героиня фильма – Лола – молодая девушка, пытающаяся спасти своего парня – достать крупную сумму денег, которую он срочно должен отдать. Невероятно рыжие волосы делают героиню похожей на героиню комиксов, к тому же анимационный рефрен повторяет сюжетную ситуацию постоянно бегущей девушки. Интенсивный ритм разворачивающихся событий присущ фильму. Основной сюжет картины трижды повторяется, каждый раз с новой вариабельностью развязки, в конечном счете – с хэппи-эндом. Зритель смотрит картину в постоянном напряжении. Повтор сюжета, свободное обращение со временем – характерные черты эстетики постмодернизма. Клипы повлияли и на «нормативную киностилистику, катализировав эстетические процессы, развивавшиеся в кино и ранее: гораздо чаще активнее и разнообразнее стало применяться движение камеры (особенно вертикальное), весьма непринужденнее стала использоваться оптика …, широкое распространение получили резкие неожиданные ракурсы, намного свободнее и контрастнее стала работа с крупностью …, больше внимания стало уделяться цветовому решению фильма и световому рисунку, но самыми заметными оказались изменения в области монтажа»[10]. Кроме того, эстетику постмодернизма отличает акцентированное внимание к деталям. Это присуще и творчеству Квентина Тарантино и Тома Тыквера и др. режиссерам, писателям, художникам, творчество которых принадлежит к культуре постмодернизма. Пристальное внимание к деталям – характерная черта постмодернистской эстетики. Так, знаменитый австрийский писатель Петер Хандке, друг и соратник Вима Вендерса, произведения которого экранизированы немецким режиссером, в своем творчестве также уделял большое внимание детали. Действительность, перегруженная реалиями и разрозненными деталями, «воспринимаемая им с такой немыслимой четкостью, что начинает рябить в глазах. И он пытается действительность эту даже не столько осмыслить, сколько упорядочить, урезонить, превратив реалии и детали в слова. Но вещи бунтуют против слов…»[11]. 194 Материалы международной конференции Творчество т.н. «Новых Диких» Германии – неотъемлемая часть мировой художественной культуры постмодернизма. Представителями данного направления являются Георг Базелиц (р.1938), Пенк (р.1939), М.Люперц (р.1941), Й.Иммендорф (р.1945), А.Кифер (р.1945). Искусствоведы называют их творчество нео-барочным. Эстетические тенденции «Новых Диких» в значительной степени напоминают тенденции стиля барокко, однако современное явление отличается и своими особенностями. «Лабиринт (он же ризома, переплетение пустотелых корней - смыслов); полумрак, мерцание свечей, зеркала, в которых бесчисленно повторяются неясные очертания лиц и предметов - вот подлинный мир постмодернизма, то символическое пространство, где он может проявить себя в полной мере; в этом смысле постмодернизм соприкасается с миром барокко, отличаясь от него тем, что если в барокко игра еще была чем-то значимым, то здесь и само отношение к игре сделалось игровым»[12]. Барокко как таковому, как утверждал Генрих Вёльфлин, свойственны две черты, а именно: «…с одной стороны, безотносительное увеличение пропорций, с другой – упрощение композиции и подчинение ее единству замысла»[13]. Обе эти черты присутствуют в творчестве «Новых Диких». Увеличение масштаба – постоянный спутник вырождающегося искусства, или вернее, искусство падает, чуть только сила впечатления достигается массивностью, колоссальностью пропорций, частности ускользают. Тонкости восприятия формы притупляются. Остается лишь стремление к внушительному и подавляющему»[14]. «Барокко – нагромождение отдельных частей. Он пытается создавать из одного куска весь корпус здания, вместо обилия мелких деталей – ищет единства и грандиозности, вместо расчленения – связности»[15]. Более тщательное и трепетное отношение к детали, обилие деталей, внимание к деталям, также – тенденция к грандиозности и в то же время – отсутствие доминанты – это специфические черты современного явления, отличительная черты нео-барокко. Некоторые картины и коллажи Кифера, например, по размерам достаточно широкомасштабны, что роднит их по этому параметру с американскими абстрактными экспрессионистами - характерной чертой их творчества была тенденция к увеличению масштаба холста[16]. Таковы его ландшафты как: Nigredo (1984г., – 3,3х5,5м); Wege: märkische Sand (1980г., 2,55х3,6м), Нюренберг (1982г., 2,8х3,8м); картины, репрезентирующие пространства: Sulamith (Суламифь, 1983 2,9х3,7м), Неизвестному художнику (1983г, 2,08х3,81м); Женщины революции (1986г., 2,8х4,7м), Время Сатурна (1986г., 2,8х3,3м); ветхозаветные темы: Иерусалим (1986г., 3,8х5,6м), Приказ ангелов (1983-1984гг., 3,3х5,55м), Красное море (1984-1985гг., 2,78 х 4,25м), Мидгард (1980-1985гг. 3,6х6,04м); Книга (1979-1985гг. 3,3х5,55м) и т.д. 194 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 195 Настойчивое внимание к «массовой культуре» проявилось в мировом искусстве еще в конце 50-х годов, когда в США и Великобритании возникло новое направление – т.н. «поп-арт» – адекватное искусство «массового общества», теоретиками которого были: Г.Маркузе, Э.Фромм, Д.Рисмена, У.Уайта, Р.Миллса, У.Корнхаузер. В поп-арте парадоксально сочетались готовые бытовые предметы, фотокопии, растиражированные репродукции, муляжи, отрывки из реклам, комиксов, промышленной графики и т.п. Иногда сравнивали с поп-артом своеобразный мир вещей Маркуса Люперца, т.н. «дифирамбическую живопись» - визуальный ряд повторяющихся образов: каски, колосья, объекты быта. Изолированность «Дифирамбов» напоминала изолированность объектов поп-арта»[17], – отмечал известный историк искусств ХХ века Генрих Клотц, - эта ассоциация появилась, когда Маркус Люперц сосредоточился в своем творчестве на таких банальных вещах повседневности, предметах массовой культуры, как стеганые одеяла, черепица, спаржа и т.д. По сравнению с сюрреалистическим видением вещей как объектов, принадлежащих некоему фантазийному, «акаузальному» ландшафту, объекты художественного мира Маркуса Люперца не являются частью ландшафта, а скорее, «являются самой картиной»[18], таким образом, немецкий мастер создал некий собственный, ни на что не похожий мир. «Это не было ни сюрреализмом, ни поп - артом, - пишет Генрих Клотц, – это был особый Космос вещей и объектов, которые сохраняли свою структурную пластику, в тематическом контексте ХХ века»[19]. Мир живописи Люперца наполнен «дифирамбическим пафосом»[20], глубоким содержанием: шлемы, офицерские фуражки, шинели, снопы пшеницы[21], лопаты, раковины улиток, палетты, эмблемы, атрибуты истории искусств, культуры, политики… Живописный мир художника напоминает не только немецкие мотивы, но и продолжает глубокие национальные традиции в искусстве и философии[22]. В творчестве «Новых Диких» Германии органически сочетается проблематика «гения места», национальной трагедии раскола и вины за негативное прошлое, стремление к национальному единству, мозаично инкрустируется традиционная «элитарная» германская архаика в микшированную семантику современности, тонко переплетая аспекты реальности и мифологии. Коллажи и композиции художников, концептуально порой уходящие глубокими историческими корнями в далекое прошлое, соединяют на полотне, казалось бы, ранее несовместимые понятия, параллельные миры, фантомы и реальность, ментальный и физический план, а иногда лишь намеком, лишь одним названием, они способны вызвать пространный комментарий историка искусств. Благодаря постмодернистской «толерантности» в выборе средств и методов визуального искусства, а также – широкому спектру доступных и 196 Материалы международной конференции допустимых в современном авангардном искусстве материалов, представители «Новых Диких», (в частности, Ансельм Кифер), создали неповторимые шедевры мирового искусства. Так, в своих работах Кифер использовал органические материалы – солому, сухие травы и цветы, натуральный речной песок, фрагменты фотографий, аморфные платы свинца, деревянные рамки, битое стекло и даже металлические предметы… «В корпусе его произведений, – как пишет историк культуры, доктор философских наук Екатерина Андреева в книге «Постмодернизм» о работах Кифера, – «преобладают картины, больше похожие на ассамбляжи, так много в них материального, например, вклеенной ветхой одежды, и органики (земли, соломы, жженых поверхностей), и написаны они всегда почти в одной и той же гамме обгоревшего металла»[23]. Как и его знаменитый учитель – Йозеф Бойс (1921-1986), провозгласивший однажды, что «Каждый человек – художник», Кифер верит в волшебную преобразующую силу искусства, придавая бренным, казалось бы элементам, несомненно, принадлежащим к «массовой культуре», иное – даже сакральное значение, наделяя фрагменты соломы, сгустки свинца, садовую лопатку, речной песок, сушеные травы и т.п. – магическим смыслом, приобщая их к волшебному миру искусства, и тем самым превращая в части «элитарного», вечного… Подводя итог разговору о постмодернистской эстетике через призму «массового» и «элитарного», – необходимо еще раз отметить, что современное искусство, значительно сблизилось с «массовой» культурой. Практически, толерантное сосуществование различных по качественной ориентации культур в постмодернизме, сместило семантический акцент в сторону адаптации адекватной части «массовой культуры» к культуре «элитарной». Примечания 1. Громов Е. Маньковская Н. ПОСТМОДЕРНИЗМ теория и практика. М., 2002. С.17. 2. Квентин Тарантино: интервью. СПб., 2007. С.112. 3. Там же. С.111. 4. Там же. С.317. 5. Там же. С.113. 6. Там же. С.28, 204. 7. Там же. С.318. 8. Там же. 9. Там же. 10. Филиппов С. Киноязык и история. М., 2006. С.131. 11. Затонский Д. Художественный мир Петера Хандке. // Хандке П. Повести. М., 1980. С.8, 11. 196 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 197 12. Вайнштейн О. Постмодернизм: история или язык. // Вопросы философии, №3, 1993. С.13. 13. Вёльфлин Г. Ренессанс и Барокко. Исследование о сущности и происхождении стиля барокко в Италии. СПб., 1913. С.32. 14. Там же. С.32, 33. 15. Там же. С.33. 16. Schug A Die Kunst unseres Jahrhunderts. Köln, 1994. S.321. 17. Klotz H. Kunst im 20.Jahrhundert Moderne-Postmoderne-Zweite Moderne. München, 1994. S.70. 18. Ibid., S.70. 19. Klotz H. Markus Lüpertz: Gegenstandserfindungen – Menschenchiffren // Lüpertz M. Belebte Formen und kalte Malerei. München, 1986. S.10. 20. Thomas K. Bis heute. Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20.Jahrhundert. S.305. 21. Klotz H. Abstraction and Fiction. // Refigured Painting, P.52. 22. Richter H. Geschichte der Malerei im 20.Jahrhundert Stiled Künstler. Köln, 1998. S.265. 23. Андреева Е. Постмодернизм. Новая история искусства. СПб., 2007. С.250. Назарова О.Ю. Санкт-Петербург Постмарксистский анализ кинематографа как сердцевины визуальности современной культуры в философии Фредрика Джеймисона 1. Визуальность – новая метафизика постмодернизма. Фредрик Джеймисон, американский философ-неомарксист, обращается к анализу визуальности как «новой метафизики». Современная культура для Джеймисона носит, по своей сути, визуальный характер, который репрезентируется не только в кинематографе, но и в других сферах проявления человеческого творчества, таких, как архитектура, литература, фотография и изобразительное искусство, мутировавшее в конгломерат фрагментов. Сама суть культуры «позднего капитализма» представляется визуальной, в отличие от культуры «раннего капитализма», носящей характер повествования (narrative). Для того, чтобы выяснить основу этой визуальности, Джеймисон, последователь и сторонник марксистского анализа как освновной методологии выявления оснований любой культуры, обращается к анализу социальных оснований и эффектов этой визуальности в культурно-историческом плане. 2. Редукция классической повествовательной формы в эпоху модерна. Для того, чтобы нагляднее представить себе произошедший в современной культуре переворот, необходимо вспомнить о том специфическом чув- 198 Материалы международной конференции стве скуки, которое большинство наших современников испытывает при чтении классических романов, становящихся сейчас, скорее, раритетом библиотек, нежели актуальной составляющей жизни современного человека, живущего в информационном мире. Классическая повествовательная форма оказалась несоразмерна сознанию модернизированного человека, который не способен более ухватывать единый стройный сюжет с множеством хитросплетений, доходящих до высочайшей степени изощрённости и мастерства в произведениях великих классиков жанра. Почему же произошло то, что более актуальными стали малые формы повествования? 3. Смена культурных парадигм как результат изменения социальных практик. «Визуальная культура» пришла на смену раннекапиталистической культурной парадигме, существовавшей с XVII до середины XIX века и которую Джеймисон называет «реализмом». Реализм состоит в том, что содержание произведения искусства (впрочем, как и любого проявления человеческой деятельности) базируется на жизненном опыте индивида. В этом смысле классический роман – это образец повествовательной формы. Для американского философа реалистическое повествование как жанр западноевропейской литературы является последствием реальных социальных практик. «Появление социальной мобильности, формальные эффекты денежной экономики, и рыночная система выступают важнейшими предпосылками реалистического повествования»[1]. Повествование как один из ключевых терминов анализа джеймисоном данного типа культуры является не просто проявлением эстетики, но и средством соотнесения индивидом себя с трансцендентным по отношению к его собственному существованию планом – историей. Последнее – принципиальный для всей джеймисоновской философии термин, выявляющий диалектический подход к явлениям культуры, не только материальным, но и символическим. История заключает в себе единство двух содержательных уровней: истории как внешнего социально-экономического бытия людей и как внутренней формы опыта. Таким образом, история представляется горизонтом нашего мышления. Примечательно то, что Фредрик Джеймисон совершает попытку описать постмодернизм – состояние современной культуры – как историческое явление, пересматривает историцизм, фиксируя исторические формы на глубоких уровнях массового сознания. Так каково же место кинематографа в современной культуре? 4. Усиление влияния логики капитала и реификация. Искусство в XX веке потеряло свою сакральность, поскольку были внедрены новые технологии репродуцирования, а также появились визуальные языки фотографии, кино, телевидения. В этих визуальных языках внутри чувственного опыта экрана проявилась материальность культуры и истории. Видимый мир для Джеймисона – это отчуждённый мир, и эту отчуждённость мы можем увидеть, только «историизируя». Визуальность, пришедшая на смену повествованию, есть продукт распада «больших форм», происходящий 198 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 199 под влиянием логики капитала. В связи с этим процессом Джеймисон вводит понятие «реификации» - процесса превращения человеческих отношений в вещные. Для того, чтобы историизировать феномены капиталистической культуры необходимо выявить условия их возможности в реификации. Феномен «языка кино» появляется именно в условиях автономизации и «товарной» фетишизации крупных классических форм. Сознание потребителя художественного продукта программируется на логику эпизодического, на выхватывание отдельных фрагментов, не связанных общим полем повествования. Внимание может привлечь какой-то отдельный сюжет, яркая и удачно подобранная фраза или слово. Кино перехватило у литературы доминантное положение носителя духа эпохи. Язык кино – не временной, в отличие от литературы, а пространственный. Но пространство это не континуальное, а прерывистое, состоящее из провалов и неровных поверхностей. Согласно джеймисоновскому анализу, в постмодерне время предстаёт в виде шизофренических потоков автономных моментов настоящего. 5. Современный кинематограф как материал для обнаружения диалектической перспективы существующей раздробленности восприятия. Джеймисон обращается к анализу современного кинематографа как средству раскрытия глубоких бессознательных пластов современности, предпринимая попытку найти диалектическую перспективу фрагментированности дискурса настоящего, выявить в раздробленности потенциальную целостность, возможность утопии и истории объединяющей, а не дистанцирующей индивидов друг от друга. Любой фильм, по Джеймисону, является по сути своей порнографическим, поскольку порнографична всякая визуальность как таковая. В эстетическом смысле здесь проявляется тенденция к пустому рассматриванию визуального объекта как обнажённого тела, при котором происходит превращение самого рассматривания в самодостаточный бессмысленный акт. Но рассматривающий никогда не достигает катарсиса в своём рассматривании, поскольку сам сюжет постоянно ускользает от взгляда, не давая постичь однозначного смысла. 6. Анализ советской фантастики, экранизированной в кинофильмах современных режиссёров. «Магический реализм» советской фантастики. Американский философ пишет о советской научной фантастике, своеобразно изложенной, например, в фильме Александра Сокурова «Дни затмения». Не пересказывая пространно сюжет, скажу лишь о том, что фильм этот снят по мотивам повести А. и Б. Стругацких «За миллиард лет до конца света». Несколько учёных, работающих в различных областях, не соприкасающихся между собой, приходят к выводу, что на них пытается воздействовать некая сила, пытающаяся помешать их дальнейшим научным изысканиям. Причём сила эта действует при помощи политики и кнута, и пряника, то жёстко направляя и ограничивая деятельность учёных, то мягко уводя их в сторону с помощью обычных человеческих слабостей от основного предмета их научной деятельности. В этой ситуации исследователи бросают вызов, 200 Материалы международной конференции сами того не зная, когнитивному картографированию. Фильмы подобного рода Джеймисон относит к разряду «советского магического реализма»[2]. Этим термином американский философ пытается передать эффект, возникающий от приглушения жанровых признаков – жанровые условия стираются, фильм этот нельзя назвать фантастическим в чистом виде, это, скорее, «возвышенная» научная фантастика. Если рассматривать эту проблему сквозь призму концепции Гегеля, то получается, что сама фантастика как таковая при таком подходе уничтожается, но при этом продолжает существовать в сублимированном виде как снятая. И вот именно то, во что сублимировалась научная фантастика, Джеймисон и называет «советским магическим реализмом». Визуальность в фильме Сокурова патологична: если в повести Стругацких действие разворачивается в душном, перегретом солнцем пространстве города, то Сокуров переносит место действия героев в Туркестан, где на пыльных улицах сидят, опершись о стены, жёлтые беззубые люди, непостижимые в своей чужеродности. И непонятно, то ли это другой мир, то ли край света, то ли какая-то граница между мирами, за которой пропасть. Цвет объектива – тёмно-оранжевый, передаёт ощущение духоты и растворяющихся в ней остатков человеческой деятельности – поломанные стулья, старые пишущие машинки, обрывки учебников и рукописей, всё это наполняет пространство нестерпимой болезнью духоты и рассеивания, растворения во времени, происходящего прямо на наших глазах. В этом смысле главный герой, появляющийся на фоне подобных декораций – атлетически сложенный интеллектуал, совершенно не вписывается в неизлечимый ландшафт туркменского поселения. Если в повести главный герой – Малянов – астрономтеоретик, то в фильме перед нами предстаёт доктор-педиатр, занимающийся изучением отношений между иммунитетом и религиозным фундаментализмом. 7. Стирание жанровой границы между произведениями массовой и высокой культуры. В этой связи Джеймисон обращается к фильмам Тарковского, в частности, к «Сталкеру» как к образцу переступания специфической жанровой границы, отделяющей окололитературный или субкультурный жанр от высокой литературы и высокого искусства. По Джеймисону, «Пикник на обочине» Стругацких, по которому и был снят «Сталкер», содержит аллегорическое изображение гипотезы, согласно которой происходящие с людьми «таинственные события» не должны рассматриваться как обычные случайности, а их необходимо анализировать как проявление некоей высшей силы, её рефлексы. Американский философ критикует Тарковского за то, что он привнёс в «Пикник на обочине» мрачный религиозный сюжет, придав главному герою христоподобность и неуместную, по его словам, торжественность. Но следует учитывать, что Джеймисон здесь выступает не столько против религиозного содержания, сколько против режиссёрской претенциозности и устаревших режиссёрских парадигм. Религиозная серьёзность проявляется там, 200 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 201 где могут возникнуть эстетические сомнения, но и сентенция о религиозности также не может чётко оформиться, потому как фильм этот имеет соотнесённость с «высоким искусством». Таким образом, говорит Джеймисон, сопротивление наше блокируется дважды, делая нас объектом манипуляции мастера. 8. Работа с фильтрами как средством изменения качества восприятия. Таким образом, тема религиозности является актуальной в этих кинофильмах, снятых по мотивам повестей Стругацких, но проявления её весьма различны. Джеймисону импонирует тот факт, что Сокуров не привносит религиозной составляющей в сам жанр, не трогает также научнофантастическую составляющую, оставляя, однако, возможность её присутствия потенциально. Но, в отличие от Тарковского, Сокуров использует фильтр, для того, чтобы добиться эффекта духоты и запылённости. Сквозь такой фильтр повседневная жизнь жителей маленького туркестанского посёлка кажется проходящей под толстым налётом пыли. Но если вглядеться пристальнее сквозь оранжевый фильтр, то становится ясно, что местные жители – никакие не вырожденцы на краю земли, а люди, ведущие упорядоченный в своей замкнутости образ жизни и жизненные циклы их подчиняются статичным законам. Они такие же, как и другие люди, просто культура их загадочна и мы не можем туда проникнуть, кроме как занимаясь рассматриванием их сквозь этот фильтр. Фильтр – важная составляющая визуального образа. Джеймисон пишет, что «этот приём является, видимо, советским нововведением и значимым формальным ответом на образную культуру постмодернизма как таковую в ситуации, где возвращение к чёрно-белой фотографии есть невозможная утопия потерянного объекта желания»[3]. Как считает американский философ, использование таких фильтров призвано решить одну насущную проблему – проблему избавления от навязчивой образности, репродуцирующейся на протяжении длительного периода времени в советском кинематографическом искусстве. Эта проблема ликвидации наследства, решение которой направлено на поиск «некоего нового, меньшего ключа или языка, который мог бы заменить уже достигнутый и позитивный»[4]. Фильтры помогают «размывать» изображение, умерить автономию множественности цветов, придать картинке на экране желаемую тональность и настроение. В связи с этим Джеймисон упоминает другой фильм – «Мой друг Иван Лапшин», 1984, Алексея Германа, экранизация повестей Юрия Германа. В фильме описывается история Ивана Лапшина, начальника уголовного розыска города Унчанска, короткий кусочек жизни главного героя и его друзей, воспроизведён как увиденный и вспомненный мальчиком. Фильм больше похож на некую зарисовку, эссе, набросок, оставляющий очень воздушное ощущение зыбкости, преходящей мимолётности периодов жизни. Сложно отнести данное произведение к какому-то конкретному жанру, поскольку в картине совершенно отсутствуют какие-то режиссёрские штампы. Свобода построения этого сюжета носит творческий, но продуманный харак- 202 Материалы международной конференции тер. Современные критики иногда даже усматривают в этой картине прототип современных, но уже коммерческих фильмов, таких, как «На игле» (Trainspotting), «Неглубокая могила» и «Дождь из камней». Фильм «Мой друг Иван Лапшин» – это действительно очень яркий образец киноискусства, получивший премии на многих кинофестивалях своего времени, например, на МКФ в Локарно в1986 году, МКФ в Роттердаме, 1987 год. В этом смысле история советского киноискусства читается как история сопротивления сюжету, извне предписываемому герою. Фильтр применяется здесь, чтобы расшатать противопоставление чёрного и белого, открывая совершенно новое видение, богатство тонов, додекафонии, побеждающее жёсткость сюжета. Визуальные противоположности и альтернативы сочетаются и рифмуются совершенно особым образом, задавая специфический ритм визуального повествования. Например, в «Днях затмения» Сокурова жёлтое отсылает нас к воспоминанию о выцветших фотографиях, где запечатлены давно ушедшие времена, события которых прошли, а очевидцы давно умерли. В связи с этим примечателен момент кинофильма, где милиционеры приходят в дом якобы самоубийцы Снегового, военного инженера, для протоколирования факта самоубийства. Это действо являет собой в контексте фильма замечательный зрительный опыт, доступный зрителю как результат диссонанса между сказочными приключениями главного героя, Малянова, и жёлто-серой документальностью съёмки местных жителей и пространства их обитания. Кинокамера останавливается на сцене протоколирования самоубийства и упивается бесцельностью суеты, происходящей в комнате недавно ещё живого учёного. Эта абсурдная деятельность, или изображение и симуляция таковой, охватываются взглядом со всех сторон, выявляя инертность системы бюрократического аппарата, бездумно протоколирующего уже имеющие факты, исходя из своей собственной направленности на выявление иного, чужеродного. Но тем удивительнее бесчувствие системы к странному самоубийству, чем больше интенция увидеть измену Родине. Чиновники, представляющие коллективный или социальный эквивалент внутреннего беспорядка, являющегося результатом распада целого на отдельные подёргивающиеся части, как у сумасшедших, не имеющих возможности уловить целостность лица другого человека, продолжают бездумно выполнять свои единичные задачи, не улавливая целого, самого смысла расследования. 9. Анализ структуры научной фантастики как формы басни, предмет которой модифицируется в кинематографическом истолковании. Согласно Джеймисону, в фильме «Дни затмения» снимаются слои абстракции с повествовательной формы научной фантастики. В повести Стругацких учёные искали оправдания своей деятельности, что ставило под вопрос прекращение научной работы. В фильме же сама деятельность Малянова как практикующего доктора и поиски путей к преодолению социальной нищеты не позволяют задаваться вопросом о необходимости этого, потому как любому гуманистически мыслящему зрителю понятно, что оправдания 202 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 203 подобного рода деятельность не требует. Речь идёт не о единичном научном открытии теоретического порядка, а о созидании общества совершенства и облегчении человеческого страдания. Таким образом, констатирует Джеймисон, сама структура научной фантастики предстаёт перед нами как басня, где возможна заменимость предмета объяснения, сказочность присутствует в бесконечно возобновляемом повествовательном значении. Трагизм и драма ситуации проявляются в том, что если есть что-то, какой-то конкретный уникальный проект, который мы можем реализовать лучше других на данный момент, но то ли из-за своих субъективных моментов, то ли из-за ситуации мы не можем реализовать задуманное, и тогда воображение рисует воспоминания о крахе конкретной единичной жизни, почерпнутые из жизненного опыта. Джеймисон обращает наше внимание на то, что басня имеет связь с проблемой способа производства. Что же мешает установлению истинно социалистического, гуманного общества, для построения которого потребовалось столько усилий, но всё равно ничего не получилось, поскольку нечто всё же стояло на пути у строителей? Если учитывать исторический контекст повести Стругацких «За миллиард лет до конца света», то инертной силой, тормозящей развитие, представлялась тогда номенклатура, разросшаяся в брежневские годы до невероятных размеров, коррупция и семейственность «нового класса». Вообще, если учитывать, что жанр и стиль – это, по Джеймисону, исторические формы, являющиеся скрытыми проводниками политики и идеологии, то, можно сделать вывод, что в них находят своё выражение социальные противоречия, а также особым образом в них же и разрешаются, оставляя следы социальных неврозов. 10. Анализ жанровой принадлежности кинофильма «Звёздные войны». «Звёздные войны» как образец ностальгического кино. Пастиш – модифицированная форма существования классических стилей в культуре постмодерна. Утрата опыта истории как результат рассосредоточенности и фрагментированности восприятия современного человека-потребителя. Помимо советской научной фантастики Фредрик Джеймисон обращается и к американским её образцам, примером тому служит упоминание о жанровой принадлежности фильма «Звёздные войны». Следуя мысли Джеймисона, фильм этот весьма сложно отнести к фантастике в чистом виде, поскольку прослеживается явная отсылка к 30-50 годам 20 века, и фильм этот, по сути, является фильмом ностальгическим, несмотря на то, что события разворачиваются в будущем. Это – культурная аномалия, возникающая на стыке кинематографического опыта поколений, зафиксировавшего переход из ностальгических 30х годов 20 века в новую среду футуристического шока. «Звёздные войны» - это не исторический фильм о нашем межгалактическом прошлом, но, следует учитывать тот факт, что поколение людей, взрослевшее в США в отрезок времени с 30х до 50х годов, так или иначе являлось зрителем так называемых «сериалов по субботам», например, «Бак Роджерс» 204 Материалы международной конференции (культовый американский сериал в духе science fiction), где действовали настоящие герои и героини, опасные чужие, пришельцы, а главный герой был отважным и неустрашимым, а его спасение ожидало зрителей в ближайший субботний вечер. Джеймисон отмечает, что для анализа подобных фильмов и их жанровой принадлежности нужен иной категориальный аппарат, и он вводит понятие «пастиш». Вообще, это термин Т.Адорно использовал, чтобы объяснить обращение Стравинского, Джойса и Томаса Манна к отжившим художественным языкам и стилям как к средствам создания нового произведения. Пастиш – не пародия, но обращение к такой форме структурирования произведения, которая, с одной стороны, оставляет нетронутой формальную сторону стиля, но, с другой стороны, привносит субъективное начало, переоценивая индивидуальность и уникальность самого стиля творящим художником, позволяя оставить след ни с чем несравнимого перцептивного аппарата и неповторимого внутреннего мира творца. Но в постиндустриальном мире индивидуализм атрофирован, все более-менее яркие проявления индивидуальности рано или поздно исчерпываются и приходят к тождеству в различии, повторяются, и тогда сам поиск неповторимого стиля становится бессмысленным, поскольку всё уже придумано и само понятие «стиль» при этом начинает носить старомодный и неактуальный оттенок. Тогда-то и появляется пастиш как способ выражения творческого потенциала автора в сфере высокой культуры. Но, если принять во внимание, что кино – это, скорее, массовое искусство, подверженное влиянию рынка, а не элитарное, то нельзя не заметить, что пастиш здесь носит несколько специфичный характер. Как считает Джеймисон, в современной системе позднего капитализма нет места неповторимой продукции, высокая культура ассимилировалась массовой, а все проявления индивидуального стиля блокированы всей системой бизнеса. Так вот, «Звёздные войны» - это пастиш на давние сериалы далёких 30-50х годов 20 века, поскольку пародия на них уже невозможна, так как этих сериалов просто нет, и в этом случае всякая пародия является неактуальной. «Звёздные войны» имеют двойную структуру – с одной стороны, используется приключенческий сюжет, привлекающий внимание подрастающего поколения, воспринимающего приключения героев непосредственно, тогда как взрослая аудитория реализует ностальгическое желание попасть в атмосферу своего детства. «Этот фильм метонимически связан с историей и ностальгией – в отличие от «Американских граффити», 1973, он не воссоздаёт картину прошлого в его живой тотальности, скорее, воссоздавая чувство и форму характерных художественных объектов прошлого (сериалов), он стремится пробудить ощущение прошлого, ассоциируемое с этими объектами»[5]. Фильм же «Американские граффити», 1973, того же Джорджа Лукаса оказался способным целиком воссоздать колорит эйзенхауэровской эпохи и стилистику 50х годов. Джеймисон пишет, что сам стиль ностальгического кино можно обнаружить почти везде в американских кинофильмах 7080х годов 20 века. И это симптоматично, поскольку создаётся устойчивое 204 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 205 впечатление, что зритель в силу каких-то причин не может сосредоточиться на собственном настоящем, утратив способность создавать эстетические репрезентации своего собственного актуального опыта. И этот симптом очень тревожен, поскольку выявляет неспособность общества обращаться со временем и историей, и Джеймисон выносит приговор потребительскому капитализму как таковому, породившему это общество. 11. Анализ кинофильма Стэнли Кубрика «Сияние», 1980, с целью выявления исторической составляющей этого фильма. Кинематограф как сфера проявления жанрового пастиша. Фредрик Джеймисон осуществляет трактовку постмодернизма по отношению к практике кино, считая, что для анализа кинематографа должен использоваться совершенно иной набор категорий, нежели используемый ранее. Впоследствии его трактовка стала классической. Джеймисон отмечает, что современные режиссёры меняют жанры, как модернисты меняли стили, и это, во многом, показательно, поскольку в современном мире ситуация культурного производства имеет объективные ограничения, результатом которых и является эта постоянная смена жанров. Да и вообще, жанровое кино в чистом виде уже невозможно на данный момент, в эпоху широкого распространения телевидения и информационного общества. Голливудские ленты «золотого века» – это, прежде всего, жанровые фильмы, закат которых совпал с появлением теории auteur (концепция смерти Автора), провозгласившей возможность построения целостной картины с помощью анализа различных «второсортных» и стандартных лент. Начинает появляться метажанровая кинематографическая продукция, позволяющая решить проблему окончания существования чётко очерченных жанров. Фильм «Сияние», как считает Джеймисон, как раз является образцом такой метажанровой продукции, где явственно проступает невозможность реализма и живой культуры вообще. Пастиш проявляется здесь как мимикрия на фильм ужасов, но то метажанровое решение, которое реализовал при создании этого фильма режиссёр, представляется имитацией наррации, тогда как сущностно это повествование представляет собою коллаж гетерогенных материалов и фрагментов. В двух словах, сюжетная линия такова: писатель-неудачник в исполнении Джека Николсона устраивается на работу смотрителем отдалённого отеля в горах на зимний период, что позволит ему иметь достаточно свободного времени для написания книги. С ним в отель едут его жена и маленький сын, который имеет телепатические способности, иносказательно называемые «сиянием». Отель «Оверлук» может существовать как совершенно самостоятельная единица, даже будучи отрезанным от всего остального мира, поскольку запасов продовольствия и топлива более чем достаточно. В отеле сын Джека Торренса (Джек Николсон) встречает негра-шеф-повара, который также наделён телепатическим «сиянием». Когда семья остаётся одна, начинают происходить странные вещи. Маленький мальчик видит двух девочек, впоследствии выясняется, что они были зарублены топором их собственным 206 Материалы международной конференции отцом, когда он тоже несколько лет назад приехал в отель с семьёй работать смотрителем. Опять-таки, используется вполне распространённое клише для американских авторов, что странные и ужасные вещи происходят, возможно, потому, что отель был построен на месте индейского кладбища. Безумие постепенно поглощает ум Джека Торренса и он начинает гоняться за своей семьёй с топором в надежде с ними разделаться. Маленький сын с помощью телепатических способностей «вызывает» шеф-повра, тот с трудом добирается до отеля на снегоходе и погибает от рук обезумевшего главы семейства. Семья спасается на снегоходе, а Джек Торренс замерзает. Казалось бы, что здесь исторического? Но это только на первый взгляд. Если взять сам образ отеля – огромный, пустой, фешенебельный, откуда перед началом «мёртвого сезона» все торопятся уехать, потому как не хотят быть отрезанными от всего остального мира снежными заносами. В интерьере старинное великолепие эпохи модерна подорвано более современной кичливой концепцией роскоши, характерной для общества потребления. Первые кадры фильма подчёркнуто красивы и скучны. Персонажи «плоские», лишённые психологической глубины. При устройстве на работу Джеку Торренсу секретарь приносит кофе в неизменном пластиковом стаканчике – веяние эпохи, которое находится в диссонансе с окружающей обстановкой отеля. Кубрик организует контрапункт между этой внешней благожелательность, царящей во время устройства на работу главного героя и ужасной историей, произошедшей здесь ранее. В фильме присутствуют стандартные клише фильмов ужасов – напряжённое ожидание, волнообразная музыка Брамса, усиливающая напряжение, чередование шока и его отсутствия. Формально, это фильм ужасов с тенденцией к оккультизму. Но, как считает Джеймисон, «Сияние» знаменует возврат к более давнему поджанру – рассказу о привидениях (ghost story). Это уже известный старый поджанр, связанный с тем, что в докапиталистичекой культуре прошлое не оставляет настоящее, а продолжает существовать в нём, «цепляется за открытые пространства, такие, как висельный холм или кладбищенская земля, но в «золотой век» этого жанра привидение составляет единое целое с какимнибудь древним замком и выступает «дурным сном» цепи поколений»[6]. Таким образом, фигура отеля (со сменяющимися размашистыми ритмами смены сезонов) существует как объективация национальной памяти поколений, фиксирующей трансформацию американских «праздных классов». Таким образом, делает вывод американский философ, Джек Николсон одержим не безумием как таковым, а самой Историей, американским прошлым, в том виде, в котором оно оставило свои наглядные следы. Множество голосов американского прошлого слились в этом произведении в единый исторический комментарий. Так, метажанр предстаёт здесь как передатчик связного идеологического содержания. Таким образом, мы рассмотрели анализ современного кинематографа, произведённый Фредриком Джеймисоном, и пришли к выводу, что исполь- 206 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 207 зованный им метод (сочетание структурализма и марксизма) обладает высоким объяснительным потенциалом и позволяет прогнозировать эффекты развития позднего, или консъюмеристского, капитализма, а также наметить пути борьбы с отрицательными последствиями оного. Анализируя кинематограф как сердцевину визуальности современной культуры, Джеймисон приходит к выводу, что люди, живущие в эпоху позднего капитализма, утратили чувство Истории, что грозит «зацикливанием» на вечном настоящем и последующим упадком европейской культуры в целом. Объективистский метод Джеймисона пытается вернуть постмодернизм в лоно Истории, которая превращается в своеобразный текст в духе французских постструктуралистов. Примечания 1. Jameson F. Signatures of the visible. New York: Routledge, 1990. P.164. 2. Джеймисон Ф.. О советском магическом реализме // h t t p : / / c o n t r . i n fo / c o n t e n t / v i e w/ 1 0 6 / 4 3 / 3. Там же. 4. Там же. 5. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления.// Журнал «Логос», 2000, №4. С.63-77. 6. Джеймисон Ф. Историзм в «Сиянии» // Журнал «Искусство кино», 1995, №7. С.60. Николаева Е.В. кандидат культурологии Москва Элитарное vs. Элитное Глобальная трансформация способов создания, существования и трансляции культурных смыслов, произошедшая в ХХ веке, неизбежно привела к принципиальным изменениям в соотношении «высокого» и «низкого», авторского и народного, элитарного и массового искусства. Массовое (например, джаз) может со временем приобрести характер элитарного, а элитарное в качестве контркультурного социального жеста[1] или рекламного символа превратиться в массовое. В результате массового – промышленного и индивидуально-«кустарного» – воспроизведения предметов искусства многие из них давно перешли из элитарных в разряд массовых. Одним из ярчайших примеров является образ Моны Лизы, который тиражируется не только как иконический знак известного полотна Леонардо да Винчи (в виде открыток, заколок, шкатулок и т.п.), но и как индексальная отсылка к Италии (реклама итальянской обуви) или, вообще, к высокому искусству (например, реклама принтеров). Аналогичным образом, кустодиевская куп- 208 Материалы международной конференции чиха стала символическим репрезентантом множества повседневных вещей – от чая до воскресного приложения газеты «Коммерсантъ». Вследствие все более сложной социокультурной стратификации постиндустриального общества и возникновения множества разного рода элит (финансовых, управленческих, артистических, молодежных, криминальных и пр.) само понятие «элитарное» утрачивает изначальный смысл, коррелируя то с авторским, то с маргинальным, то с «интеллектуальным» (например, «кино не для всех»). Более того, с начала ХХ в. качество элит неуклонно падает, «плебейство и гнет массы даже в кругах традиционно элитарных – характерный признак нашего времени»[2]. Становится очевидной относительность и даже невозможность объективной «фиксации» элитарного статуса того или иного культурного явления. Как элитарное обыденным сознанием может восприниматься и классическое искусство, и художественный андеграунд. Качеством элитарности могут наделяться самые разнообразные социокультурные объекты и практики. К примеру, среди первых 120 позиций, выданных одной из поисковых программ Интернета на запрос «элитарное искусство», содержались ссылки, с одной стороны, на балет, ростовскую финифть, джаз-клуб, театр Кабуки, оперу, кино, драмтеатр, музыкальный клуб, камерный ансамбль, коллекционный фарфор из Эрмитажа, речевую культуру, выставку французской афиши к.XIX – н. XX вв., ручную вышивку, музыкальный фольклор, лондонскую галерею современного искусства Ч.Саачи, классическую музыку, выставку графики и скульптуры, театрмастерскую П.Фоменко, маньеризм, выставку соцарта и видеоарт, а с другой стороны, на дизайн, банк, типографские услуги, восточные боевые искусства, турнир по боулингу, ВУЗ, вино, часы, женский журнал, район, салон красоты, авторучки, фондю и КВН. Легко заметить, что примерно треть объектов, идентифицированных в электронных СМИ как элитарные, относятся к массовым практикам повседневной культуры. Действительно, пространством, где происходят самые неожиданные коллизии и парадоксальные симбиозы массового и элитарного, становится, в первую очередь, культура повседневности. Пропущенное сквозь «формовочные цеха» повседневной культуры элитарное, хотя еще и сохраняющее семантический шлейф избранного, претерпевает онтологические изменения, вербальным отражением которых является все более частое замещение понятия «элитарное» лексемой «элитное». По существу, «элитное» есть социокультурная изнанка элитарного, превращенная повседневностью в нормативный образец «высокого». Элитарное в его исходном значении вытесняется в сферу частных, по большей мере закрытых, коллекций и событий; на смену ему приходит элитное (жилье, автомобили, образование, войска, и т.д.). Термины «элитарное» и «элитное» отражают, на наш взгляд, два типа отношения высокого (уникального) к массовому в современной культуре. Первый означает направленность на удержание оригинала вне массовой культуры, второй – принципиальную установку на включение в пространство мас- 208 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 209 совой культуры со статусом «de luxe». Вербальным алиби элитарности, размешанной в коктейле массовой культуры, становится слово «эксклюзив» (от англ. «exclusive», т.е. исключительный). Однако эта исключительность имеет отношение только к обстоятельствам включения «элитарного» в массовую культуру, как, например, интервью одному единственному телеканалу, которое дается именно для того, чтобы сделать широко известным его предмет. Эксклюзив, говоря языком Ж. Бодрийяра, представляет собой симулякр[3] элитарного. Подобным же образом реклама эксплуатирует тему «избранного» (собрания недвижимости от риэлторской компании, коллекция киношедевров от пивной компании и т.п.) Очевидно, что для культуры новейшего времени характерна принципиально иная сущность элитарного произведения искусства и способов его бытования. Понимание элитарного в последние десятилетия все чаще связывается с брендом в широком смысле слова[4], а мерилом элитарности объекта (от картины до ночного клуба, от кинофильма до квартиры) считается количество денежных средств, затраченных на производство, приобретение, просмотр или участие. Неслучайно в публицистических статьях балет и театр часто называют элитарным исключительно в контексте высоких цен на билеты. Избранность в плане врожденной или воспитанной способности отличать ремесленничество от мастерства замещается финансовой возможностью оплатить дорогую вещь, независимо от ее культурной ценности. Поэтому формирование «элитарного» во всех странах в значительной мере происходит под влиянием субъективных предпочтений национальных финансовых элит. Элитарным может остаться лишь принципиально не потребляемое и не стилизуемое в массовом порядке – предмет сверх-экстравагантного дизайна: платье, в котором можно ехать только в просторном автомобиле премиумкласса; частный дом, построенный в ультра-экспериментальном ключе и т.п. При этом любой объект со сколь угодно сложной формой и семантикой, внеположенный массовым тенденциям, но тем или иным образом открытый для массовой публики моментально исключается из элитарного и встраивается в массовую культуру. По существу, это происходит с момента выхода в свет первого публичного «тиража»: фотографий в газетах, почтовых открыток, уменьшенных макетов, партии футболок с его изображением и т.п. Если речь идет об архитектурном объекте, то сама возможность его массового посещения (экскурсии) или использования в качестве объекта массовой социокультурной практики (от офисной деятельности до подъема на смотровые площадки верхних этажей) лишает его элитарности. Это касается в равной степени и старинного королевского замка, и высотного здания бизнес-центра. Таким образом, элитарным по сути может быть только подлинное, не имеющее копий и доступное даже для визуального контакта только очень узкому кругу лиц. Одним из способов сохранить элитарность становится система фильтров 210 Материалы международной конференции того или иного рода – электронные пропуска, специальные пригласительные билеты, фейс-контроль, компьютерные коды и пр. Все это в свою очередь порождает – в зависимости от степени элитарности – копирование допусков и взламывание этих фильтров. Повседневная культура не терпит внутри себя закрытых культурных «территорий»; «вне зоны доступа» массовой культуры не может остаться ни один элитарный объект, начиная международным автосалоном и заканчивая королевской семьей. Именно поэтому некоторые частные элитарные объекты тщательно закрываются от взглядов широкой публики и объективов репортеров высокими заборами. Принимаются исключительные меры, чтобы предотвратить обнародование визуальных образов элитарного объекта в СМИ, по крайней мере, недопустить массовых републикаций. Этой же логике подчиняется запрет телетрансляций, фото- и видеосъемки концертов некоторых эстрадных звезд. Элитарное должно быть не просто закрытым пространством внутри массового и повседневного, но находиться за его пределами. В современной культуре это реализуется в буквальном, пространственном смысле: так возникают элитные поселки вроде подмосковной Барвихи, прибрежные и островные зоны частных вилл, горнолыжные курорты и т.п. Недоступность человеку «толпы» начинает определяться не сложностью форм и глубиной смысла, а геофизическими и административными границами. Однако любая форма и любой смысл в современной культуре могут быть воспроизведены с меньшей или большей степенью редукции. Способами освоения элитарного массовой культурой являются подделки, копии, репродукции, ремейки, межвидовые трансформации, коллажи, пародии. При этом ремейки порой приобретают самостоятельную художественную ценность, а качество подделок, имитирующих продукцию элитных предметов, порой достигает такого высокого уровня, что только специальная экспертиза позволяет выявить обман. Элитарный образец за очень короткое время перестает быть уникальным, смешиваясь со своими многочисленными копиями, копиями копий и далее копиями все более высоких порядков. С другой стороны, при отсутствии копий оригинал выпадает из современного социокультурного семантического поля. По сути, перестает существовать в явленной культуре, уходя в латентный слой «семиосферы»[5]. В «обществе спектакля»[6] любой объект должен не только выставляться, но участвовать в представлении, быть предметом игры, правила которой заданы массовой культурой. В связи с этим элитарный объект должен изредка упоминаться в средствах массовой информации, без подробной визуализации (предпочтительны общие планы), лучше вообще только в рамках вербального дискурса. Непосредственный визуальный контакт должен быть максимально усеченным (например, на фотографии помещается только фрагмент элитарного объекта) и ограниченным (презентация проводится в частном особняке, в элитном загородном торговом центре и т.п.). Поэтому владелец уникальной коллекции, передающий (даже с сохране- 210 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 211 нием права собственности) элитарные предметы в фонд государственного музея, совершает важнейший социокультурный жест – символическую «национализацию» элитарного. Другое, не менее символическое значение, имеет акция временной публичной экспозиции предметов из частных собраний (например, банк в течение двух-трех недель выставляет в музее коллекцию живописи, принадлежащую председателю Совета директоров). Любой человек из массы может стать «избранным» и увидеть «вживую» элитарные вещи, которые скоро опять будет недоступны массовой культуре. Это своего рода «инициация» человека толпы в человека «элитарного». Здесь важен фактор краткосрочности и одноразовости. Подобным образом, одним из приемов сохранения семантического оттенка элитарного в массовом музыкальном искусстве является практика единственного гастрольного выступления знаменитого исполнителя в одном городе). Иными словами, элитарное заявляет и принципиально охраняет свою уникальность; элитное, демонстрируя превосходную степень повседневных форм, следует законам массовых жанров – быстро увеличивающийся тираж, широкая визуальная (или другая, чувственная доступность). Современная культура повседневности наполняется все новыми технологиями не только массового производства, но и потребления культурных артефактов. Информатизация общества и глобализация экономики дали технические возможности заменить личное обладание и лично увиденное их виртуальными аналогами (фотографии, репродукции, кинофильмы, телепередачи, Интернет-сайты, и т.п.). Одна из главных тенденций современной культуры заключается в переносе элитарности с объекта на способ и место его потребления. Элитарным/элитным считается предмет или событие, предъявленное публике в неком «немассовом» или нетипичном для него пространстве – презентация в дорогом клубном ресторане, выставка в коммерческом банке или в отеле, покупка на аукционе или в фирменном бутике, свадьба в старинном дворце, дефиле мод во внутреннем дворике Лувра, эстрадный концерт на Красной площади. При этом чем чаще происходит такое диссонансное сочетание неординарного места и повседневного предмета, тем быстрее первое десакрализуется, а второе теряет качество элитарности. Временами искусство пытается утвердить свой элитарный статус за счет нетрадиционного носителя – корпуса автомобиля (аэрография), человеческого тела (боди-арт) или пластиковых скульптур (международные «парады коров»). Еще один вид бытования элитарного – эксклюзивный дизайн предмета массового потребления: так, отделка корпуса ноутбука или мобильного телефона драгоценными камнями превращает эти гаджеты из «ширпотреба» в элитарные. Элитарность приобретается объектом и за счет семиотической индукции от своего знаменитого владельца, будь то стул всемирно известного поэта или платье поп-дивы. Примечательно, что предметы повседневности, наделяемые такой «наведенной» элитарностью второго порядка облада- 212 Материалы международной конференции ют большим культурным статусом, чем классические артефакты: например, личные вещи танцора Р. Нуриева были в свое время проданы на аукционе Кристи в два раза дороже, чем гуттенберговский экземпляр «Библии». В свою очередь элитарное и само стремится стать массовым. Оригиналы или их первые копии все чаще сразу уходят на территорию массовой культуры: на выставочные площадки универмагов и торговых комплексов, клубов и ресторанов, храмов и бизнес-центров, в фойе вокзалов, в метро и просто на улицы больших городов. Произведение искусства изначально задумывается и создается как копируемое и тиражируемое. На заре эпохи всеобщей воспроизводимости это были скромные четыре авторские копии «Черного квадрата» К.Малевича. В ее зрелой фазе известный ученый с удовольствием пишет философское эссе (уровень элитарности), используя в качестве сюжетных оберток вложенные друг в друга литературные формы «готического» романа (уровень элитности) и детективной истории (уровень массовой культуры) и выверяя хронометраж прямой речи героев для ее дальнейшей конвертации в кинематографические диалоги[7]. В ХХI веке формы массовой культуры, используемые «элитарным» произведением, становится все более незатейливыми, а временной промежуток между элитарных произведением и его массовыми версиями (от Интернет-игр до изображений на холщовых сумках) – все короче. Действительно, «репродуцированное произведение искусства во все большей мере становится репродукцией произведения, рассчитанного на репродуцируемость»[8]. При этом, в новой культурной иерархии «избранное» получает почетное звание бестселлера, а правовой инструмент «copyright» используется для финансовой компенсации символических потерь, связанных с переходом из элитарного в элитное, и из элитного в массовое, и для регулирования скорости этого перехода. Повседневная культура выступает как основная форма существования элитарного. Классическая соната превращается в рингтон мобильного телефона, сюрреалистический пейзаж С. Дали помещается на обложке популярного романа, «Гибель Помпеи» К. Брюллова – на рекламном плакате страховой компании, васнецовские «Богатыри» на коробке конфет, а средневековая икона – на винной этикетке. Кофе каппучино может называться «Ванильное небо», а салон красоты – «Моне». Повседневная культура использует элитарное как конструктор для постмодернистской игры смыслов. Вот, например, на стенах кафе висят в позолоченных рамах выполненные маслом копии известных полотен. Только за пролеткой «Незнакомки» виднеется вывеска с названием кафе, а горничная с картины Ж.-Э. Лиотара подает фирменную кофейную чашечку героям И.Репина «Не ждали»… По-видимому, таков путь, который уготован любому элитарному объекту современной массовой культурой. Примечания 212 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 213 1. О понятии социального жеста см.: Брехт Б. Избранное. М., 1990. 2. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2001. С.20. 3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 4. О брендинге в истории искусства см.: Цеплаков Г. Artefactum artis: какое отношение имеет брендинг к чистому искусству? // Zaart. Журнал создателей и потребителей искусства, № 12, 2007. С. 6-9. 5. Термин «семиосфера» введен в научный оборот Ю.М.Лотманом. См.: Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров // Семиосфера. СПб., 2000. С.250335. 6. Дебор Ги. Общество спектакля. М., 2000. 7. Имеется в виду книга У. Эко «Имя розы» (1980). 8. Беньямин В. произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: 1996,. С.28. Никонова С.Б. кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербург Конец модернистского бунта в искусстве: коммерция и террор Трудно утверждать, что классическое искусство когда-либо было чуждо элемента не только развлекательности, но и коммерции, если даже формулировка эстетической способности суждения, данная Кантом, связывает прекрасную форму не с познанием или нравственным совершенствованием, а с удовольствием. Мысль о том, что подлинное искусство должно служить проводником высокой идеи и, в конечном счете, пробуждать скорее не удовольствие, но страдание, принадлежит романтизму, знаменуя собой один из витков индивидуализации и самоуглубления субъекта, и достигает апогея в ХХ веке – вероятно именно в силу противопоставления низкому, как с точки зрения содержания, так и формы, качеству массового искусства. Элитарное искусство начала ХХ века резко отделяет себя от популярных жанров. Его развитие в эпоху модерна – развитие по пути бунта против всех существующих как художественных, так и социальных традиций. Принципиальную «непопулярность» нового искусства отмечал Х.Ортега-и-Гассет в «Дегуманизации искусства»: оно отказывается от всего «что есть интересного в человеческом бытии», а стало быть не может быть душевно близким, успокаивающим, развлекающим для большинства людей. В этом Ортега-и-Гассет, так же, как, к примеру, теоретики Франкфуртской школы, видели его спасительную для высокой культуры и революционную роль. Подлинное искусство должно беспокоить, а не утешать, утешение, счастливые концы, приглаженная красота формы рассматриваются как инструмент идеологической пропаганды, усмиряющей бунтарский дух индивида, подавляемого капиталистической системой потребления. Развивая идеи Маркса, франкфуртцы настаивают на фундаментальном противоречии искусства и общества потребления, 214 Материалы международной конференции стремящегося к формированию «одномерного человека». Бунтарское искусство модерна, всегда находящееся в оппозиции, создает зазор, надлом, неуспокоенность. Массовое искусство, направленное на развлечение, начинает бурно развиваться с начала ХХ века. Оно вызывает недоумение и презрение творческой элиты своей ориентацией на вкусы массовой аудитории, стандартизацией сюжетов и форм, следованием определенным и наиболее примитивным массовым ожиданиям. Но следует обратить внимание на революционность развлекательных жанров в начале и середине ХХ века (скажем, при появлении столь нелюбимого упомянутыми теоретиками джаза или рок-н-ролла). По сути дела, оно стремилось к тому же, что является целью любого бунта: к сметению устоявшихся традиций, разрушению очередных преград, к эмансипации индивидуального интереса: это был еще один акт модернистского разрушения традиций. Однако со второй половины ХХ века можно наблюдать, отчетливую тенденцию к сближению массового и элитарного искусства. Эту тенденцию можно наблюдать и со стороны собственно художественных формальносодержательных характеристик искусства, и со стороны его внешней направленности. Если говорить о первой из этих позиций, можно отметить, что формы массового искусства, невзирая на возможную ситуативную революционность, более традиционны, менее склонны стремиться к оригинальности. Это можно объяснить тем, что спрос на массовую продукцию зависит не столько от формального качества, сколько от нагруженности понятным для широкой аудитории содержанием, использования доступных всем и очевидно представленных культурных кодов. Однако в «элитарном» искусстве постмодерна формальная, техническая составляющая также уходит на второй план, заменяясь значимостью содержания. Появляется концептуальное искусство, существенной частью произведения часто становится его название и даже сам факт помещения его в музей или концертный зал (наилучший пример – дадаистские опыты М.Дюшана, тишина в зале Дж.Кейджа), хотя в течение долгого времени новые художественные концепции оказываются сложными для интерпретации массовой публикой, а новые формы – неподходящими для массового восприятия. В процессе разрушения традиций никто более, чем сами художники, не приложил руку к признанию и принятию массовых форм, которые постепенно стали использоваться и иронически обыгрываться в произведениях «элитарных». Постмодернистская тяга к эклектике, смешению стилей, соединению прежде несоединимого вполне понятна: когда в процессе активного бунтарства все ограничения, наконец, оказываются разрушены, никаких границ не остается. Но, и это касается уже второй позиции, после того, как все традиционные ограничения отменены, а массовый интерес полностью эмансипирован, единственным критерием оценки оказывается не новизна, но коммерческий успех. Стремление элитарного искусства к 214 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 215 коммерческому успеху и, соответственно, к массовой популярности, все более очевидно. Постепенно также и новые формы его сами стали приобретать штампоподобный характер. При этом, в условиях размывания границ искусства и общего творческого бума, технический уровень неуклонно падает, подавляемый концептуальной составляющей, которая также становится все проще. В это же время можно заметить, что технический уровень массового искусства скорее растет (с накоплением мастерства). В некоторых жанрах произведения, признаваемые «подлинным искусством» и произведения, назначенные для коммерческих целей (дизайн, реклама, коммерческая фотография, репортажная съемка) различаются уже только намерением автора выразить какую-либо концепцию или просто пропагандировать товар, т.е. наличием за произведением некоторой «философии». Причем часто коммерческое произведение оказывается технически совершеннее «элитарного». Однако, поскольку последнее также становится заметным только при условии коммерческого успеха, граница оказывается в высшей степени сомнительной. В других жанрах (литература, музыка) граница по-прежнему очевидна, но не пользу качества какой-либо из сторон. Противопоставление коммерции и творчества как целей, на которые направлено искусство, по сути дела, не помогут нам различить массовое и элитарное искусство, поскольку оба элемента живо присутствуют в любом художественном производстве. Оппозиция собственно коммерческого и «подлинного» искусства также мало чем может помочь, так как апеллирует исключительно к искренности намерения автора. Остается противопоставление искусства бунтарского, в упомянутом уже смысле направленного на беспокойство и надлом, и искусства, направленного только на развлечение. Однако, кроме того, что проявления того и другого можно встретить во всех жанрах и стилях, в современных условиях можно заметить, что на бунт, дабы он имел вес в обществе, тоже должен существовать некий социальный спрос. В конечном счете, бунт сам может иметь коммерческий успех и популярность, и даже массовое признание. Либерализация общественной жизни, тяготея к равенству прав индивидов, так или иначе ведет к сглаживанию противоречий. Универсализированная западная культура все более вбирает в себя, легитимизирует любые бунтарские тенденции, принимает их как должное – что лишает их революционного смысла, точно так же, как внутри нее лишаются смысла различия между старыми традициями. Любые, самые резкие и критические художественные формы, если только они вообще достигают возможности быть замеченными, принимаются как еще один музейный экспонат наряду с другими. Если в этих условиях в искусстве может существовать бунт – это бунт одиночек, который постольку является бунтом, что он не замечен, что на него нет спроса. Помимо отпадения старых самобытных традиций и исчезновения границы между массовым и элитарным можно наблюдать также стирание границ между жанрами, возникновение такого количества смежных жанров, связан- 216 Материалы международной конференции ных, в том числе, с техническими нововведениями, что о какой-либо жанровой дифференциации становится невозможно говорить. Однако при этом новые технологии не вызывают усложнения художественной формы: скорее, наряду с гомогенизаций, можно наблюдать ее постепенное упрощение. Ж.Бодрийяр, знаменитый своей критикой постсовременности, открыто называет современное искусство «ничтожным» – и не в смысле столкновения с Ничто, как это могло бы предполагаться раньше, не в смысле какого-то таинственного безумия, выводящего его за пределы мира с его внятной функциональностью (как на то надеялись романтически настроенные эстетики от Шопенгауэра до Хайдеггера), но именно в том, что оно более ни на что не способно: «Художественное уже не в состоянии поддерживать дистанцию взгляда, оно уже не в состоянии быть особой сценой или обладать размерностью, выступать в качестве альтернативной, параллельной вселенной, которая существует не по законам искусства для искусства, а в режиме специфического вызова принципу реального, реальности как таковой»[1]. Пользуясь его же схемой, можно охарактеризовать специфическое отличие современного кризиса: покуда бытие представлялось как внеположная данность, искусство служило его провозвестником, провозвестником реальности во вне, высшей истины, трансценденции – не случайно это было по большей части религиозное искусство, лишь изредка выказывающее свою собственную созерцательную ценность. Итак, сперва оно служило тому, чтобы раскрывать трансценденцию; после – чтобы скрывать ее; после, когда вера в трансценденцию исчезла – чтобы скрывать ее отсутствие; и наконец, в современном мире, оно уже ничего не скрывает и ничего не раскрывает, совпадая с видимой реальностью, которая теряет всякую глубину и направление вовне. «Преодоление метафизики», которого желали Ницше и Хайдеггер, и которое, по сути, не могли совершить в своих учениях ввиду собственной направленности вовне, вполне совершается в современном искусстве: оно не отсылает больше ни к каким невидимым истокам и совершенно совпадает само с собой. Бодрийяр начинает этот процесс с дадаистов, хотя надо отметить, что в принесении в пространство музея обыденной вещи еще можно найти акт наделения ее мистическим значением, в то время как новейшие акции и перформансы, кажется, замкнуты на видимом, совпадая по форме с декларациями своих авторов о намерении выразить достаточно банальные проблемы социальной жизни. Подобная схема, если она верна, делает иллюзорной выражаемую иногда надежду на возвращение в подобной ситуации господства религии, на службе которой, в целом, находилось все искусство до Нового времени, и модификация которой дала некогда толчок развитию античной традиции. Несмотря на современный всплеск интереса к религии (отчасти в силу моды, отчасти же, вероятно, вполне искренний), даже религия в современной ситуации приобретает характер полной имманентности: религиозные ценности находятся скорее «здесь», чем где-то «там, за пределами». В сегодняшней рели- 216 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 217 гии европейского (а стало быть уже фактически универсального) образца есть что-то экономическое. Что-то экономическое есть также и в искусстве. Невозможно говорить о том, что оно встало на службу экономике, как некогда находилось на службе у религии: экономика, как западное либеральное общество, успешнее распространяет своей влияние не посредством захвата и подчинения, а посредством предложения своих услуг, не посредством ограничения и цензуры – а посредством предоставления безграничных возможностей. Попытки давления, насильственного подчинения, цензуры, захвата на этом фоне представляются скорее довольно нелепым и извращенным отголоском старого мира традиционных ценностей – или некой неокультуренной, древней, агрессивной человеческой природы. До сих пор речь шла об искусстве в более-менее традиционном понимании. Можно было бы остановиться на этой пессимистическиумиротворенной ноте, утверждая вместе с Э.М.Чораном, что мы живем «после конца истории», однако существует еще одна сторона вопроса, представляющая собой определенную опасность. Основания для нее можно обнаружить в таком часто обсуждаемом в последнее время явлении как «всеобщая эстетизация» культуры. С конца XIX века речь периодически заходила о действии всех областей человеческой жизни по принципам искусства. Но если во времена Ницше в этом видели творческую перспективу избавления от удушающего функционализма формирующейся культуры потребления, то в современных условиях оценка не может быть столь однозначной. Эстетизация следует за установлением господства субъекта и последующим освобождением индивидуальных ценностей. На волне формирования субъективистской традиции эстетика как учение о чувственно воспринимаемой форме смогла выделиться в качестве самостоятельной дисциплины, поскольку ее основной принцип – принцип субъективного суждения: красота более не рассматривается как онтологическая принадлежность самого созерцаемого предмета (как это было в античности или в средние века, где мир был создан Богом как прекрасный, или же где красота рассматривалась как совершенство вещи, «цветение бытия»). Покуда суждение соотносится с разумом, эстетика пребывает в своей области, и субъективная оценка отчетливо отличается от объективного познания. Но с постепенной заменой субъективного разума индивидуальным желанием, субъективное суждение действительно не может не проникнуть во все сферы жизни. Не случайно Ницше говорит об этом одним из первых: воля к власти как формообразующий принцип делает весь мир продуктом художественного творчества. «Эстетика – модус цивилизации, которую покинули идеалы», – через столетие со времен Ницше дополняет эту мысль один из наиболее видных теоретиков постмодерна Ж.Ф.Лиотар[2]. Описание и критика подобного положения вещей были достаточно обширно и многообразно представлены в теориях постмодернизма: виртуализация мира, феномен «гиперреальности», лишающей существование какой- 218 Материалы международной конференции либо глубины, исчезновение трансценденции назывались в качестве основных черт современного общества, непосредственно вытекающих из предшествующего состояния. «Мы не испытываем недостатка в словах, критикуя присущую нашей культуре эстетизацию: инсценировка, сенсационность, медиатизация, симуляция, гегемония артефактов, засилие мимесиса, гедонизм, нарциссизм, самодостаточность, самоаффектация, самоустранение – несть им числа. Все они свидетельствуют об утрате объекта и о превосходстве воображаемого над реальностью»[3]. Но не взирая на это господство воображаемого, можно сослаться на того же Лиотара, провозгласившего однажды, что эстетика постмодерна – это эстетика возвышенного, эстетика непредставимого. Если что-то является непредставимым в структуре полной имманентности, то это, в первую очередь, простое физическое исчезновение, смерть. Для нее нет образа, нет слова, нет знака, который бы в подлинном смысле раскрывал ее значение, что делает ее еще более пугающей. Пропаганда продления молодости, развитие медицины, страх перед заболеваниями, культ физического здоровья, с одной стороны, также как изобилие темы насилия в искусстве, боевики и фильмы-катастрофы с массовыми и красочными убийствами, популярность криминальной хроники и катастрофических сюжетов в новостях, непрерывно поднимающаяся тема «конца света», с другой стороны, – все это являет собой скорее попытку загородить ужас исчезновения, нежели выявить его. Только, если так можно выразиться, метафизическая система имманентности, вроде эпикурейского материализма или раннедаосского «превращения форм» могла сделать представление о смерти как о полном уничтожении миролюбиво утешительным. Недаром Хайдеггер связывал метафизический интерес скорее с вопросом о Ничто, чем с вопросом о какой-то запредельной субстанции: без метафизического Ничто исчезновение превращается в непредставимый кошмар. Неслучайно столь сложной оказывается проблема (обсуждаемая более биоэтикой, чем медициной) определения смерти, определения убийства, определения человека: насколько он сводится к телу, когда он появляется, когда исчезает. Так или иначе, в отсутствие трансценденции, биологическое продолжение жизни тела оказывается единственным, за что может ухватиться обыденное сознание, несмотря на то что даже медики, как наследники научного рационализма модерна, связывают смерть с остановкой деятельности мозга (сознания) и чаще, чем представители гуманитарных областей, оказываются сторонниками эвтаназии. Неслучайна также и реакция, проявляемая в отношение такого катастрофического явления современной жизни как террор, совершаемый террористами-самоубийцами: «Как могут эти люди так равнодушно относиться к собственной жизни?» – недоумевают средства массовой информации. То, что смерть может не казаться тем, чего нужно избегать более всего и любой ценой, с этой точки зрения представляется признаком недоумия. А между тем – не имея в виду, конечно, ни средства, ни цели террористов – еще недавно 218 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 219 жертвовать собой ради идеи казалось признаком большого морального достоинства. Однако, со времен событий 11 сентября, о самом терроризме, кажется, стало невозможно говорить в прежнем смысле. В конечном счете, по выражению С.Жижека, эти крушения башен были произведены «не для того, чтобы нанести материальный ущерб, но для того, чтобы произвести волнующий эффект»[4], что позволило композитору К.Штокгаузену, далекому последователю взрывоподобного некогда шенберговского разрушения тональной системы в музыке, не только объявить их, вызвав тем самым массу упреков, «последним произведением искусства», но и посетовать на неспособность современных художников вызывать своим искусством подобный эффект. Ведь способность волновать с помощью представления, существовавшая во времена Шенберга, теперь утрачена искусством, даже самым революционным – и вот, о ужас, вдруг обнаруживается в столь катастрофическом, столь далеком от искусства событии! Но фактический смысл этого состоит не только в том, что террористический акт оказывается определимым в терминах эстетики возвышенного, или в том, что в глазах художника он предстает как устрашающий отголосок модернистского бунта (ради которого модернистский художник действительно подчас готов был пожертвовать жизнью), но и в том, что намерением авторов признается шоу, зрелище, представление, нацеленное на устрашение масштабом, дерзостью и точностью исполнения. Это имеет двоякое значение – и это значение, надо сказать, не играет на руку ни террористам, ни их противникам. С одной стороны, эта наиболее радикальная, наиболее внушительная, а значит и наиболее удачная попытка противостоять столь кровавым способом господству западного мира своим исполнением подчиняет себя правилам, действующим в западном мире. С другой стороны, она оказывается саморазрушительной – в самом деле, по сути своей, последним произведением искусства: она превращает самую смерть в представление, сводит ее ужас к показу, представляет смерть через саму смерть – и за этой последней границей не остается уже ничего, что бы было как-либо представимым. После этого мы попадаем в сферу политической и экономической борьбы, войны, насилия, страха, ненависти, межнациональной вражды, мелких и крупных погромов с маячащей в отдалении угрозой тотального конфликта, в то же время, алчности, пропаганды, наживы на чужом страдании, а временами даже извращенного развлечения своей скуки посредством чужого страдания (для этого не нужно ссылаться на нелегальное распространение записей со сценами казней и насилия – достаточно увидеть, с какой активностью и с каким спросом официальные репортажи накидываются на любые катастрофы) – но во всем этом уже нет уже никакого возвышенного эффекта. Модернистское произведение (и в данном случае – к несчастью) воспроизводимо, но эффект от него (и в данном случае к счастью, потому что ослабление эффекта может удержать от повторения) неповторим. 220 Материалы международной конференции Примечания 1. Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту Екатеринбург, 2006. С.167. 2. Лиотар Ж.Ф. Anima minima // Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. М.-СПб, 2001. С.85. 3. Там же. С.86. 4. Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.-Екатеринбург, 2003. С.219. Овруцкий А.В. кандидат психологических наук Ростов-на-Дону Массовое и элитарное в контексте потребления Обозначить феномены массового и элитарного в ситуации постмодерна достаточно сложно. Маркеры элитарного изменчивы во времени и пространстве, в значительной степени условны и контекстуальны. Методологически направления в изучении элитарного и массового, с нашей точки зрения, представлены в трех планах. Во-первых, элитарное/массовое можно рассмотреть как ментальный феномен, например, вкус или мировоззрение. Во-вторых, как соответствующие социальные нормы и ценности, например, закрепленные в текстах. И, в-третьих, как внешне наблюдаемое поведение, понимаемое как следствие тех или иных представлений и/или следование за определенными социальными образцами. В этой связи полагаем эвристичным дифференцировать и описать массовое и элитарное посредством анализа потребления, постулируя неразрывную связь между определенным социальным классом и потребительскими практиками. Под потреблением понимаем извлечение экономических благ из товарного оборота и присвоение их полезных свойств с целью удовлетворения потребностей человека[1]. Многие исследователи подчеркивают, что потребление в ситуации постмодерна начинает выполнять важные социальные функции, в частности функции социального воспроизводства и поддержки существующих классовых и культурных различий; коммуникативную функцию, манифестирующую социальный статус индивида и др. (Т.Веблен, С.А.Ушакин, В.И.Верховин). Вообще в маркетинге как системе технологического управления сбытом и производством посредством формирования тех или иных потребительских предпочтений можно выделить два основных подхода к пониманию рынка, 220 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 221 производства и, соответственно, потребления. Первый предлагает рассматривать рынок как агрегированный (совокупный) феномен. Соответственно используется так называемый «массовый маркетинг» и массовое производство идентичных товаров и услуг. Здесь элитарность в потреблении исчезает пропорционально росту массовости производства. Конвейерное производство создает и воспроизводит массового и универсального потребителя. Современный либерализм уменьшил силу и жесткость давления социальных норм на «чистоту вкусов», что привело к диффузности социальной структуры, а также к проявлению феномена «потребительской всеядности», свойственному постмодерну. Второй подход предполагает рассмотрение сегментированного рынка, когда потребители подразделяются на сегменты, и поддерживается элитарное потребление (производство и продвижение соответствующих товаров и услуг). В рамках данного подхода каждый производимый товар и услуга четко позиционируются по шкале «массовый – элитарный», а реклама наделяет товары соответствующими стратификационными знаками. Реклама, таким образом, становится основным учебником по социальной семантике, раскрывающим иерархию товаров, определяющим соответствие товаров тем или иным социальным ситуациям, а также информирующим потребителя о моральной смерти товаров и необходимости скорейшего потребления новых образцов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что нет ничего в социальности, аксиологии, политике и т.д. и т.п., что бы не имело коррелята, альтер-эго в потребительских товарах. Целесообразно подчеркнуть, что современное элитарное потребление требует произвольного поддержания и продвижения со стороны маркетинга. Связано это с тем, что существующие до эпохи массового производства социальные механизмы регулирующие элитарное потребление перестают быть эффективными. Можно предположить, что эти две тенденции представлены как в реальном производстве, так и имеют место в динамике социальной структуры общества и ментальной структуры индивида. Конкуренция между глобализацией и «либерализацией» потребления, с одной стороны, и его элитизацией, с другой, создает сложную и многоуровневую ситуацию современного потребления. Приведем конкретные примеры. Т.С.О’Гуинн, К.Т.Ален и Р.Дж.Семеник приводят результаты интересного исследования «глобальный тинэйджер»[2]. Исследователями была осуществлена видеосъемка жилых комнат подростков из 25 стран разных континентов. Оказалось, что по видео невозможно определить, кому принадлежит комната – американскому, японскому или немецкому подростку. В каждой из них были футбольные мячи, джинсы Levi, куртки NBA и видеоигры Sega. Однако было бы неверным констатировать отсутствие потребительской элитарности в большинстве потребительских аудиторий. Очевидно, что 222 Материалы международной конференции элитарные товары и услуги в ряде случаев хорошо известны и универсальны. Например, мы относим к спорту высших классов общества теннис, но не боулинг, шахматы, а не шашки, одежду от Tommy Hilfiger, а не джинсы Lee, автомашину Volvo, а не Chery /там же/. Потребление элитарных товаров и услуг помогает наращивать и изменять объем и структуры капиталов, определяющих властный ресурс потребителя. П.Бурдье выделяет следующие виды капиталов: экономический капитал (материальные блага), культурный капитал (культурный уровень, образование), социальный капитал (семья, друзья, церковь, клубы и т.д.) и символический капитал как разновидность социального (авторитет, репутация)[3]. Автор также подчеркивает, что всякое потребление вне зависимости от цели актора, во-первых, является «явным, бросающимся в глаза» (социальная, манифестирующая, коммуникативная функция), а вовторых, является всегда «различительным», т.е. дифференцирующим агента[4]. Другими словами, элитарное потребление возможно в рамках всех четырех капиталов и главной его функцией является манифестация о принадлежности потребителя к определенному социальному классу, а также четкая его дифференциация в континууме потребительских практик. В каждом социальном классе складываются свои специфические количественно-качественные нормы потребления. Причем стратификационная нагрузка потребления становится основной – стратификационный знак современности – это потребление, а не происхождение, род или величина банковского счета. Предполагаем, что каждому социальному классу соответствует свой специфический профиль элитарного потребления по каждому из капиталов. Совокупность актов потребления образует «стили жизни», феномен качественно отличный от «демонстративного потребления» или стратификационных атомарных знаков. Стиль жизни в концепции П.Бурдье – это «целостное множество отличительных предпочтений», выражающих одну и ту же «выразительную интенцию». На наш взгляд, элитарным нельзя назвать атомарный потребительский акт, элитарным или массовым является именно стиль жизни. Стили жизни распределяются на вертикальной шкале от низших классов к высшим, причем трансляция стилей жизни не обязательно идет сверху вниз. Например, потребление пива, которое первоначально считалось напитком «для народа» (в Европе была широко распространена пословица – «Пиво – это вино для бедных») в XX веке становится характерным и для высших слоев общества. Полагаем, что это стало результатом маркетинговых действий – создание премиум и суперпремиум-брендов пива. Еще един пример связан с потреблением культурных продуктов – потребление джаза высшими слоями общества, который ранее считался «вульгарным» и «низкопробным». 222 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 223 П.Бурдье считает, что в обществе ведется постоянная борьба за легитимизацию и повышение статуса той или иной классовой культуры (повышение стоимости культурного капитала), в связи с чем в современных обществах возрастает значимость культурного потребления. Люди выбирают некоторые бренды потому, что считают, что пользование этими товарами создает определенный имидж, приближает их к референтной группе, манифестирует другим членам этой группы, что он также принадлежит к ней. Предполагаем, что различные капиталы обладают различной емкостью элитарности, и элитарное потребление постепенно из сферы экономического капитала переходит в сферу культурного и социального. Самый элитарный товар может быть приобретен в кредит, выигран в лотерею и т.д. По крайней мере, потребление в сфере экономического капитала более либерально и открыто, чего нельзя сказать о культурном и социальном потреблении – здесь остаются целые анклавы элитарного потребления, подчас выступающего в качестве классообразующего признака. При дефиците символических средств, т.е. отсутствии достаточных ресурсов, включая знание социальной семантики (какие потребительские товары и как могут наращивать те или иные капиталы), потребление может развиваться в количественной прогрессии как простое количественное наращивание приобретаемого. С другой стороны, дефицит экономического капитала приводит к компенсации этого дефицита. Например, С.А.Ушакин приводит результаты исследования Б.Гринберг среди американских ценителей искусства, в котором было выявлено, что потребление «высокого искусства» среди общенациональных групп наиболее интенсивно среди людей, занимающих очень престижные должности, но имеющих сравнительно низкий уровень дохода[5]. Соотношение капиталов в потреблении зависит от нескольких факторов. Можно предположить, что к таковым относятся уровень материального достатка и уровень культурного развития (как сформированная потребность в систематическом потреблении объектов культуры). По мнению П.Бурдье, потребление разворачивается на континууме от «вкуса от нужды» до «вкуса к роскоши» (или «вкуса к свободе»). Чем дальше от «вкуса от нужды» (низкий материальный уровень при невыраженных культурных запросах), тем большее значение как детерминационного фактора приобретает культурное потребление, выступающее как способ идентификации и легитимизации своего статуса и т.д. Таким образом, можно сделать некоторые предварительные выводы. 1. Два маркетинговых подхода определяют присутствие разнонаправленных тенденций в производстве и продвижении товаров и услуг. Первая – массовый рынок и неразличимые массовые товары. Вторая – сегментированный рынок и, соответственно, производство, и продвижение элитарных товаров и услуг. 224 Материалы международной конференции 2. Основным маркетинговым механизмом поддержания и продвижения элитарных товаров и услуг является четкое их позиционирование по шкале «массовый – элитарный» и внедрение соответствующих потребительских образов и мотивов в массовое сознании целевых групп. 3. Основным детерминационным механизмом элитарного потребления является имманентно присущая социуму интенция в легитимизации и повышении статуса той или иной классовой культуры. 4. Социальные механизмы поддержания элитарности в потреблении ослабевают и становятся неэффективными. Этот дефицит восполняет реклама и другие средства маркетинговой коммуникации. 5. Потребление позволяет манифестировать знание социальной семантики, четкое следование нормам и правилам, принадлежность к социальному классу, а реклама выступает своеобразным учебником по стратификации. 6. Потребление элитарных товаров и услуг помогает наращивать и изменять объем и структуру капиталов, определяющих властный ресурс потребителя. 7. Стили жизни распределяются на вертикальной шкале от низших классов к высшим, причем трансляция стилей жизни не обязательно идет сверху вниз. 8. Акцент потребительской элитарности в постмодерне смещается с экономического на культурный капитал, в котором в большей степени представлены стратификационные знаки престижа и элитарности. Примечания 1. Гусев Д.К. Социально-психологические факторы, влияющие на экономическую деятельность и функционирование экономической сферы // Материалы выступлений II Международной научно-практической конференции КРСУ / Под общ. Ред. Ивановой И.И. Бишкек. 2004. С.238-245. 2. О’Гуинн Т.С., Ален К.Т., Семеник Р.Дж. Реклама и продвижение бренда. С-Пб.: Нева. 2004. С.298. 3. Бурдье П. Различения: социальная критика суждения // Экономическая социология. 2005. т.6.№ 3. С.25-48. 4. Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993, № ½. С.49-62. 5. Ушакин С.А. Количественный стиль: потребление в условиях символического дефицита // Социологический журнал. 1999. № 3-4. С.187-214. Патлач А.И. Москва «Герменевтический опыт» как основание эстетической концепции Х.Г.Гадамера 224 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 225 Крупнейший немецкий философ Х.Г.Гадамер значительную часть своих работ посвятил разработке эстетических теорий. Искусство играет особую роль в его герменевтической концепции: прекрасное само по себе является образцом любой герменевтической деятельности, универсальным примером работы понимания. Цель данного исследования – выявить онтологические основания эстетических построений немецкого философа. Реализация данной задачи, как видится, поможет глубже понять связь онтологии и эстетики в рамках философской герменевтики Х.Г.Гадамера. В качестве отправной точки для анализа герменевтико-онтологической проблематики сам Гадамер в работе «Истина и метод» использует концепцию «герменевтического опыта». Необходимо отметить, что под «герменевтическим опытом» у Гадамера понимается конкретный человеческий опыт (переживание), связанный с процессом понимания в широком смысле этого слова. Конкретизируя «герменевтический опыт» в эстетическую плоскость, можно сказать, что он касается как творческого опыта, так и герменевтического понимания произведения искусства[1]. Итак, мы видим, что для гадамеровской эстетики «герменевтический опыт» - одно из важнейших понятий. Реконструкция концепции герменевтического опыта будет иметь, таким образом, основополагающее значение для эстетической теории. Гадамер часто заявляет, что является продолжателем феноменологической традиции, идущей от Э.Гуссерля. Здесь будет уместно привести мнение В.И.Молчанова касательно места опыта у Гуссерля, оно достаточно показательно: «Гуссерль, следуя Брентано, полагал, что метод феноменологии состоит, прежде всего, в дескрипции и рефлексии; последнюю он понимал как модификацию сознания, модификацию самого опыта сознания, а не как некоторое созерцание «жизни сознания» извне»[2]. В русле этой традиции, которая, по мнению Молчанова, закладывается в т. 2 «Логических исследований», идет и ранний М.Хайдеггер. Если вспомнить, в чем заключается экзистенциальная аналитика dasein (присутствия), станет понятно, что мы имеем дело именно с опытом: «Экзистенциальная аналитика со своей стороны опять же в конечном счете экзистентна, т.е. онтически укоренена. Только когда философски-исследующее вопрошание само экзистентно взято на себя как бытийная возможность конкретно экзистирующего присутствия, существует возможность размыкания экзистенциальности экзистенции и с ней возможность подступить вплотную к удовлетворительно фундированной онтологической проблематике вообще»[3]. Понятие «онтической укорененности» именно и означает опытную задачу экзистенциальной аналитики: она может проводиться только из личного опыта экзистирующего dasein, и этот опыт, взятый в феноменологическом уже ключе (т.е. с редуцированной «личностной» компонентой) становится опытом, в котором раскрываются универсальные черты dasein, или, выражаясь хайдеггеровским языком, горизонтом всякого экзистенциального опыта вообще[4]. 226 Материалы международной конференции Гадамер считал себя наследником именно этой традиции – традиции «Логических исследований»[5] и «Бытия и времени»[6]. Поэтому в основе его герменевтики –феноменолого-экзистенциальное понятие опыта, в чем он явно следует за Хайдеггером. Феноменолого-герменевтический опыт, по Гадамеру, обладает рядом характеристик, позволяющих его отделить от других видов опыта. Первая основополагающая характеристика такого опыта – это его редуцированность – в феноменологическом смысле. Это значит, что опыт не может быть рассмотрен ни с какой другой позиции, кроме как с позиции самого опыта. Первым уточнением этого принципа будет отказ рассматривать опыт с точки зрения его результата: «Рассматривать опыт таким образом, т.е. с точки зрения его результата, - значит перескакивать через собственно процесс опыта»[7]. В этом смысле опыт – «процесс существенно негативный»[8]. Вторым уточнением данного принципа будет отказ рассматривать любой новый опыт как «надстройку» или «углубление» любого старого опыта. Это значит, что каждый новый феноменолого-герменевтический опыт отрицает, «снимает» сравнение с Гегелем будет здесь уместным – старый опыт. Важно отметить, что, в отличие от гегелевской концепции, цепочка «снятий» в рамках герменевтического опыта не может иметь какой-либо трансцендентной себе цели[9]. Поэтому если рассматривать знание как результат опыта, к самому опыту оно не будет иметь никакого сущностного отношения, а если рассматривать знание как то, что обладает аподиктичным характером (а именно такое знание должен получать субъект об объекте в рамках картезианского философского метода), то оно будет попросту мешать появлению герменевтического опыта в дальнейшем. Но, с другой стороны, герменевтический опыт вряд ли сможет когда-либо в принципе дать аподиктичное знание. С этим связана его вторая характеристика - экзистенциальный характер. Здесь Гадамер наиболее явно следует за идеями М.Хайдеггера, прежде всего за концепцией экзистенциальной аналитики присутствия. В наиболее общем виде суть концепции может быть сформулирована так: «Присутствие понимает само себя всегда из своей экзистенции, возможности его самого быть самим собой или не быть самим собой… Вопрос экзистенции должен выводиться на чистоту всегда только через само экзистирование [т.е. в онтикоонтологическом ключе, или в рамках феноменологического опыта – А.П.]»[10]. Поэтому только то dasein, которое имеет место быть в мире, то есть здесь, с нами, может претендовать на экзистенциальный опыт[11]. Затем, экзистенциальная аналитика dasein позволяет нам уяснить, что в целом dasein может быть понято как бытие-к-смерти[12], горизонт понимания которого – временность: «Присутствие знает бегущее время из «беглого» знания о своей смерти <…> Невозможность поворота [времени] имеет свою основу в происхождении публичного времени из временности, временение которой, первично настающее, экстатично “идет” к своему концу, причем так, что оно уже “есть” к концу»[13]. Гадамер подчеркивает принципиальную конечность, 226 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 227 лежащую в основании опыта: «Опыт, таким образом, есть опыт человеческой конечности. Опытен в собственном смысле слова тот, кто помнит об этой конечности, тот, кто знает, что время и будущее ему неподвластны»[14]. Эта конечность, лежащая в основании всех способностей человека, и прежде всего, его разума, и должна открыть возможность понимания в герменевтическом смысле. То есть опыт не может быть снят в чем-либо «бесконечном», например, в аподиктичном знании. С конечностью опыта связана третья, пожалуй, самая важная характеристика гермененвтического опыта – его открытость. Под открытостью понимается, прежде всего, готовность и возможность принять Другого так, как он есть, т.е. в его инаковости. Здесь имеется в виду, что Другой становится авторитетом, который может «восполнить» принципиальную конечность личного опыта. Далее, конечность предполагает и невозможность перенесения себя, своих пред-суждений, на Другого. В противном случае, Другого можно проинтерпретировать исходя из своих предрассудков касательно него – в случае, если мы признаем эти предрассудки истинными или аподиктичными. Принципиальная конечность, лежащая в основании нашего опыта, не позволяет нам сделать этого. Соответственно, исходя из этой нашей конечности, Другой понимается именно как другой, т.е. происходит акт понимания в его исконном, герменевтическом смысле[15]. Именно в этом смысле «герменевтическое сознание обретает завершенность не в методологической самоуверенности, но в готовности к опыту, сходной с той, какая отличает опытного [курсив мой – А.П.] человека от догматически-предвзятого»[16]. Понимание Другого как другого в гадамеровской герменевтике происходит путем разговора (беседы, диалога). Разговор сущностно укоренен в опыте человеческой конечности. Именно в разговоре человек начинает не просто говорить – т.е. доказывать нечто своё, но слушать. Разговор возможен только как открытость услышать нечто[17]. Поэтому «… быть способным к разговору, то есть слышать другого, – в этом, представляется <…> состоит возвышение человека к подлинной гуманности»[18]. Только во внимательном слушании, причем непосредственном[19], разговор может себя реализовать. Мы выяснили, что для того, чтобы разговор состоялся именно как разговор (чтобы в нем реализовался герменевтический опыт), важным условием является требование выслушать собеседника – будь то живой человек, исторический текст или произведение искусства. Лучше понять концепцию герменевтического опыта мы сможем, рассмотрев по контрасту с ней концепцию диалектики Гегеля («диалектический опыт»). Для Гегеля в рамках диалектического опыта так же, как и для Гадамера, важен момент поворота сознания. Однако этот поворот во многом определен тем, что осуществляется в рамках самого сознания, вернее, метасознания. Поэтому можно сказать, что «сознание совершает поворот, познавая в дру- 228 Материалы международной конференции гом, чуждом, себя самое»[20]. Соответственно, гегелевский путь опыта должен привести здесь к такому знанию, которое не имело бы вне себя ничего другого, чуждого. В таком случае, этот путь будет – постижение себя в другом исходя из себя самого. Когда я сам в другом буду постигнут, я смогу преобразовать свой опыт в понятие, и тем самым достичь аподиктичного знания. Здесь знание понимается как абсолютное тождество сознания, предмета и понятия. Отталкиваясь от диалектического определения опыта, Гадамер делает два важных герменевтических вывода: во-первых, для герменевтики, в отличие от диалектики, «существует неснимаемое противоречие между опытом и знанием… истина опыта содержит в себе связь [только] с новым опытом»[21]. И, во-вторых, диалектический опыт никогда не сможет понять Другого в его инаковости – он всегда будет стремиться найти в другом себя, чтобы снять саму проблему поиска, т.к. в этом его задача. Здесь необходимо повторить тот тезис, что для герменевтики опыт может быть понят только из опыта, и ни в коем случае из чего-либо другого, внешнего этому опыту. В отличие от этого, Гегелю важно сделать движение опыта подчиненным конкретной цели – самораскрытию Абсолютного духа в ином, которое является им самим. То есть диалектический опыт имеет в своей основе определенную телеологию. Гегелевский Абсолютный Дух, мета-субъект, ставит себе задачу постичь себя через само-объективирование, и затем, реализуя диалектическое движение, сознательно достичь самого себя – в понятии. Таким образом, если мы отказываем опыту во внешних ему целях, мы получаем, что субъект не может иметь отношения непосредственно к опыту через сознательное целеполагание. В таком случае, субъект уже не является активным, целеполагающим участником и двигателем «диалектического» движения. А опыт не может быть вызван субъективно – так же, как он не может служить целям, поставленным кем-либо и как-либо. «Возникновение опыта – такой процесс, над которым никто не властен … в котором все таинственным образом упорядочивается само собой. Сравнение [аристотелево сравнения научных наблюдений с бегущим войском] показывает своеобразную открытость, в которой стяжается опыт – здесь или там, внезапно, непредсказуемо и все-таки не на пустом месте – и с этих пор получает значимость вплоть до нового опыта, то есть определяя не только то или это, но вообще все сходное с данным [опытом]»[22]. Итак, если мы признаем, что в основе понимания Другого как другого лежит признание его инаковости, и что наш опыт – по необходимости конечен и в своей тотальности от нас не зависит, то нам необходимо будет сделать вывод, что мы не можем активно применять этот опыт, а можем лишь взывать к его открытости, то есть находиться в пассивном состоянии относительно герменевтического опыта, которым мы в принципе не управляем. Это происходит вследствие того, что наши понятия, составляющие язык, хотя и несут на себе печать опыта, однако им ни в коем случае не являются и не 228 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 229 определяют его, как у Гегеля – когда понятие определяет диалектическое движение опыта. В этом случае мы не можем направить опыт куда-либо при помощи нашего разума – наш разум мыслит понятиями, а понятия, как было указано, опыт направлять не могут. Поэтому в герменевтическом опыте субъект становится пассивным, «объект», то есть Другой, не зависящий от субъекта, получает возможность высказаться сам, призвать субъекта к разговору и, таким образом, определить этот опыт. Стоит еще раз отметить, что в герменевтическом опыте субъект не постигает себя, а, прежде всего, изменяет себя под влиянием Другого – и тем самым нечто понимает. Т.е. субъект является «объектом», «претерпевающим» понимание над самим собой – и, часто, вне или даже против своей воли. А Другой – двигателем, направляющим этого изменения. Наше рассмотрение герменевтического опыта позволяет сделать ряд выводов относительно гадамеровской эстетической концепции. Во-первых, важнейшим «проявлением» герменевтического опыта для Гадамера является опыт прекрасного (в широком смысле) и опыт искусства в частности. Вовторых, Гадамер отмечает, что герменевтический опыт универсален[23], а значит, все сказанное о нем может быть непосредственно приложено ко всякой теории эстетического опыта. Однако это не означает, что прекрасное для Гадамера играет «второстепенную» роль по сравнению с его теоретическими концепциями, скорее наоборот: только пережив опыт столкновения с прекрасным, воздействия прекрасного на себя можно по-настоящему почувствовать, что понимал под герменевтическим опытом немецкий философ. Исходя из этого, можно сделать парадоксальный вывод: гадамеровская эстетика укоренена в онтологии в той же мере, что и онтология в эстетике. Кроме того, нетрудно заметить, что многие онтологические выводы философ делает именно на основе анализа переживаний, вызванных произведениями искусства. Поэтому верно будет сказать, что гадамеровская герменевтика позволяет нам говорить об искусстве на языке онтологии, а об онтологии – в терминах эстетики. Что еще раз подчеркивает эстетическую значимость данной теории в целом и концепции герменевтического опыта как ее основания в частности. Примечания 1. Гадамер Х.Г. Эстетика и герменевтика // Актуальность прекрасного. М., 1991. С.256-265. 2. Молчанов В.И. Аналитическая феноменология в «Логических исследованиях» Э.Гуссерля // Э.Гуссерль. Собрание сочинений. Т. 3 (1) Логические исследования. Т.2 (1). М., 2001. С.XVI. 3. Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С.29. 230 Материалы международной конференции 4. Гадамер формулирует это как «универсальность герменевтического опыта» (Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С.548). 5. Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С.410. 6. Как и Хайдеггеру, «Идеи к чистой феноменологии» Гадамеру не близки. Однако в своей аналитике Гадамер опирается именно на хайдеггеровское понятие опыта. 7. Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С.416. 8. Там же. 9. Там же. С.418. 10. Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С.28. 11. Здесь Хайдеггер (а вслед за ним и Гадамер) подчеркивает, что, например, Абсолютный Дух, или какой-нибудь бесконечный разум будет принципиально лишен самой возможности экзистенциального опыта. 12. Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С.289. 13. Там же. С. 475. 14. Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С.420. 15. Там же. С.425. 16. Там же. С.426. 17. Гадамер Х.Г. Неспособность к разговору // Актуальность прекрасного. М., 1991. С.90. 18. Там же. С.90. 19. Т.е. «с глазу на глаз». Гадамер считает, что любые посредники, передающие речь, искажают это «основание» живого разговора. Поэтому он выделяет 3 вида «подлинной» ситуации разговора: переговоры, психотерапевтическая беседа, интимный (дружеский) разговор (см. Гадамер Х.Г. Неспособность к разговору // Актуальность прекрасного. М., 1991.С.87-89). 20. Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С.418. 21. Там же. 22. Там же. С.415. 23. Гадамер Х.Г. Эстетика и герменевтика // Актуальность прекрасного. М., 1991. С.265. Прозерский В.В. доктор философских наук, профессор Санкт-Петербург Эстетика жизненного мира 230 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 231 Жизненный мир, повседневность, представляет собой реальность человеческой жизни, среду обитания, осмысляемую в основном на дорефлексивном уровне. Эстетические проблемы среды – это предмет неклассической (или постклассической) эстетики – (в данном случае различие между этими понятиями не столь важно). Главное здесь – коренное отличие неклассической эстетики от классической. Говоря о классической эстетике, обычно имеют в виду эстетическую парадигму, корни которой лежат в античности, но достигшей полного развития или даже можно сказать кульминации в немецкой классической философии – у Канта, Шеллинга, Гегеля. В классической эстетике были выработаны принципиальные подходы к искусству, включавшие в себя учение о диалектике образа и идеи, содержания и формы, единстве онтологического и культурологического статуса произведения искусства, творчества и восприятия, то есть разработаны основания некой универсальной эстетической доктрины, в русле которой (с некоторыми изменениями в основном терминологического характера) продолжали следовать более поздние материалистические и идеалистические школы, остававшиеся в рамках классического рационализма. В современной терминологии классическую эстетику можно было бы назвать элитарной, потому что предметом ее рассмотрения было искусство и только искусство (отсюда ее синоним – философия искусства), причем в поле ее зрения попадало не всё искусство, а исключительно выдающиеся произведения, созданные гениями (истинный творец произведения должен был быть гением). Вместе с тем ничего из того, что находилось за пределами искусства (за рамкой мира искусств), ее не интересовало. Более того, в самом мире искусств она тоже создавала разлад, производя ранжирование искусств на высшие и низшие по степени выражения духовности. Тем искусствам, которые не обладали способностью выражения идеи в образе (формула красоты классической эстетики) в такой степени, как изобразительные искусства, музыка и литература, например, архитектуре, а также прикладным искусствам, приходилось плохо. Их или вообще отлучали от семьи искусств или для того, чтобы включить в число изящных искусств, отрывали образное начало от конструктивного и функционального, разрывая таким образом живое целое надвое. (Исходя из признания многослойности культуры, можно считать, что классическая эстетика существует и сейчас, ориентируясь на продолжающуюся классическую традицию в искусстве). Вместе с тем в постмодерне в связи с начавшимся размыванием границ между видами искусства, а также между миром искусства и тем, что раньше считалось лежащим за его пределами, внимание сдвинулось с искусства на среду, представляющую собой поле пересечения совершенно разных явлений – как эстетических, так и неэстетических. Поэтому главным предметом рассмотрения для современной (неклассической) эстетики становится проблема – как достигнуть единства и интегрированности среды. Соответственно в 232 Материалы международной конференции центре ее внимание оказывается уже не искусство, а особая деятельность по освоению среды, носящая интегративный характер – дизайн. Среда человеческой жизни – это мир культуры. Поэтому самые общие определения для среды те же, что и для культуры. Так же как культуру традиционно делят на материальную и духовную, то есть на вещи и слова (или тексты), так и среду можно рассматривать как поле взаимодействующих сил, имеющее один полюс – тексты, другой –артефакты Когда нашу эпоху называют обществом потребления (вкладывая отрицательный смысл в это слово), имеют в виду погруженность человека в среду, то есть потребительство вещей и имиджей, некритическое восприятие потоков информации (неотличимой от дезинформации), обрушивающихся на него по каналам СМИ. Господство символов и знаков в культуре постмодерна дошло до таких пределов, что стали говорить о превращении даже вещей в знаки и их знаковом потреблении (Ж.Бодрийяр), об эстетизации политики ( еще со времен В.Беньямина и Франкфуртской школы) и превращении всего общества в спектакль (Ги Дебор). Приходится сказать, что дизайн приложил руку к созданию консьюмеризма, то есть потребительского отношения к вещам и текстам, имеющим почти один и тот же знаковый знаменатель. Общераспространенным является представление о дизайне как деятельности коммерческой направленности, наделяющей вещи символическим смыслом, включающей их в потоки престижного, демонстративного потребления. Для этого вещам придаются формы, которые соответствуют непритязательному вкусу покупателей и потому нравятся, завершается же процесс производства и позиционирования вещей на рынке искусно разработанной упаковкой, подобной аппетитной приманке, и суггестивной, манипулятивной рекламой. Но есть и другой дизайн – креативный, стремящийся внести творческие или игровые моменты в любые формы жизни, которые погрязли в рутине, механическом однообразии, наладить прерывающуюся межчеловеческую коммуникацию, перевести ее из тональности «диалога глухих» в тона взаимопонимания. На «круглом столе» II бьеннале дизайна в Санкт-Петербурге в 2007 году было высказано предложение заменить старые многословные определения дизайна новым, кратким, выразительным и емким: «дизайн – деятельность, проявляющая заботу о человеке». По каким позициям дизайн отличается от того, что раньше называлось прикладное искусство или (немного позже) промышленное искусство или техническая эстетика? Он отличается от прикладного искусства не только тем, что последнее носило ремесленный характер, а дизайн ориентирован на фабричное производство вещей по проектам, выполненным художником для массового производства. Главное – в том, что дизайн ориентирован на среду в целом, а не на отдельные вещи. А если говорить о проектировании среды, то приходится иметь в виду проектирование жизни человека в среде. А с этим надо быть очень осторожным, так как человеческая натура сложна, экс- 232 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 233 татична, направлена на трансцендирование наличных границ, поэтому возникающая иногда уверенность в том, что она познана полностью и, следовательно, на основе научных данных о человеке и его жизненных потребностей можно спроектировать совершенную во всех отношениях среду проживания, оказывается заблуждением. «Дом - машина для жилья» – лозунг не только Ле Корбюзье, но и всей интернациональной конструктивистской эстетики, (связанный с убеждением, что если человеку создать максимально комфортные условия быта и труда, он будет счастлив), потерпел поражение именно из-за того, что здесь не брался в расчет творческий потенциал личности, рождение новых потребностей, не было предвидения, что предельно «перфектная» среда, неспособная совершенствоваться дальше, может показаться клеткой. Судьба великолепных конструктивистских сооружений сложилась печально, их пытались обновить, а если это не получалось, то через несколько десятилетий функционирования они шли на слом, как это произошло, например, в штате Миссури в 1972 году. Это событие знаменательно; по словам Ч.Дженкса оно символизировало не только конец архитектуры интернационального стиля, но и всей эстетики модернизма, которую должен был сменить постмодернизм. Для архитектуры и дизайна из него следовал вывод: надо проектировать среду, способную к дальнейшим преобразованиям. Перед креативным дизайном стоит задача добиться того, чтобы человекв-среде, открытый всем знаковым потокам, не был подхвачен и унесен ураганом информационных вихрей. То есть сделать его критичным к сообщениям (текстам) СМИ и массовой культуры, а из потребителя вещей, зачарованного брендами и фирменными марками, создать свободного распорядителя вещами. Одним из таких средств, разработанных еще в начале XX века русской «формальной школой», является принцип остранения. Он подразумевает выведение из автоматизма восприятие языка, превращение его из «прозрачного» в «непрозрачный». Следствием этого будет то, что воспринимая не только содержание литературного произведения, но и его форму, язык, человек сможет преодолеть гипноз содержания (захваченность сюжетом, действием, что характерно для «потребительского» чтения), будет иметь установку на то, «как сделано» произведение, иначе говоря, остранение создает эстетическую дистанцию по отношению к жизни. Прием остранения действителен не только для литературных текстов, но фактически для всех сообщений и текстов, включая рекламу и СМИ. Здесь особая роль принадлежит графическому дизайну. Возьмем, например оформление книги. Когда человек открывает художественно оформленную книгу, он вступает в волшебный мир, у которого не один язык – вербальный, но и изобразительный – иллюстрации и орнаментальный – заставки, поля, но и сам текст благодаря графическому начертанию букв приобретает дополнительные смыслы. Как бы далеко не ушло современное полиграфическое производство от средневекового рукописного, но и на современной книге лежит 234 Материалы международной конференции печать освящения ее глубокой традицией. Ведь корни феномена книжности в культуре все равно там, в том времени, когда книга была частью ритуала, предназначалась для церковного службы или домашней молитвы или благоговейного чтения вслух. Само её сочинение или даже переписка представляли собой ритуал, ведь без благословения нельзя было приступить ни к сочинению, ни декоративному оформлению, ни переписке. По существу книга (манускрипт) являла синтез искусств, храм в миниатюре; открывая книгу как бы входили в храм и оставались в нем на долгие часы. Остранение также создается графическим дизайном в визуальных коммуникациях и рекламе (внутри помещений и в городской среде). Бесконечное количество надписей и указателей в хорошо выполненном дизайне имеют не только функциональную роль, но заставляют фиксировать в сознании способ начертания букв, их вязь или скоропись, характер графических знаков, сцепленных в хоровод в вывесках, названиях магазинов и учреждений, или в мелькающих световых кружевах наружной рекламы, создающей (особенно ночью) атмосферу праздничности и театральности городской среды. Проблемы, связанные с восприятием вещной среды, зеркально симметричны (противоположны), тем, которые вставали при восприятии сообщений и текстов инфосферы. Задача заключается в том, как включить вещную среду в коммуникацию, превратить физические стимулы в знаки и символы, и дальше - в тексты. Но как при этом не впасть в грех консьюмеризма, на службу которому поставлена эстетизация поверхности жизни, о чем с такой тревогой говорят критически настроенные к обществу массового потребления идеологи (Адорно, Маркузе, Ортега-и-Гассет, Бодрийяр и др.)? Ведь самый простой и к сожалению распространенный способ, о котором было сказано выше, – оформительство, придание вещам приятного для глаза облика, приятного в том смысле, в каком приятны расхожие мелодии шлягеров (в этом смысле визуальную форму можно назвать пластической интонацией), или наделение их визуальным обликом по иконографии, создаваемой модными журналами, или насыщение символикой в надежде на престижное демонстративное потребление. В связи с этим можно вспомнить суровую отповедь оформительству, раздававшуюся из стана русских конструктивистов, внесших много нового, революционного в сферу эстетики среды. Хотя они были во многом экстремистами и разделяли общие ошибки конструктивизма, о которых уже говорилось, но этот их завет – не оформление, а мастерски сделанная вещь, «конструктивная – значит художественная», конечно, не должен быть забыт. Из многих вопросов о том, как сделать среду конструктивной, но не закрытой, а открытой, то есть оставляющей простор для творчества человека, выделим один, который кажется немаловажным для решения этой задачи. Задача заключается в том, чтобы, превратив вещи в знаки, в текст, не создать ту же ситуацию, которая часто возникает в отношениях человека со СМИ. То есть не дать погрузиться в эти тексты и в результате оказаться за- 234 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 235 гипнотизированным престижностью или другой символикой вещей, что и создает вещную зависимость, или, если резче сказать - потребительское рабство. Что для этого нужно? По нашему мнению здесь должен сработать тот же процесс остранения, который мы рассматривали применительно к вербальным текстам. Чтобы добиться его, дизайнеру не нужно создавать готовое произведение, а, пользуясь терминологией Р.Барта, лучше остановиться на уровне текста. Или по-другому - остаться на уровне медиа. Медиум – некий слой произведения, лежащий между материалом (можно сказать – сырым материалом) и формой, которая уже непосредственно выражает содержание. Дизайнер идет от материала, вещности, наделяя ее значениями, одухотворяя ее, то есть превращая в медиум, становящийся художественным языком На каком-то этапе стоит остановиться и дать возможность человеку попользоваться дизайнерским языком. Тогда и произойдет нечто, подобное остранению, которое освобождает человека от погруженности в вербальный текст, о чем было сказано выше. Человек тогда не будет погружен в вещный текст, когда у него останется возможность воспринимать этот текст вместе с его языком и, пользуясь им, додумывать, доделывать, переделывать, создавать перестановки и новые композиции. В таком случае среда не станет орудием закрепощения, и он сам останется не закрепощенной, а творческой личностью. Только при этом условии может возникнуть эстетический опыт, пристально изучаемый в современной теории дизайна. Современный средовой дизайн (в том числе психо- и арт-дизайн) как раз и ориентируется на то, чтобы создаваемые им вещи и арт-объекты могли трансформироваться в зависимости от чередующихся потребностей и даже просто настроений человека; представляли собой образцы non-finito, рассчитанные на подключение к ним тела человека, которое должно их закончить, дополнить до целого. Но если эстетическая организация среды в подобном дизайне (назовем его медиативным дизайном) не бывает законченной, завершенной, то для ее характеристики нельзя применить такую категорию классической эстетики, как эстетический объект. Здесь образуется не эстетический объект, а эстетический паттерн опыта, обладающего динамичным, пульсирующим, подвижным характером. Рыбчак А.В. кандидат философских наук Санкт-Петербург Суррогаты и авангард: психоделия или абсурд? Суррогаты и авангард: 236 Материалы международной конференции Для раскрытия данной темы необходимо оговорить два предварительных условия: 1.Прежде всего необходимо утвердить холистское понимание суррогата. В связи с существующей в некоторых классификациях неразличимостью наркотиков на лёгкие и тяжёлые[1], было бы последовательно не разделять химию, изменяющую сознание, на алкогольную и наркотическую: и то, и другое есть суррогат. 2.Борьба с суррогатами, как правило, страдает двумя крайностями: неумеренные борцы пытаются либо заигрывать с употребляющей химию аудиторией, либо напрочь отрицают весь тот пласт авангардной культуры, который данный тип сознания породил[2]. Разумеется, суррогаты и авангард связаны: причём связаны программой, концепцией. Именно на этом основании альтернативную культуру предлагают ликвидировать, прежде всего, когда речь идёт о борьбе с наркотиками. Отчасти это заблуждение происходит из неосведомлённости в маргинальном дискурсе – из незнания того простого факта, что альтернативное искусство неоднородно и делится на школы, направления, традиции. Из этой ошибки вырастает миф о противостоянии «социального-законного-здорового» и «асоциального-незаконногонаркотичного». Согласно данному мифу, исцеление наркомана или профилактика наркоэпидемии строго связана с возвращением в правовое поле, в общество и в «традиционную культуру». Очевидно, что это не так – что индивид может иметь ряд причин (психологических, возрастных, творческих, экзистенциальных) на обособление от социума, и это отмежевание не является единственной или главной причиной попадание в сферу наркоэпидемии. «Человек, как животное творческое, имеет право быть асоциальным и нестандартным!» - вот что должно быть написано на знамёнах любых борцов. В противном случае придётся научно объяснять острую личную потребность некоторых писателей красить по ночам печку в розовый цвет[3]. По свидетельствам современников, великий Антонен Арто в общественных местах вёл себя не просто очень странно, но и агрессивно[4] – поставив эксперимент по доведению себя до сумасшествия и смерти, он, в качестве реформатора театра, до сих пор остаётся на острие европейской культуры. Итак, только часть творческого мира прибегает к стимуляции творческих процессов суррогатами и отражает это в своём творчестве. Именно здесь нужно отделить зёрна от плевел. Для того, чтобы с мутной водой наркоэпидемии не выплеснуть вечно новорожденного, прекрасного и актуального ребёнка авангардного искусства, и пишется настоящая статья. Психоделия или абсурд? Условно и безусловно можно разделить поле авангарда XX века на две стратегии: психоделическую и абсурдную. Если в 1960-х годах эти тенденции выделялись среди прочих, то теперь, когда необходимо прояснить соотношение авангарда и суррогатов, эти направления следует рассматривать как 236 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 237 две модели их соотношения. Гротескно, но точно данная оппозиция обозначена Василием Шумовым в песне «Химическая зависимость» (альбом «Тектоника(к)», 1993 г.): «Ты – психический, а я – химический, Ты – задёрганный, а я – периодический, У тебя на уме студентики Мамлеева, У меня в крови вся система Менделеева» Модель абсурда можно символически проиллюстрировать творчеством Д.И.Хармса (впрочем, подошёл бы любой участник ОБЭРИУ), психоделии – наследием П.Н.Мамонова (опять же, психоделический лагерь при необходимости можно пополнить многочисленными сподвижниками алко- или наркокультуры XX века). Что объединяет тексты этих авторов? В обоих случаях сознание манифестирует себя как изменённое. Однако если абсурд носит биохимически- и психологически самостоятельный характер, эмоционально он самодостаточен, то в идеологии психоделии заложена программа химической зависимости не только автора и зрителя, но и самого произведения искусства. Обратимся к определению понятия «психоделический рок»: «Одно из основных направлений «подпольной» музыки. «Психоделический», «психоделик» - термин, обозначающий всё, касающееся употребления наркотиков и связанных с этим изменений в психике, восприятии, мироощущении. Для него (также иногда называется «эйсид рок» - уже буквально «наркотический рок») характерны: бесконечно длинные, вводящие в транс инструментальные импровизации (ансамбль «Грейтфул Дэд»), обилие световых и цветовых эффектов, как бы имитирующих галлюцинации (ранние «Пинк Флойд»), тексты, повествующие о «расширении сознания» и живописующие бредовые «откровения» наркоманов (ансамбль «Аэроплан Джефферсона» и многие другие, не исключая отдельные песни «Битлз», Джимми Хендрикса, Боба Дилана). «Психоделик» был имманентным порождением движения хиппи («власть цветов») и в своей «классической» форме просуществовал очень недолго (1966-1968). Однако его достаточно отчётливые отголоски, и музыкальные, и текстуальные, слышны в рок-музыке до сих пор»[5]. И действительно, если исходить из уже принятой нами холистской интерпретации понятия суррогата, видна концептуальная отсылка П.Н.Мамонова к водке как элементу, интегрированному в его жизнь и творчество: «Проснулся я утром Часов в пять И сразу понял: Ты ушла от меня. Ну и что! Ну и что! Что ты ушла от меня. Все равно опять напьюсь! 238 Материалы международной конференции Шуба-дуба! Блюз» [6] «Стоило завидеть осанку твою, Я понимал, как тебя люблю. Стоило завидеть крутые бока, Знал и видел будешь моя. Бутылка водки! Бутылка водки!» [7] «Ночью я совсем не сплю, ночью я бухать люблю. Ночью прочь уходит сон, скачет желтый моветон Синий-синий почтальон носит черный медальон Ночью все цвета равны - одинаково страшны Только красное вино ночью цвета одного - белого... Белое вино, белая горячка. Белое вино, белая горячка. Красный черт. Красный черт» [8] Конечно, в творчестве автора группы «Звуки Му» нет однозначной апологии алкоголизма: очевидно, что Мамонов повествует о жизни некоего персонажа (его появление в конце 1980-х можно даже было бы считать необходимым, поскольку он в высшей степени саркастичен и честен), чья жизнь оказалась раздавленной между нелепой государственной системой и собственными аффектами как между молотом и наковальней. И, что особенно важно, судьба и характер данного персонажа лишь частично совпадает с личными качествами его автора. Но так же очевидно отрицательное обаяние такого героя и то, что он демонстрирует (и, тем самым, задаёт своим зрителям) определённую модель ухода от проблем в мир галлюцинаций. Культурологически такую позицию можно оценить как атавизм эпохи застоя, где спивались целые поколения художников. Ей очевидно противостоит метод Хармса, который хочется назвать «протестантским» - активная творческая и редакционно-издательская деятельность при опоре на ресурсы собственной психики: «Он пил, но не так, чтобы это могло затмить или испортить то, что он писал. Он берёг себя для работы. Пьяным я его во всяком случае никогда не видела»[9]. Для иллюстрации возможностей «протестантского» подхода приведём первую часть стихотворения Хармса «Кика и Кока»[10] 1925 года: «Под логоть Под коку ФУФУ и не крякай не могуть фанфары 238 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 239 ла – апошить дебасить дрынь в ухо виляет шапле ментершула кагык буд-то лошадь кагык уходырь и свящ жвикавиет и воет собака и гонятся листья сюды и туды А с неба о хрящи всё чаще и чаще взвильнёт ви ва вувой и мрётся в углынь С пинежек зирели потянутся кокой под логоть не фукай! под коку не плюй! а если чихнётся губастым саплюном то Кика и Кока такой же язык» Здесь видно коренное различие двух творческих миров: психоделический апеллирует к суррогатам; абсурдная часть авангарда – наоборот: опирается исключительно на собственные, внутренние когнитивные и психические ресурсы (например, Камю в работе «Абсурдное творчество» пишет, что для оного необходима ясность видения: на языке рассматриваемой проблемы это означает исходную трезвость как элементарное условие жизнетворчества и самооценки). Что следует из этой разницы? Во-первых, отношение к суррогатам в авангардной среде неоднородно, а, следовательно, и относиться к различным направлениям последней в рамках борьбы с наркоэпидемией следует не одинаково. Вычленяется та часть прогрессивной культуры, которая ответственна за многочисленные и несправедливые обвинения альтернативного творчества в популяризации алкоголя и наркотиков – это психоделия, под которой теперь следует понимать не только соответствующее направление в музыке 1960-х годов, но также всю суррогатную стратегию в искусстве (например, некоторые ответвления рэйвкультуры или шансона). Исторически психоделия, в отличие от абсурда, очень быстро утратила свою актуальность: вспомним как Троицкий в 240 Материалы международной конференции приводившейся выше цитате признал, что в своём чистом виде просуществовала она очень недолго – буквально несколько лет. Абсурд напротив - вот уже сто лет радует нас всё новыми своими формами, а произведения, созданные в этом духе в начале или середине прошлого века остаются насущными до сих пор. Эти аргументы легко проверить с помощью несложного эксперимента: пересмотрим фильм Алана Паркера «Стена» (1982), снятый по мотивам одноимённого альбома Pink Floyd, и перечитаем «Тошноту» Сартра (1938) или любое произведение Хармса. Первое произведение окажет на нас гнетущее впечатление агрессивного ретро, потому как жёстко привязано к социальной мифологии тех лет (в частности, к инфантильному мифу о разрушении рационально-капиталистического общества через наркотики[11]); последние два вновь создадут свежие впечатления. Что стало с персонажем Мамонова? Он умер вместе с Советским Союзом, являясь его обратной стороной. С 1990-х годов Пётр Николаевич сам отказался от него, переключившись на создание моноспектаклей («Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин», «Мыши, мальчик Кай и Снежная Королева») – но даже в них психоделический юмор оказывается устаревшим настолько, что перестал отличаться от интонаций масс-медиа (хотя изначально он бескомпромиссно противостоял им). Таким образом, абсурд более честен: он, в отличие от психоделии, не заигрывает с социальной мифологией, предпочитая эксплуатировать невроз и эстетическую провокацию, в то время как психоделия паразитирует на возможностях химии и социальноэкономической конъюнктуры. Таким образом, неформальное, альтернативное, авангардное творчество, в основе которого лежит изменённое сознание, следует признать прогрессивным и даже социально необходимым, но только в том случае, если в самом произведении искусства и его паратексте (т.е. его рекламе, обложке, титульном листе, подзаголовках, введении, рецензии, устных комментариях и т.д.) не заявлена концептуальная связь с суррогатами. Иными словами, абсурдное направление авангарда является маргинальным (говоря языком ECAD, оно может быть незаконным, асоциальным[12] и нездоровым[13]), но не имеет никакого отношения к росту наркоэпидемии, идейно не способствует ей. Абсурд в социальном смысле выполняет терапевтическую роль: например, для людей протестного возраста – тинэйджеров – данная модель даёт образец переживания своей экзистенциальной ситуации без суррогатов. Как уже было сказано, человек в ряде случаев остро нуждается в отделении от общества, противостоянии ему: прежде всего это молодые люди переходного возраста, а так же люди творческие. Как и было заявлено выше, настоящая статья пишется не для репрессий в адрес психоделического искусства (ведь в случае запретов персонаж Мамонова и «The Wall» снова станут злободневными), а для наркологического просвещения и (само)ориентации в обширном поле 240 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 241 авангарда. Более того, в большинстве случаев для классификации Текста (произведения искусства) потребуется герменевтический подход (в частности, для отделения психоделического этапа от абсурдного в творчестве одного и того же автора). Очевидно, что номинализм во взгляде на соотношение двух обсуждаемых здесь сфер является губительным и может повлечь вынесение за скобки легитимной культуры, к примеру, всей русской или античной литературы начиная с Гомера (где герои ежечасно упиваются вином). Существует прекрасная художественная иллюстрация данной мысли – новелла «Заводной апельсин» Энтони Бёрджеса, где перевоспитание преступника, любившего музыку Бетховена, включало в себя невозможность свершения им как самих преступлений, так и прослушивания музыки Бетховена. Если борцы с наркоэпидемией не хотят подражать персонажам этой антиутопии, им придётся изучить современный художественный язык и ознакомиться с многообразным миром актуального искусства. Итак, психоделической следует признать ту творческую реальность, где изменение сознания химическим способом является целью, а не средством. Наконец, последний вывод касается уже не степени аксиологической устойчивости обеих моделей, а логики их развития: ни Хармс, ни Камю, ни Арто не изменили своему Тексту, честно доведя его, а значит и свою жизнь, до трагического конца; представители психоделии, напротив, заигрывают с суррогатами и поэтому так или иначе меняют свою же собственную радикальную логику. Отсюда очевидность силы, глубины, вневременности персоналий абсурда, и наличность приходящего, несамодостаточного, поверхностного характера произведений творцов психоделии. Доходит до печального парадокса - в связи с эсхатологией наркотизма, отношение авторов-психоделиков к суррогатам неизбежно меняется на 180˚, в результате чего стал уже типичным следующий сюжет их жизнетворчества: «апология суррогатов и саморазрушение – кризис – лечение – критика суррогатов и забота о себе (варианты: воцерковление, членство в Greenpeace, Обществе по запрету противопехотных мин или Обществе защиты животных)». В противном случае, после кризиса вместо лечения неизбежно наступает деградация и смерть. Послесловие 2007 года: Настоящая статья была написана зимой 2006 года, до премьеры фильма П.Лунгина «Остров» с Мамоновым в главной роли, но уже тогда, как явствует из содержания статьи, было очевидно, что религиозный дискурс – это одна из неизбежных форм трансформации психоделии. Поэтому творческая эволюция Мамонова от группы «Звуки Му» и апологии суррогатов – к образу (и облику) православного аскета весьма неслучайна: второе является непосредственным продолжением первого. Примечания 242 Материалы международной конференции 1. Наиболее известным противником такого размежевания является организация ECAD (European Cities Against Drugs – Европейские Города Против Наркотиков). 2. По меткому замечанию А.Е.Радеева, наркотизм во второй половине XX века дорос до статуса культуры. С этим утверждением сложно не согласиться, так же как сложно не заметить её связь, вплетение в другие культурные пространства. В совокупности с исчезновением иерархии этико-эстетических ценностей и растущей наркоэпидемией сей факт побуждает часть критиков наркокультуры к неадекватным попыткам «запретить всё»: любые упоминания о суррогатах, а так же, как следствие, все виды творчества, не согласующиеся с пресловутым «здравым смыслом». При такой постановке вопроса и особенно при неопределённости самого понятия «здравый смысл» борьба с наркотиками становится уже спором о сущности искусства и занимает антипросвещенческую позицию. 3. См. об этом: Глоцер В. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс. М., 2000. С.43. 4. Жорж Батай «Антонен Арто» // «Сюрреализм день за днём». 5. Троицкий А.К. Поп-лексикон. АСК-интерпринт, 1990. С.80-81. 6. Мамонов П.Н. Простые вещи (аудиоальбом). 1988 // Шуба-дуба блюз. 7. Там же. Бутылка водки. 8. Там же. Красный чёрт. 9. Глоцер В. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс. М., 2000. С.63. 10. Хармс Д.И. ПСС, т.1. СПб., 1999. С.33-34. 11. Знаменательно, что в период создания фильма «The Wall» и позже сами Pink Floyd точно вписались в критикуемую ими ранее рациональнокапиталистическую систему и продолжали культивировать психоделические мифы, видимо, из финансовой целесообразности или творческого догматизма. 12. По поводу социальности, психофизического (или даже нравственного) здоровья и законности как психоделии, так и абсурда ситуация в XX веке была изменчивой и неоднородной: Хармс, как известно, официально был детским писателем, но в годы государственного террора был репрессирован; Камю наоборот – в годы увлечения левыми идеями и оккупации Франции был вне закона, но позже был номинирован на Нобелевскую премию; с представителями психоделии всё было проще: они были асоциальны ровно до тех пор, пока не стали собирать большие залы, то есть пока не социализировались посредством рыночных механизмов. 13. Жена Хармса вспоминает: «Даня был странный. Трудно, наверное, было быть странным больше. Я думаю, он слишком глубоко вошёл в ту роль, которую себе создал». Глоцер В. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс. М., 2000. С.52. Сергеева О.В. 242 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 243 кандидат социологических наук, доцент Волгоград Домашняя библиотека сегодня: массовое и элитарное в книгособирательстве и чтении современного горожанина Отношение человека к книге концентрирует в себе две установки – распознавание книги как «источника знаний» и видение книги как вещи. Обе эти роли книга исполняет для человека в разные эпохи по-разному, и если вопрос о динамике образа книги как источника знаний в современном «компьютерном» мире поднимается и обсуждается активно, то изменение отношения к книге как артефакту не часто становится предметом рефлексии. По нашему мнению, наблюдение материальных характеристик книги и статуса книги в повседневности позволяет сформулировать ряд идей в целом о тенденциях развития современной культуры. Однажды в поезде проводник под конец моего суточного путешествия в его вагоне, обратив внимание на то, что я постоянно читаю книгу, спросил: «Что Вы читаете?». После моего ответа он высказал своё мнение: «А я – не люблю читать! Чего хорошего?» Тут уже я заинтересовалась такой откровенностью: «А что у Вас книг дома вообще нет?» На что проводник ответил: «Да нет, ну, почему? Есть. Раньше когда книги дефицитом были, я их покупал. Пушкин там, и другие… Дети учились. Читали. А сейчас зачем книги?» После этого разговора я встретила проницательные идеи Б.В.Дубина о нетекстовых свойствах книги, о книге в роли маркера социального статуса: «Как мнемонические значки предписанных типовых ситуаций социального взаимодействия книги – подчёркнуто нетронутые – и собираются аристократией. Характерно, что они объединяются при этом в ансамбли с другими подобными атрибутами сословного образа жизни – охотничьими и военными трофеями, утварью, платьем. …Подчеркнём, что собственно коммуникативные характеристики печатного текста при этом приглушались или даже вовсе гасились его встроенностью в статусную обстановку, в том числе роскошными переплётами, привлекающими преимущественное внимание к «внешности», во-первых, и включающими книгу в ансамбль символических атрибутов роскошного убранства (мебель, обои, шпалеры и т.д.), во-вторых»[1]. Случай в поезде и взгляд известного учёного подталкивали к размышлению о бытовании книги в её вещевом измерении. Постепенно оформилась идея о том, что многое о книге и чтении в нашем актуальном сейчас (это «сейчас» имеет разные имена - «информационное общество», «цифровая эпоха», «век компьютерных технологий» и т.д. и т.п.) можно понять, иссле- 244 Материалы международной конференции дуя домашнюю библиотеку современного горожанина. Практика поддержания домашней библиотеки в отличие от практики чтения ориентирована не только на символические ресурсы книги, но и на оперирование книгой как вещью. И если сегодня социальные знания и информация могут сохраняться и воспроизводиться на других некнижных носителях (книга как транслятор текстов культуры теряет свою монополию), то, что происходит с отношением человека к артефактным особенностям книги? Сохраняет ли книга своё значение как особый текст на бумаге, доступ к которому со стороны читателя – прямой, не требующий средств для воспроизводства? Как изменяется «ниша» книги в жизни человека? В течение 2007 года нами проводилось социологическое исследование домашних библиотек у жителей Волгограда. Метод сбора информации – свободное интервью. Выборка формировалась методом «снежного кома», но было сделано несколько «входов в поле»: вход через знакомых и соседей, и вход через 2 городские школы, а дальше мы переходили от информанта к информанту по рекомендации уже опрошенных людей. При этом выбор делался только среди семей с детьми, и отбирались случаи – «кто имеет дома книги», а также - «у кого книг дома нет». Было опрошено 17 семей. Знакомые нам люди не опрашивались, они лишь были теми «проводниками», кто вводил нас в семью. В итоге наблюдения домашних библиотек мы предлагаем модель, фиксирующую 3 типа ситуаций: первый тип «книги в доме – часть жизни семьи», второй тип «книги в доме есть», третий тип «дом без книг». Интересно, что проранжированные таким образом книжные собрания, связаны с особым типом рассказа информанта. Ситуации интервью, в которых «книги – часть жизни семьи», демонстрируют живое изложение разнообразных воспоминаний, у рассказчика много идей, он лидирует в беседе, часто совсем не ждёт вопросов от исследователя. На другом полюсе – ситуация общения с информантом из «дома без книг», в которых постоянно возникает заминка о предмете разговора, много повторений уже однажды сказанных фраз. Можно сказать, что в одном случае разговор о книге – это естественный процесс, в другом – редкая, «экстремальная» практика. История домашней библиотеки и описание её фонда – такова одна из категорий, позволяющая сделать «восхождение к теории» изучаемого явления. Семьи, владеющие книжными собраниями, демонстрируют историю и источники развития своей библиотеки (согласно принципу сохранения анонимности все имена информантов изменены). Откуда книги в доме? Группа «книги в доме – часть жизни семьи» Информанты Владимир и Оксана: «Ну, вот эта библиотека и досталась в наследство. То есть в наследство достались книги художественные. Можно так сказать – большинство художественных книг. Художественные исторические, гуманитарные. … Мемуарные… А сами уже докупали книги. 244 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 245 Профессиональные, по специальности или связанные с хобби какими-то. По спорту. Для детей». Информанты Валентин и Марина: «Системной библиотеки у нас нет. Это первое. Мы никогда не собирали собрания сочинений. Что-то осталось от родителей, после 50-х, когда подписки были безлимитные, имеется в виду Чехов, Ж. Верн, Горький, Маяковский и т. д.». Группа «книги в доме есть» Информант Алина: «Это моей мамы коллекция. …Вообще, это я, когда поступила на филфак, стала коллекционировать. …И что-то из списанных библиотечных. В школе я работала в библиотеке. Были поездки в Москву, Ленинград, там приобретала книги». Информанты Андрей и Екатерина: «Покупать покупала, в основном, мать. Она покупать старалась больше такую, школьную программу. Обязательно у нас было собрание сочинений… Изначально, когда ещё родители были в здравии,… договаривалась ещё с родителями: мне ни ковров не надо, ни гаража не надо, я возьму посуду, и я возьму книги. Ковры мама своим волевым решением поделила. Но у неё было два «пунктика» по жизни… На одежду и еду у нас как-то не особо уходило. В основном - на книги и на ковры». Какие книги есть в доме? Группа «книги в доме – часть жизни семьи» Информанты Владимир и Оксана: «Ну, у нас так: у нас – несколько зон есть в библиотеке… Некоторые зоны стали постоянными, они не трогаются. Некоторые зоны такие вот мобильные. Ну, вот, например, эта часть, так называемая библиотека, она практически не трогается. Там она собрана бабушкой и дедушкой, там они все очень систематизированы. Есть картотека. То есть там – отдельно русская литература, советская литература, отдельно стоит мировая классика, отдельно книги исторические стоят, отдельно шахматы, ну, и так далее. Практически не трогается, как стояло, так и стоит. Там только можно дать кому-то почитать, если кто-то не вернёт, там образуется дырка». Информанты Валентин и Марина: «…Системности в нашей библиотеке нет. Это плохо, конечно, но, с другой стороны, здесь нет ни одной книжки, которая мной была бы не прочитана или, хотя бы, не пролистана. Нет такой книжки! У меня чтение было бессистемное. Пресса. Туда-сюда нырял в другие книжки. Увлечение, которое с институтской поры, допустим – искусство. «Зарубеж» тогда был запретный. Авиация. Автомобили. Кинематограф. Практически, вот вся эта полка – кинематограф. Энциклопедические словари. Серия была, «Города мира» называлась. Вот - «Нью-Йорк». Вот – Булгаков. Это – декабристы. Вот там стоит ещё подборка книг – «Искусство», очень хорошая. Ефимов, Родченко. Я Ремарка очень люблю. Я его перечитываю. У меня 11 книжек есть. Вот – стихи. …Вот – самолёты, автомобили. 246 Материалы международной конференции А вот дочери комната. Здесь тоже всё загружено. Вот те книги, ещё родительские: Гоголь, Тургенев, Бальзак, Блок, Чехов, Грин. …У нас даже книг макулатурной серии нет. Сколько книг? Не знаю… около 3 – 4 тысяч». Группа «книги в доме есть» Информант Алина: «У меня и по искусству, и по языкознанию, литературоведению интересы были. Из художественных делала акцент на детские, потому что – женщина, думала о будущих детях». Информант Инна: «Книги мы формируем по принципу следующему: наша библиотека – это, в основном, словари. Если посмотреть, то это всё словари, словари, справочные издания. …У ребёнка точно таким же образом оборудована её книжная коллекция, то есть, это – словари или любимые книги. Вот мне муж подарил собрание сочинений Бальзака. Обожаю «Человеческую комедию». Любимые книги – это детективы. Это К. Дойль. Тоже приобреталось вместе. В 90-е гг. был приобретён почти весь Джеймс Хэдли Чейз. И стихи. Стихи – практически вот из неработающих изданий, я бы сказала. Это вот подписка, мамин любимый Маяковский. Бабушкин любимый Тургенев. А остальное – и Высоцкий, и Сельвинский, и Лермонтов, и словарей огромный блок – он весь работает. … Журнал «Радио» читается постоянно, им у нас забито почти всё. У нас есть подписка, по-моему, за 25 лет. … Потому что это мужа профессия». Книги приходят в дом как семейное наследство, и это общая характеристика для всех семей, владеющих большой или маленькой библиотекой. Однако есть, по-нашему мнению, ключевое отличие, разделяющее домашние книжные собрания, прежде всего, не количественно, а качественно. В одном случае книги просто любят, в другом случае от них ожидают выполнения работы. Слова «работа», «польза», «программа» являются индикаторами утилитарных мотивов содержания и развития своей библиотеки. Причём в рассказах встречается пояснение: «Польза не обязательно должна быть практическая…. Польза может быть хотя бы эмоциональная. Вот в том же плане книга «Русские цари». Я когда брала её в руки, совершенно не было мысли, что мы будем писать реферат или что-то. Это просто был кайф от того, что это такое издание – богатое, информационное, красочное, яркое. Это кайф от того, что ты просто обладаешь этой книгой». Любовь и привязанность к книге не подвержена установке определять ценность «привлекательной внешностью» издания. Для людей, воспроизводящих модель отношений с книгой по принципу «книги в доме – часть жизни семьи», книга является естественным элементом реальности, без которого эта реальность изменится, будет не столь привычной. В этом случае книга может быть собеседником, источником необходимых знаний, средством отдыха, «окном» в другой мир, памятью о близких, данью интеллектуальной моде и ещё много чем. Всем. Потому что её смысл для человека не ограничен рам- 246 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 247 ками конкретных ожиданий. Как прозвучало в одном из интервью – если ктото книгу не вернёт «там образуется дырка». Процесс чтения: как это бывает – следующая важная категория анализа. Мы представляем идеи информантов из всех трёх групп, за которыми стоят выделенные нами типы домашних библиотек. Как читают? Когда читают? Группа «книги в доме – часть жизни семьи» Информанты Владимир и Оксана: «В нашей семье читать любят все. И иногда читать – больше, чем общаться. Потому что…я считаю, что общаться сложнее, чем читать. …Я бы сказала так «читают с удовольствием». Причём бывает так, что перечитывают одну и ту же книжку много раз. …У меня бывает, я могу перечитать через некоторое время. У ребёнка глаза «вот такие!». «Мама, ты что, не помнишь?» У него был такой ужас, что мама потеряла память или что-то ещё… Есть даже такое выражение – «зачит». «Зачит» - это когда начинаешь читать и не можешь остановиться. Папа говорит «всё, маму не трогать, у мамы «зачит». Я (говорит Владимир) читаю по дороге на работу, по дороге с работы. Целый час. Периодику в бумажном виде я не читаю. Интернет у нас на работе есть, новостной сайт – прямо-таки минут 15 перед работой. Пореже - перед сном. Иногда тоже «зачит» начинается. Саша (сын 16 лет) с пяти до шести, когда он научился читать. С шести он уже научился и до школы он уже читал. С хорошей скоростью, нормально читал. Миша – младший (сын 13 лет), и потому он во всём тянется за старшим. Здесь как-то проблемы не было, он как-то сам научился». Информанты Валентин и Марина: «Как мы детей своих к чтению приобщали? Личным примером!» Группа «книги в доме есть» Информант Инна: «Я читаю либо на работе свою литературу, либо перед сном ту литературу, которая греет… Муж «помешан» на компьютерах и свободного времени у него не бывает. То есть, если у человека есть досуг, он включает машину, он с ней общается, он с ней разговаривает. Карты, нарды. Он сидит в интернете…То есть в соседней комнате стоит компьютер, и он – там. Муж читает газеты. Он любит газеты. … Журнал «Радио». Алёна (дочь, 13 лет) практически не читает. …Она учится на «отлично». Вот седьмой класс закончили. …Читает она только, когда что-то задаётся. Правда, ласточка у нас свершилась первая… Она животных обожает… Она собралась и прочитала «Белый Бим чёрное ухо». Прикоснулась по собственной инициативе. … Почему я ей читаю? Так она, конечно, читает сама всё, что задают. Вот «Тараса Бульбу» Гоголя проходили в этот год. … А вообще те люди, которые формируют школьную программу… Как это может прочитать ребёнок с его уровнем…В дни отпуска мы много читаем, вот сидим перед сном». 248 Материалы международной конференции Информант Алина: «У меня свободное время в выходные бывает, а вечером я кружусь на кухне, то с уроками… На работе бывают минуты свободные, я там читаю. Начинали дети (дочь 7 лет, сын 5 лет), наверное, со стихов. …Дочь стала читать самостоятельно поздно. Алфавит стала в 5 лет учить, и там… гдето через год только стала читать. И читает по слогам, поэтому может ей стихи и легче читать. Сама не сядет за рассказ». Группа «дом без книг» Информант Аня: «Дети вообще сейчас не читают. Что касается программы, слава Богу, ему задают – он читает (о старшем сыне, 13 лет). А так – только специальную литературу, компьютеры. Не упросишь и не уговоришь. Мы взрослому книги особо не покупаем, у нас у мамы очень много книг. Очень хорошая библиотека. Даже это не читает. … У нас досуга очень мало, потому что у нас школа такая. … Компьютер мы вообще из дома ликвидировали. Если есть компьютер, сын у нас «фанатеет». … Мы говорим перед сном «почитай». Нет, он сядет, журналами обложится компьютерными. Наш папа любит перед телевизором посидеть. У старшего – тоже телевизор и компьютер. Я сама люблю почитать, но скорее, не художественную литературу, а что-то специальное. …Когда ребёнок был маленький, я упиралась на всякого рода такую литературу, потом заболел – больше опиралась на медицинскую литературу, потом цветами занималась, значит - про цветы». Информант Людмила Степановна: «Ну, а насчёт внука (внук 6,5 лет), никак не привили мы ему вот такое чтение. Мы, значит, читали ему, ну, гдето с возраста 3-х лет, не раньше. …Можно сказать, я покупала очень мало книжек… В основном у нас – от внуков сестры, книжек привезли «кучу». Он их…, в основном смотрел картинки. Начну читать… и всё «баб, хватит, я побежал». Отличие в практиках домашнего чтения заключается, по нашим наблюдениям, в ординарности либо исключительности процесса чтения. В семьях, где со всеми домочадцами без исключения случается, по образному выражению одного из информантов, «зачит», проблемы передачи традиции «быть читателем» нет. И наоборот – утилитарное чтение «для профессии» или нечтение родителей, бабушек, дедушек вообще создаёт ситуацию, в которой детям сложно получить удовольствие от книги. Книга в этом случае воспринимается, как необходимый учебник, а время, которое ей надо отводить – как повинность. Родители в этом случае часто формируют «объяснительную идеологию»: «все современные дети мало читают», «мешает компьютер», «мешает телевизор», «в школе - большая нагрузка». Говоря о массовых и элитарных паттернах в практике чтения и книгособирательства, можно подчеркнуть общую тенденцию к смещению (или исчезно- 248 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 249 вению) границ между образом жизни в ритме массовой культуры и культурных практиках, характеризующих элиту. Ценность домашней библиотеки как естественной среды жизни распространена, по нашим эмпирическим материалам, среди тех социальных групп, для представителей которых постоянно покупать книги, значит чувствительно уменьшать семейный бюджет. Те же, чей доход позволяет создавать и поддерживать домашнюю библиотеку, не оценивают книгу как элемент престижного стиля жизни. Большой телевизор, еженедельный глянцевый журнал, даже занятия английским для детей – это то, что входит в набор «лучшего, элитного», а коллекция книг такой ассоциации не вызывает. Велико влияние технологии «промоушена» (promotion) на взаимоотношения человека и книги. Примеры известны: вовлечение в акцию приобретения романов о Гарри Поттере или серии, издаваемой «Комсомольской правдой». Феномен экранизации также - как представляется – работает по законам индустриализации книжной культуры. Домашняя библиотека – это традиция, она продолжается, если родители способны на «зачит», эта традиция зависит и от популяризации слов, которые были в стихотворении на последних страницах старых букварей. Помните? «Как хорошо уметь читать…». Но это идея для другого исследования. Примечания 1. Дубин Б.В. Книга и дом (К социологии книгособирательства) // Слово – письмо – литература: очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С.54. Работа подготовлена при поддержке гранта РГНФ и Администрации Волгоградской области № 07-03-20308 а/В Сидоров А.М. кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербург Идентичность в обществе потребления Теоретики, исследующие культуру последних десятилетий, все чаще обращаются к совокупности связанных генетически и структурно феноменов, выявляющих сущностные аспекты перехода от классических форм организации социальных и культурных практик к современным и постсовременным. Среди этих феноменов – поглощение реального иллюзионистским эффектом зеркальной игры образов, утрата экзистенциального в эстетическом, проникновение искусственности в само средоточие существования, головокружительное умножение медиа-коммуникаций, циркуляция знаков в бесконечном рассеивании симулятивных подобий, разрушение референциальной глубины 250 Материалы международной конференции представления, «товарный вид», приобретаемый всем существующим. Близость этих феноменов эстетическому опыту создания артефактов позволяет говорить о распространении эстетического по всему жизненному пространству современности, об эстетизации мира. Неслучайно категория эстетического появляется в конце ХVIII века, когда реальность начинает во все большей степени восприниматься стремящимся к автономии и в результате утрачивающим онтологическую укорененность человеком Просвещения в модусе «как если бы» и исчезновение мира начинает компенсироваться его творческим вымыслом. Именно тогда искусство становится «эстетическим искусством» (О.Марквард), то есть не подражанием действительности, а ее преображением, фиктивным восполнением утрачиваемой реальности. Этот процесс сегодня завершается взаимозаменяемостью фикции и реальности, упразднением дистанции между реальным и воображаемым. Начавшееся с эпохи Просвещения движение западной культуры от гетерономии к автономии привело к тому, что на смену жесткой иерархии идентичностей, вписывавших человека в онтологический порядок и предписывающих ему набор обязанностей, принадлежащих человеку не случайно, а составляющих часть его сущности, приходит подвижная модель «рефлексивной идентичности» (Э.Гидденс), когда Я не имеет необходимого социального содержания и необходимой идентичности, а может становиться кем угодно, принимать любую точку зрения, поскольку в себе и для себя оно совершенно пусто. Отказ от классической метафизики и разрыв с традицией привел к динамическому восприятию изменчивости мира и изменчивости культуры и человека. Большой Другой, устойчивый космологический и социальный порядок, сменился «чем-то другим» – рефлексивно поддерживаемым набором изменчивых и обновляющихся целей, намерений, имманентных смыслов. После «смерти Бога» иммобильная идентификация с Большим Другим уступает место «открытию инаковости» (Б.Вальденфельс), чувству возможности, благодаря которому после распада единого порядка, охватывающего Космос и общество, открываются альтернативные формы жизни, множественность порядков с подвижными и переменчивыми границами. Но высвобождение множественности порядков, также как и пустотность готового к любым изменениям Я таят в себе угрозы – случайность, хаотичность, аномия в обществе, и скука, ностальгия по принадлежности к чему-то объемлющему в душе индивида. Реальность, онтологическая устойчивость теряются в мире умножающихся возможностей, и эта пугающая утрата вызывает к жизни различные формы компенсации, возмещения, относящиеся к сфере воображаемого. Современный тип социальной жизни сложился в результате разрыва с традиционными нерефлексивными способами организации общества, которые формируют у людей, находящихся под властью традиции, восприятие существующего положения вещей как естественного. Главная функция традиции заключается в предоставлении людям гарантий онтологической безопасности. Нормативное содержание традиции приобретает обязывающую 250 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 251 моральную и эмоциональную силу вследствие того, что человеческая судьба рассматривается на фоне всеобъемлющей религиозной космологии. Этот ритуальный элемент традиции обеспечивал целостность человеческой жизни – устойчивый иерархический набор идентификаций. В конечном итоге, эта целостность основана на подчинении власти более высокой, чем человеческая воля. Парадоксальным образом чувство онтологической безопасности возникало вследствие действия социальных механизмов, адаптирующих человека к фундаментальной амбивалентности мира, к примирению с неизбежной ограниченностью человеческих возможностей, с наличием невозможного и непредсказуемого. Общим местом в теориях современности стало описание процесса рефлексивного разрыва с традицией, исчезновения субстанциального ценностного единства традиции, объемлющего мир, жизнь и общество, как стремление к господству над миром посредством роста знания и расширения возможностей человека с тем, чтобы покончить с властью случайного и амбивалентного, с властью судьбы, подчиняющей себе людей. Это означает, что с самого начала современность была движима утопией порядка, устанавливаемого волей человека. С одной стороны, прирученные традицией амбивалентность и случайность высвободились и стали проблемой для критической мысли, которую не устраивала уже ссылка на божественное предопределение, с другой – эти хаотические силы были восприняты как угроза, и первоочередной стала задача искусственного восстановления исчезнувшего порядка. Задачи современного государства и притязания современной философии совпадали в преследовании этой утопической цели – обуздании хаоса при помощи искусственно конструируемого порядка. Так начался процесс, названный М.Вебером «расколдовыванием мира», процесс демифологизации, высвобождения рациональной секулярной культуры из распадающейся религиозной картины мира. Человеческая воля, смирявшаяся прежде перед амбивалентностью мира, теперь получает высшие полномочия автономии, ее целью становится создание и поддержание рационального порядка и подавление всего дуального, двусмысленного как в политической, так и в интеллектуальной сферах. Субъективная воля к присвоению покрывает обманчивыми слоями «реальности» конститутивную антиномичность Реального. Утопия гармонии, подобно сновидению, травестирующему изначальную травму, отвечает за удовлетворение желаний, то есть, за избегание встречи с невозможным. Этот утопическая греза функционирует как идеологическое неузнавание, отрицающее сущностную ограниченность процессов воображаемой или символической интеграции. Главный дефект власти воображаемого над знанием, моралью и политикой заключается в использовании тотализирующих фигур, скрывающих антиномичность и конфликтность опыта. Вследствие этого история современности приобретает характер навязчивого перманентного процесса «освобождения» человека и мира от противоречий, от хаотичности и амбивалентности, но, поскольку такая цель 252 Материалы международной конференции принципиально недостижима, этот процесс превратился в принудительную реализацию симулятивного мира. По существу этот процесс «расколдовывания» основывался не столько на самом разуме, сколько на вере в разум, поскольку движение рационализации всегда отбрасывает тень «неразумия», неустранимое наличие которой делало обещания прогрессивного упорядочивания мира невыполнимыми. Поскольку Иное разума всегда лишь вытеснялось, но не побеждалось, «сопротивление материала» привело к крушению идей демистификации и прогресса. Таким образом, современность изначально двигалась к своим границам, была заряжена энергией самоотрицания, в силу принципиальной невозможности постулировавшихся ею условий возможности человеческого существования. Тем не менее, это самоотрицание современности, которое часто описывается как постмодерн – состояние, завершающее модерн и порывающее с ним, скорее следует представить в виде продолжающейся радикализации и завершения модерна – уже «по ту сторону» истории современности. Переход от общества производства к обществу воспроизводства и потребления, изобретение нового способа господства, который отличается тем, что заменяет подавление соблазном, власть — рекламой, навязывание нормы — созданием потребностей (З.Бауман), был логическим развитием процесса экспансии субъективности, беспрепятственного развития воли-к-присвоению, которая во все большей степени превращала реальность в артефакт и подчиняла власти воображаемого онтологию, эпистемологию, этику и политику. По поводу эстетизации политики достаточно вспомнить работы В.Беньямина, Ф.ЛакуЛабарта или Б.Гройса – в них проанализирована внутренняя логика западной мысли, приводящая к проекту эстетической организации жизни, так что воля к власти – воля к формированию человеческого сообщества – истолковывается по аналогии с волей художника, преодолевающего сопротивление материала. Этот проект эстетической – подчиненной власти воображаемого - организации жизни привел к эстетизации самой реальности. Мышление модерна подчинялось логике поэтапной дереализации, то есть поначалу ставило реальность в зависимость от человеческой субъективности (мир объектов в обществе производства), а затем, в эпоху позднего модерна, и вовсе утратило «чувство реальности», запутавшись в фантасмагорическом переплетении «образов реального» (мир товаров в обществе потребления). Понимать ли переход к современности как исчезновение порядка (Х.Блюменберг) – точнее было бы говорить о смене квази-естественного ценностного порядка традиции проектом искусственного порядка, проектом Просвещения, который после, не преодолев сопротивления сил «неразумия», вызвал распад западного мира на множество переменчивых порядков с подвижными границами - или как упразднение дистанции между реальным и воображаемым (Ж.Бодрийяр) – результатом был подрыв доверия к принципу репрезентации. Принцип репрезентации, конститутивный для западной мысли, предполагает, что образ, представление соотносится с реальностью, 252 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 253 указывает на нее, а для этого должна быть возможность сохранить это понятие реальности независимым от человеческого воображения и конструирования. Поскольку в фантомном, симулятивном мире масс-медиа и товаров принцип реальности подвергся эрозии, это привело к тому, что эстетические категории – видимость, разнообразие, изменчивость, беспочвенность – в метафизическую эпоху казавшиеся ущербными по сравнению с объективностью бытия и точностью его отражения в знании, стали характеристиками самой истины. Практика насильственной унификации жизни во имя рационального порядка, характерная для государств Нового времени требовала эффективного контроля, слежки и телесной муштры (тема, подробно раскрытая М.Фуко и З.Бауманом). Эти универсалистские устремления породили отношение к «нерациональным» формам жизни как к пластичным и податливым, как к послушному материалу, предназначенному для централизованного целенаправленного регулирования. Формирование капитализма было связано с потребностью в контроле и нормализации, при этом забота об эффективности производства (в самом широком смысле – товаров, людей, отношений), установка на податливость реальности ставила перед властью и знанием (властьюзнанием) проблемы из области эстетической практики. Аспекты жизни, рассматривавшиеся как такой «художественный» материал для рационального формирования (направленного к фантазматической цели господства и обладания) получили название «культуры», а цель этого окультуривания описывалась как прогресс – единый процесс совершенствования, просвещения, эмансипации человечества. Но «диалектика Просвещения» была такова, что, с одной стороны, этот процесс достиг успеха – реальность учреждается сообществом, – но, с другой стороны, он перестал быть единым. Кризис идеи единой истории и идеи прогресса, вызванный сопротивлением «неразумия», высвобождение множества культур и картин мира, безграничное увеличение информационных и коммуникативных возможностей – весь этот плюралистический взрыв в обществе масс-медиа привел к тому, что эстетизация мира совпала с его необратимой фрагментаризацией, с умножением картин мира, за которыми сам «мир» уже не различим. В других терминах, но, следуя похожей логике, описывает этот процесс А.Рено в работе «Эра индивида» – как переход от субъективизма, то есть идеи автономии, гуманизма к индивидуализму – идее независимости от любых ограничений и, как следствие, отрицанию общезначимых норм, десоциализации, нигилизму. Но при этом вряд ли стоит соглашаться с его попыткой спасти ценность проекта автономии, представляя индивидуализм патологическим искажением философии субъекта, которое отнюдь не было единственной возможностью выхода из распадающегося традиционного общества. История субъективизма – это история нигилизма; «исчезновение трансценденции», плюрализация, превращение реальности в артефакт были 254 Материалы международной конференции неизбежными, хотя и непредвиденными следствиями рефлексивного разложения традиций с целью достижения автономии. Рефлексивное разложение традиции привело к прорыву экзистенциальной тревоги перед хаосом неупорядоченности. Победа разума породила свое иное – высвобождение угрожающих неконтролируемых сил случайности и амбивалентности. Современность можно рассматривать как обреченную на неудачу попытку рациональности избавиться от собственной тени – демонического неразумия, возместить исчезновение порядка рефлексивными способами. В своей освободительной войне за независимость разум последовательно разрушал мир явлений, редуцируя амбивалентность к эквивалентности (Ж.Бодрийяр), насилием интерпретаций тщетно пытаясь вернуть утраченное чувство онтологической безопасности. Cовременный город стал центром навязывания порядка (закона) миру случайного. Если в философии модерна упразднение амбивалентности означает лишение полномочий всех философски неконтролируемых оснований знания, то в социальной жизни это означает активный надзор или репрессию, депортацию или сегрегацию чужих, заполнение пустот в законе и т.д.(З.Бауман). Поэтому город ХIХ века был городом производства (как материального создания искусственного мира, так и – в более широком смысле – принудительного создания упорядоченной реальности смысла на месте разрушенного мира явлений), но и городом угрожающей аномии, конфликта, безумия, насилия, классовой борьбы и революций. Неустранимость существования дефектных двойников разума указывало на продвижение проекта современности к своим границам. Фланер, описанный В.Беньямином, праздный искатель удовольствий, бесцельно блуждающий по городу, предвосхищает всеобщую эстетизацию реальности в постсовременности, продвижение от общества производства к обществу потребления. Мир фланера гетеротропен по отношению к упорядоченному социальному пространству города, это эстетическое игровое пространство, преобразующее серьезность закона в правила игры. Фланер – пассивный созерцатель – был прообразом потенциально соблазняемого покупателя. Над миром репрессии надстраивается мир соблазна, воспринимаемого как свобода. При этом общество потребления характеризуется исчезновением той самой рефлексии, с которой начался проект современности. В эстетизированном мире, где исчезает различие между образом и реальностью, человек потребления не в состоянии дистанцироваться от своих потребностей. Когда реальность уже не может считаться чем-то более реальным, чем то, что ее симулирует, мир произведенного модерном смысла начинает так же последовательно разрушаться, как когда-то разрушался мир явлений. Постмодерн – фаза самоотрицания модерна, результат принципиальной невозможности выдвинутых современностью условий возможности осмысленности жизни. Отождествление потребления со свободой – идеологическая видимость, поскольку потребление в 254 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 255 постсовременном мире – это не удовольствие, а общественная повинность, через обессиливающий эстетический соблазн вовлекающая людей в воспроизводство социальной системы. В условиях экономической диктатуры сфера приватного овеществляется, идеологический Другой вторгается в основания интимной жизни. Если Р.Сеннет сетовал на тиранию интимности в современном городе, вытесняющую публичные формы жизни, то необходимо добавить – распространяясь за свои пределы, интимность становится внешней, превращается в «экстимность» (С.Жижек). Внешнее подвергается принудительному усвоению, внутреннее – столь же принудительному овнешнению. Атмосфера промискуитета различий в больших городах вызывает либо хроническое безразличие, либо реактивную бепредметную ненависть и холодную жестокость (Ж.Бодрийяр), в отличие от целенаправленного и страстного насилия эпохи модерна, вызванного конфликтностью и борьбой с угнетением. Неразличимость границ внутреннего и внешнего, зыбкость личных идентичностей означает конец эпохи субъекта, превратившегося в пустую форму, экран для немедленного, не подлежащего дистанцированию, восприятия внешних воздействий. Идеология персонализации, распространяемая медиа, представляет собой производство симулятивных идентичностей-манекенов, для развешивания знаков и отличий «системы вещей». В классической философии духа идентичность была основана на внутреннем противоречии, дистанцировании, рефлексии, способности находить в себе иное. В современной культуре процесс «вирусной метонимии», описанный Бодрийяром – процесс всеобщего смешения и заражения, трансэстетики, трансэкономики, трансполитики, транссексуальности сливающихся в универсальном процессе случайного и бессмысленного рассеивания, при котором ни отстранение, ни оценка уже невозможны – превратил индивида в клона, неспособного ни быть собой, ни рефлексивно дистанцироваться от себя и от воспринимаемого, а идентичность – в симуляцию несуществующих различий. Слесарева И.В. Саранск Молодежная клубная культура: противостояние элитарного и массового Вопрос о том, что такое современная клубная культура, требует серьезного анализа тех явлений, которые лишь с недавнего времени стали атрибутами молодежной жизни в России. Теоретических изысканий о феномене клубной культуры в России практически нет, однако этот термин стал достаточно расхожим, поскольку современная действительность, современная мода, стиль диктуют определен- 256 Материалы международной конференции ные правила организации жизненного пространства, и различного рода клубы становятся его неотъемлемой частью. Анализируя противоречивые точки зрения на явление клаббинга, можно отметить, что клубная культура появилась и функционирует как пограничное явление массовой и элитарной культур. Именно на примере клубной культуры можно рассмотреть соотношение и взаимопроникновение массовой и элитарной культуры. Термины «массовая культура» и «элитарная культура» укоренились в научной среде с середины прошлого века. Введение в научный обиход понятий элитарная и массовая культура обусловлено, как это отмечают исследователи, спецификой информационного общества. То, что раньше считалось достоянием элиты, небольшой группы людей, занимающих высокое положение, и определялось их уровнем интеллектуальной и духовной культуры, то в ХХ веке начинает тиражироваться и приобретать характер всеобщности. Проблема выделения элитарного и массового сознания и их опредмечивание в особых формах деятельности и культуре была обозначена в трудах Х.Ортега-и-Гассета, А.Тойнби и других, отмечавших дифференцированность интеллектуальной элиты и её ответственность за содержание массового сознания и судеб культуры. Идеи Франкфуртской школы нашли воплощение в теории Г.Маркузе и Т.Адорно о «двойном измерении высокой культуры», в которой рассматривалась движение элитарного сознания к целям творческого самовыражения и создания ценностей культуры и искусства. Содержание понятия элитарной культуры варьируются от простого этимологического анализа и формулы «искусство для искусства» до «субкультуры привилегированных групп общества, характеризующейся принципиальной закрытостью, духовным аристократизмом и ценностно-смысловой самодостаточностью». Массовую культуру характеризуют как результат постиндустриального общества, качественно новый феномен, принципиально отличающийся от совокупности традиционных форм функционирования культуры и общества. Массовая культура явилась результатом целого ряда взаимосвязанных закономерных с точки зрения развития общества процессов. Помимо урбанизации, которая привела к кризису традиционной культуры и разрыву патриархальных связей между отдельными личностями и поколениями, демократических процессов в обществе и доступности образования и знаний как таковых, глобальные информационные потоки и открытость всех систем и социальных групп привели к тому, что массовая культура окончательно утвердилась в жизни общества. Так, исследователь Найдорф М.И. пишет: «Массовость как своеобразная уравненность людей разного положения, образованности, достатка и т. д. обнаруживается в самых разных сторонах современной цивилизации – в характере потребностей, политических, спортивных и т. д. симпатий. Практически все граждане являются покупателями в магазинах, владельцами акций и вкладчиками банков, субъектами избирательного права. В современной цивилизации выживает и развивается то, что получает широкую, массовую 256 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 257 поддержку платежеспособного спроса. Слово «массовый» стало одним из ключевых для современной культуры. Не только «оружие массового поражения», но и «массовое производство» и «массовое потребление», «массовое образование», «массовые зрелища» и «массовые гуляния» – вот характерные примеры современного словоупотребления»[1]. Культурные ценности в связи с этим утрачивают характер элитарности, они, напротив, становятся тиражируемыми и доступными всем, независимо от уровня образования, социального статуса; утрачивается личность человека. Сама культура становиться чем-то заранее приготовленным - fast food, без учета вкусов и приоритетов каждого субъекта культуры, она перестает восприниматься как результат деятельности человека, его внутреннего мира, желаний и переживаний, его достижений и притязаний. Однако в противопоставлении массовой и элитарной культуры заложены условия развития культуры в целом: в авангарде нередко оказываются не только и не столько элитарные экспериментальные направления, сколько высшие достижения массовой культуры. Клубная культура, по мнению автора, является тем феноменом, в котором сочетаются элементы массового и элитарного: с одной стороны, клубы возникли как пространство для встреч по интересам – начиная от питейных заведений и заканчивая клубами любителей русской словесности; с другой стороны, они объединяют небольшие группы людей, которые отгораживаются от остальных, создавая свое внутренне пространство. Первые клубы, как сообщества людей, объеденных одной идеей и общими интересами, появились в Англии. Так, К. Новиков в статье «Чисто английское безумство» отмечает, что знаменитые английские клубы и их уклад изначально формировались стихийно и отличались простонародностью: «Английский клуб вошел в историю как место, где молчаливые джентльмены в безупречных смокингах меланхолично курят трубки или, усевшись в кожаных креслах, читают вечернюю газету «Times»[2]. Р.Портер в книге «Происхождение и история Английских клубов» пишет: «Граждане могли выбирать из более чем двадцати различных типов обществ, от обеденных клубов до клубов религиозных, литературных, медицинских, музыкальных, масонских и благотворительных…»[3]. «Особенности клубной жизни – соблюдение известных формальных правил поведения, гостеприимство, скрепляемое неизбежной в мужской компании выпивкой, – все это помогало человеку найти свое место, делало его личностью, самобытной, а в тяжелые минуты члены клуба могли рассчитывать на дружескую поддержку…»[3]. Если в XVIII начале XIX века клубы были основой социальной динамики и культурного обмена, то к середине XIX века «из инструмента социальной мобильности, каким они были в XVIII веке, клубы превратились в бастион элитарной замкнутости, как только Британия превратилась из колыбели технического прогресса в консервативную хозяйку бескрайних колониальных владений»[4]. Затем мода распространилась в других странах, однако зача- 258 Материалы международной конференции стую клубы носили название английских. Так, например, Английский клуб в Москве имеет двухсотлетнюю историю. Исследование феномена клубной культуры проводятся не только за рубежом, но и в России. Клубы как уникальное социокультурное явление неоднократно привлекали к себе внимание социологов, историков, искусствоведов, культурологов, публицистов. В работе А.В.Буторова «Московский Английский клуб. Страницы истории», изданной в 1999 году, представлено серьезное исследование истории Английского клуба в Москве, жизнеописание его прежних членов и, одновременно, рассказ о современном состоянии клуба[5]. В советское время клубная культура рассматривалась в контексте идеологии и проблем воспитания молодежи. Клубы как учреждения формировали досуговую сферу и предоставляли дополнительные возможности для образования и общения. Феномен клубной культуры рассматривался в практических целях, раскрывалась технология социально-клубной работы с подростковыми и молодежными коллективами. Классическими работами по социологии клубного пространства стали учебно-методические пособия А.И.Лучанкина и А.А.Сняцкого, изданные в Екатеринбурге[6]. Современное понимание клубов и сами современные клубы существенно изменились. В настоящее время понятие клуб приобрело иное значение. Клуб для молодежи это не только «общественная организация, добровольно объединяющая группы людей в целях общения, связанного с политическими, научными, художественными, спортивными и другими интересами, но зачастую коммерческое заведение для совместного отдыха и развлечений. Термины «клубная культура» и «клаббинг» стали часто использоваться в научной литературе благодаря информационным потокам в СМИ и Интернет. Они используются в различных контекстах в культурологических и социологических работах как понятия с ясным содержанием и четко очерченным объемом. На самом деле на сегодняшний день существует проблема определения данных понятий. На основе анализа различных текстов можно сделать следующие обобщения контекстуальных определений клубной культуры и клаббинга. Основной анализ клубной культуры осуществляется в СМИ и Интернет. Если просмотреть Интернет-форумы, то, как правило, понятия «клаббинг» и «клубная культура» соотносятся следующим образом: клубная культура – это все, что связано с жизнью ночных музыкальных клубов, – антураж, стили музыки, работа диджеев и т.д.; клаббинг – это определенный образ жизни, когда большая часть свободного времени посвящается посещению клубов. Если понимать под клаббингом – стиль жизни, то необходимо ответить на вопрос, из чего он складывается, какие социальные и культурные факторы влияют на возникновение клаббинга? Обратимся к сайтам о клубной культуре. Первое, на что обращаешь внимание, это сообщения о наркотиках как основном атрибуте клаббинга. Оче- 258 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 259 видно, клаббинг как стиль жизни предполагает не просто свободу, а раскрепощенность поведения, намеренное нарушение норм. На сайте h t t p : / / w w w . u fa c l u b l i f e . r u / в статье «Клаббинг в поиске себя» можно прочитать: «Клубная жизнь затягивает, поглощает, отнимает энергию – взамен отдавая нечто большее, чем положительные эмоции. Она отдает вам – самих себя. Клубная жизнь столь же неосмысленна и неуправляема, сколько бесконечно гармонична и закономерна – в своей импульсивности и страстном сочетании музыки, движения и света…». Основу клубной культуры, клубной жизни составляет музыка. На сайте одного из ночных клубов (h t t p : / / w w w . d j p a r t yz a n . r u / h o m e / 2 0 0 7 / 0 3 / 1 1 / h o me _ 9 8 . h t m l ) можно прочитать: «В основу положена идея о том, что клубная культура всегда была шире, чем только музыка. Но при этом музыка всегда оставалась ее главной составляющей». Общение становиться главным аспектом клубной жизнь, именно оно определяет успешность любого клубного проекта. В клубах возникает некое единство людей, у которых существуют общие интересы, проблемы, ценности, особая атмосфера. Статус клуба в первую очередь зависит от его востребованности. Главное в ночном клубе вовсе не шикарный интерьер или бар с большим выбором напитков, а особая атмосфера. Клубная жизнь, стиль клаббинга – это своего рода празднество карнавального типа, когда под маской или необычной, эксцентричной одеждой или поведением раскрепощается глубинное «Я» человека. Шутовская одежда, несвойственная в обычных условиях речь, действия позволяют раскрыться. У М.М.Бахтина находим: «Итак, в этом отношении карнавал был не художественной театрально-зрелищной формой, а как бы реальной (но временной) формой самой жизни, которую не просто разыгрывали, а которой жили почти на самом деле (на срок карнавала). Реальная форма жизни является здесь одновременно и ее возрожденной идеальной формой»[7]. Таким образом, клубная культура является результатом современного противостояния массовой и элитарной культур, обусловлена развитием общественных, экономических и политических отношений, стимулирующих индивидуализм и деструктивность. Термин клубная культура является многозначным и используется в научной и публицистической литературе в различных контекстах, причем немаловажным является тот факт, что нет единогласного мнения среди исследователей на феномен молодежной клубной культуры. Основаниями и факторами, обусловившими развитие клубной культуры являются объективные процессы глобализации, стирающие возможность культурного своеобразия и различий, а потому стимулирующие появление стремления в молодежной среде к объединению на основе модных увлечений и интересов: музыки, неформального общения, наркотиков, алкоголя, секса, раскрепощенности. Клубная культура возникает как вполне закономерная ответная реакция на современные нравственные и социальные 260 Материалы международной конференции нормы и правила, лишающие человека свободы действий и поступков. Поэтому клубная культура является фактором карнавализации жизни, когда в условиях раскрепощенности и временной вседозволенности, совершаются действия, запрещаемые в обычных условиях. И, наконец, клубная культура и клаббинг, как определенный образ жизни, строятся на ценности свободы и общения, при котором человек теряет свою индивидуальность, приобретая возможность измениться, стать другим, социализироваться. Примечания 1. Найдорф М.И. Введение в теорию культуры: Основные понятия культурологии // h t t p : / / w w w . c o u n t r i e s . r u / l i b r a r y/ t h e o r y/ n a i d o r f_ t h e o r y/ p a r t 1 0 . h t m 2. Новиков К.Чисто английское безумство // h t t p : / / w w w . l a n gu s t . r u / n e w s / 0 4 _ 1 0 _ 0 5 . s h t ml 3. Peter Clark. British Clubs and Societies C.1580-1800. Oxford University Press, 2000. 4. Новиков К.Чисто английское безумство // h t t p : / / w w w . l a n gu s t . r u / n e w s / 0 4 _ 1 0 _ 0 5 . s h t ml 5. Буторов А.А. «Московский Английский клуб. Страницы истории». М., 1999. 6. Лучанкин А.И., Сняцкий А.А. Социально-клубная работа с молодежью: проблемы и подходы / А.И.Лучанкин, А.А.Сняцкий; Рос. акад. наук. Ин-т философии и права. Ин-т культур.-образоват. технологий. [2-е изд.]. Екатеринбург. Ч. 1-2. В 2 кн., 2001. 7. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса // h t t p : / / w w w . gu m e r . i n fo / b i b l i o t e k_ B u ks / C u l t u r e / B a h t / i n t r o . p h p Соколова Н.Л. кандидат философских наук Самара Популярное искусство и «конец» эстетического опыта: взгляд с позиций неопрагматизма Несмотря на то, что сегодня исследователи отказались от упрощенного понимания популярного искусства, признание его эстетического потенциала до сих пор остается проблематичным. Само словосочетание «популярная эстетика» воспринимается как оксюморон, поскольку понятие «эстетика» продолжает ассоциироваться главным образом с «высоким» искусством. Хотя эта монополия в последнее время была оспорена рядом исследователей, 260 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 261 все же преобладает другая позиция, в соответствии с которой популярное искусство находится за пределами эстетики и не может характеризоваться в эстетических категориях. Показательна позиция П.Бурдье, который, сочувствуя популярным потребностям в культуре, считал, тем не менее, что говорить об эстетике применительно к популярному искусству можно лишь условно. По его мнению, «популярная эстетика» просто служит в качестве «отрицательной референциальной точки» для того, чтобы собственно эстетика («чистая» эстетика) могла определить себя по контрасту с ней; что в некотором смысле нет никакого популярного искусства, а «популярная эстетика» является парадоксальным понятием, которое налагается доминирующим определением культуры[1]. Тем более заслуживающей внимания представляется проект эстетической «защиты» популярного искусства, предложенный в рамках философскоэстетической концепции Ричарда Шустермана. Интерес к теме популярной культуры для Шустермана не случаен, в его концепцию он вписывается органически. Шустерман продолжает линию Р.Рорти в последовательной критике аналитической философии и возрождении прагматизма, который разрабатывает как направление, репрезентирующего возвращение к утраченной традиции «практической философии». Целостное выражение оригинальная концепция Шустермана получила выражение в его наиболее известной книге «Pragmatist Aesthetics:Living Beauty, Rethinking Art»[2]. Несмотря на то, что понятие «эстетика прагматизма» может казаться парадоксальным (поскольку прагматизм обычно ассоциируется с идеей практики, в то время как эстетика, по контрасту, ассоциируется с отсутствием цели и незаинтересованностью), Шустерман намеренно останавливается на нем: он ставит задачу оспорить традиционную оппозицию «практическое/эстетическое» и освободить понятие эстетического от узкой трактовки, господство которой в современной культуре, по его мнению, обусловлено доминирующей философской идеологией. Именно с прагматизмом, по мнению Шустермана, связан ренессанс американской философии, хотя он в эстетике еще себя не проявил. Сравнивая аналитическую эстетику и эстетику прагматизма (которая репрезентируется Дьюи), последнюю он помещает между континентальной эстетикой и эстетикой аналитической. По Шустерману, герменевтика, постструктурализм и марксистская философия отчасти тождественны прагматизму в признании важности социально-исторического контекста, контекстуальности для анализа искусства и эстетического опыта. Как и для Дьюи, центральной для него выступает категория эстетического опыта. Недостатком аналитической эстетики Шустерман считает неоправданно узкое, по его мнению, понимание эстетического опыта[3]. Предметом его критики становится известный тезис (идущий еще от Гегеля и характерный для В.Беньямина, А.Данто, Д.Ваттимо и др.) о так называемом «конце искусства» и шире – о конце эстетического опыта. По его мнению, такой вывод является результатом принятой в современной философии трактовки эстети- 262 Материалы международной конференции ческого опыта и искусства, которое следует исключительно из «европейского» понимания развития культуры и соответствует эпохе «современности» (modernity). Однако, по мнению Шустермана, система категорий классической эстетики становится недостаточной, когда мы имеем дело с современной культурой. Расширенное толкование эстетического опыта осуществляется им, во-первых, через обоснование идеала эстетического «самоконструирования» (aesthetic self-fashioning), а во-вторых, эстетическую легитимацию популярной культуры. Обосновывая этический идеал эстетического «самоконструирования», или «эстетической жизни», он развивает идею «эстетик существования» М.Фуко; при этом он не принимает элитарного характера фукианской модели само-стилизации и связывает свою идею «эстетической жизни» с широким распространением практик стилизации жизни в современной культуре[4]. Задача эстетической легитимации популярного искусства задается, по мнению Шустермана, тем, что популярная эстетика органически включена в повседневность и составляет значительную часть современного эстетического опыта. Задача обоснования эстетики прагматизма включает, таким образом, две взаимосвязанные задачи: living beauty – обоснование возможности «жить эстетически», rethinking art – переосмыслить традиционное понимание искусства, создать теорию искусства, релевантную (пост)современности. Свою позицию в дискуссиях о популярном искусстве [5] он определяет как мелиоризм: признание серьезных недостатков, но также достоинств и потенциала популярного искусства. Перспектива мелиоризма состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на конкретных проблемах популярного искусства с целью способствовать более широким социальным реформам. По мнению Шустермана, пренебрежительно относиться к популярному искусству и отказываться от его эстетического анализа – значит оставить его во власти рынка. Шустерман критикует, с одной стороны, интеллектуалов, которые, продолжая линию философов Франкфуртской школы, видят в нем неаутентичную область «неподлинных» потребностей и примитивных развлечений. В частности, детально разбирая аргументы «против» популярного искусства, выдвигавшиеся такими известными критиками популярной культуры Л.Ловенталь, К.Гринберг, Э.ван ден Хааг, Д.Макдональд, он педантично показывает, что в современных условиях воспроизводить подобные аргументы, равно как и аргументы Адорно и Хоркхаймера, нет оснований. Он специально исследует вопрос о культуре перформанса и зрелища и показывает, что нацеленность на удовольствие и функциональность свойственны искусству в целом[6]. C другой стороны, Шустерман не преемлет позиции интеллектуалов, которые «сочувствуя» популярному искусству и признавая его социальное значение, полагают, что оно лишено какой-либо художественной или эстетической ценности и считают его эстетический анализ излишним. Так, он полемизирует с Г.Гэнсом, которому принадлежит одна из первых попыток систематической защиты популярной культуры[7]. Защита Гэнса 262 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 263 была основана на двух положениях: популярная культура отражает эстетические потребности; люди имеют право на культуру в соответствии со своими предпочтениями. Считая такую «социальную» защиту популярного искусства гуманной по своему характеру, Шустерман, тем не менее, не является ее сторонником. Он считает, что такая стратегия подменяет подлинную его защиту, поскольку, закрепляя миф о его эстетической бедности, ее сторонники сближаются с критиками, которым они пытаются противостоять. Он показывает, что негативные оценки, обычно выдвигаемые против популярного искусства (низкое качество, негативные последствия для высокой культуры, негативное воздействие на аудиторию, манипулирование и др.) на самом деле связаны с его предполагаемыми эстетическими недостатками[8]. Соглашаясь, что многие произведения популярного искусства консервативны по отношению к форме, он стремится показать, что популярная культура сегодня становится эстетически все более и более изощренной. Шустерман уверен, что эстетика больше не может определять себя через противопоставление популярной культуре; более того, сама дихотомия «высокое/низкое искусство» носит исторический характер и исчерпала себя. Интеллектуалы и критики этого часто не видят, так как, заранее допуская эстетическую бедность популярного искусства, они не склонны его серьезно анализировать. Шустерман считает, что возможно, единственный способ доказать обратное – детально проанализировать конкретные произведения. Сам он исследует музыку кантри, кино, но предметом специального анализа для него выступают рок-музыки и рэп. Отличительной чертой концепции Шустермана является то, что в защите популярного искусства он исходит из критики интеллектуализма. Критика интеллектуализма не означает анти-интеллектуализм. Интеллектуализм характеризуется им как представление, что все, что есть ценного в человеческом опыте, связано с интеллектуальным или когнитивным по природе. Следуя Дьюи с характерным для его эстетики «соматическим натурализмом», Шустерман критикует ситуацию «маргинализации телесного» в гуманитарных науках. Проектом Шустермана является обоснование концепции сомаэстетики (somaesthetics), которую он стремится обосновать в также качестве дисциплинарного проекта[9]. Сомаэстетика понимается им как исследование многообразного телесного опыта с акцентом на рассмотрении телесности как центра чувственно-эстетической оценки окружающего мира. Он акцентирует ценность непосредственного чувственного восприятия, поэтому актуальным для него является баумгартеновское понимание эстетики как науки о чувственном восприятии[10]. Предметом специального эстетического анализа является для него рок-музыка, в особенности, такая ее разновидность, как связанный с афро-американской культурой фанк-рок. Возражая, в частности, Т.Адорно, который «чувственную непосредственность рока характеризует негативно как суррогатное удовлетворение и пассивность» и считает, что соматический характер нашей реакции на рок лишает его эстетической леги- 264 Материалы международной конференции тимности[11], Шустерман подчеркивает, что эта ошибочная оценка рока связана с традиционным для западной философии, идущим еще от Платона, разделением соматической и интеллектуальной сфер. По его мнению, делигитимирующая критика рока, которая обычно осуществляется под знаком защиты «подлинного» эстетического удовлетворения, на самом деле является формой аскетического отказа: это один из многочисленных способов, которые интеллектуалы, начиная с Платона, использовали, чтобы подчинить непослушную власть и чувственные проявления эстетического. По его мнению, такие виды популярного искусства, как рок, в котором значительно соматическое измерения, предлагают радикально иную, нетрадиционную эстетику (имеющую к тому же корни в незападной цивилизации), поэтому неудивительно, что эстетическая легитимность такого искусства не признается большинством критиков, а его опыт игнорируется или характеризуется как отклонение от целей «истинного» искусства, то есть искусства, в котором превалирует интеллектуальное[12]. Он стремится показать, что популярное искусство не только может соответствовать важнейшим стандартам традиционной эстетики, но способно обогатить и даже наполнить новым смыслом понятие эстетического. Скурпулезно анализируя творчество «черных» рэперов, он находит в рэпе (который характеризует как «пост-постмодернистское популярное искусство») то, что обычно выделяют как характеристики «высокого» искусства: органическое единство, интертекстуальность, открытая текстовая полисемия, экспериментирование и внимание к выразительным средствам[13]. Важной для Шустермана оказалась полемика с Бурдье. С Бурдье он был лично знаком и много сделал для распространения его идей в США. Парадоксальность позиции Бурдье Шустерман видит в том, что, выявив скрытые интересы так называемой «незаинтересованной» эстетики высокой культуры, он, тем не менее, отказывается признать легитимность популярной эстетики. Шустерман подчеркивает, что в своих исследованиях он лишь закрепляет вывод, сделанный самим Бурдье о том, что искусство и эстетическое – это не универсальные, вечные сущности, а культурные продукты, самым тесным образом связанные с изменяющимися социально-историческими условиями. Он обращается к анализу американской культурной специфики (децентрализованная и более подвижная по сравнению с Европой социальная структура; эгалитарная идеология; отсутствие уникальной национальной традиции «высокой культуры»; плюрализм этнических культур; слабость института аристократии и церкви), показывая, почему именно в Америке популярное искусство расцвело и успешно бросало вызов монополии высокого искусства на эстетическую и культурную легитимность. С Бурдье Шустерман полемизирует также, рассматривая наиболее серьезные аргументы, которые выдвигаются против популярного искусства, – недостаток эстетической автономии и невнимание к форме, В частности, он полагает, что выводы Бурдье о «враждебности» популярного искусства формальному эстетическому экспе- 264 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 265 рименту не вполне корректны, так как форма и содержание у Бурдье оказываются противоположными, оторваными друг от друга[14]. Исследования Шустермана получили довольно широкий резонанс. Некоторые его положения оспариваются. В частности, его критикуют за чрезвычайно широкую трактовку эстетического опыта, за «разрыв» природного и социального в рассмотрении эстетического опыта и искусства, наконец, за то, что теоретическая легитимация популярного искусства может отвлечь внимание от его фактической нелигитимности. Однако установка Шустермана рассматривать популярное искусство, сосредотачиваясь как на проблемах формы и содержания (отсюда задача конкретного анализа конкретных произведений), так и на вопросах доступа, компетентности, природы и способов приобретения эстетического опыта, его анализ маргинальных художественных практик вызывают подлинный интерес. То, что анализ популярного искусства выступает для него не частной задачей, а условием концептуализации современной культуры, делает его исследования еще более значимыми. Примечания. 1. См.: Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, 1984. Р.41, 57, 395. 2. Shusterman R. Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art. Oxford, 2000 (2nd ed); к настоящему времени книга переведена на 12 языков. 3. См.: Shusterman R. The End of Art Experience // Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1999. № 55. P.29-41. 4. См.: Shusterman R. Postmodern Aestheticisim: A New Moral Philosophy? // Theory, Culture&Society. 1988. Vol. 5. P.337-355; Shusterman R. Self-Styling After the End of Art// Parachute. 2002. P.105-106. 5. Шустерман различает «популярное» и «массовое» искусство: характеризуя последнее как гомогенное, недифферинцированное целое, он популярное искусство ассоциирует с динамичным множеством различных, обладающих специфическим вкусом, социальных групп, которые серьезно отличаться от того, что считают гомогенной аудиторией «средних» американсцев. 6. Shusterman R. Entertainment: A Question for Aesthetics // British Journal of Aesthetics. Vol.43. № 3. Р.301-302. 7. См.: Gans Y.S. Popular Culture and High Culture. New York. Basic Books. 1999. P.28-68. 8. Shusterman R. Pragmatist Aesthetics …Р.173-177. 9. О концепции сомаэстетики см.: Shusterman R. Somaesthetics: A Disciplinary Proposal// Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1999. № 57. P.299-313; Shusterman R. Somaesthetics and Care of the Self: The Case of Foucault// Monist. 2000. Vol. 83. №. 4. Р. 530-551. 10. Shusterman R. The Aesthetic // Theory, Culture&Society. 2006. Vol. 23(2-3). P.239-240. 11. Shusterman R. Pragmatist Aesthetics …Р.186. 266 Материалы международной конференции 12. Там же. Р.183-184. 13. См.: Shusterman R. The Fine Art of Rap // Shusterman R. Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art. Oxford, 2000. Р. 201-236; Shusterman R. Art in action, Art Infraction: Goodman, Rap, Pragmatism (New Reality Mix)// Shusterman R. Practicing Philosophy: Pragmatism and Philosihpical Life. New York: Routledge. 1997. Р.131-156. 14. Cм.: Shusterman R. Pragmatist Aesthetics... Р.198-200. Более подробно о дискуссии Шустремана и Бурдье см.: Соколова Н.Л. Неопрагматистская критика концепции «популярного искусства» П.Бурдье//Философия. Общество. Культура: сб. статей, посвященный 70-летию профессора В.А.Конева. Самара: Изд-во «Самарский университет». 2007. С.328-340. Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 0703-00208а Суворов Н.Н. доктор философских наук, профессор Санкт-Петербург Элитарное и массовое: любовь и ненависть «…всякий врождённый порок лишь усугубляется от попыток скрыть его под личиной добродетели». Эразм Роттердамский. Похвала глупости. Природа интеллектуальной элиты и её воплощение в элитарной культуре сталкивается с трудностями теоретического определения, заключающимися в том, что субъект элитарного сознания осуществляет и определяет себя в процессе саморефлексии и не поддаётся объективации. Таким образом, исследование элитарного сознания выступает как самопознание, пронизанное субъективными пристрастиями. Массовое сознание, напротив, становится объектом исследования интеллектуала, поскольку неспособно к саморефлексии. Следовательно, исследователем как элитарного, так и массового сознания может быть только элитарный интеллектуал, пристрастный к результатам своего исследования. Процессы, происходящие в посткультуре, видоизменили взаимоотношения, как между различными социальными слоями, так и внутри этих слоёв. Социальные и экономические противоречия, соперничество, характерные для социума, постепенно вытесняются противоречиями культурного характера. Действительно, социально-экономические проблемы постепенно разрешаются и по мере развития посткультурных процессов превратятся со временем в исторические воспоминания. В обществе потребления главным стимулом и социальной активностью массового существования становится постоянное расширение сферы потребления материальных благ. Многообразие этих благ стимулирует активность, 266 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 267 которая, в свою очередь, направлена на разнообразное потребление. Способ потребления материальных и культурных ценностей и их выбор разделяет общество на массу и интеллектуальную элиту. Вся последующая перспектива культурного развития человечества обречена на постоянную и тотальную борьбу этих двух феноменальных образований. Разнообразие интеллектуальных занятий элиты определяет неоднородность строения интеллектуального слоя, его тягу к различным ценностным полюсам. Методом изучения элитарного сознания становится его морфологическое рассмотрение, то есть изучение строения в динамическом аспекте. Устойчивые «скопления ценностей» становятся центрами «притяжения» основных ориентаций элиты и формируют векторы специализаций. Сознание интеллектуальной элиты направляется двумя основными векторами: один действует от условного центра общества к его периферии – «воля к свободе», другой в обратном направлении – от периферии к центру – «воля к власти». Первый вектор, управляющий интеллектуальным сознанием, увлечен «центробежными силами». «Разбегаясь» от условного центра «социальной стабильности», который можно обозначить как устойчивую государственную структуру, эти силы обозначают устремленность интеллектуальной деятельности к свободе творчества – «воля к свободе». Действительно, творческий человек испытывает непреодолимое желание бесконтрольно мыслить и действовать, не подчиняться общепринятым шаблонам мышления и поведения, гарантом которых выступает государство. По словам С.Кьеркегора: интеллектуал осуществляет «возможность быть самим собой». Элитарный интеллектуал стремится отойти от канонов и «писаных правил», осуществить «переоценку всех ценностей». Исследования по психологии творчества анализируют громадный материал экстравагантного поведения творческих людей, постоянно стремящихся к «приросту свободы». Творец-интеллектуал стремится к внешней «бесконтрольности», справедливо рассматривая любой контроль как предел своей деятельности. «Свободная деятельность» становится главной целью и высшей наградой элитарного интеллектуала. Наиболее выразительное ее проявление обнаруживается в творчестве художника, внешне независимого от общественной среды, в выборе тем и способов своего художества. Между тем стремление к творческой независимости и оригинальности не только приводит к преодолению конформизма, давлению среды, но способно погрузить в среду маргинальности. Альтернативой стабильности массового человека выступает социальный протест интеллектуала. Жизнь «богемы», олицетворяющей «свободу и независимость» от социальной среды, по сути, граничит с примитивным люмпенством. Пределом свободы становится свободное фантазирование, уводящее от практической деятельности 268 Материалы международной конференции предпринимателя и систематичности учёного. Таким образом, первым пределом интеллектуальной элиты является «богемное существование», пропитанное избытком свободного творчества. Массовый человек остерегается интеллектуального маргинала, как и всего иного, несущего соблазн неустойчивого существования. В свою очередь интеллектуал испытывает презрение и ненависть к человеку массы, ограниченного пределами культурного шаблона, обречённого на повседневность. Второй вектор силового поля направлен от периферии к условному центру и может быть назван «центростремительным». Именно здесь, в административном центре общественной жизни интеллектуал стремится найти заслуженное почитание своему таланту и обрести славу. Элитарное эго направляется «волей к власти». Иными словами, в административном центре общества творческий человек мыслит занять высокое положение, соответствующее его идеальному предназначению, подобно тому, как управлением идеальным государством занимались философы Платона, близкие к Истине. Искомым законным местом выступает «высокий служебный пост», возвышающий над массой, а также над собратьями «по цеху», но налагающий ограничения на «свободную деятельность». Былое одиночество и свобода интеллектуала сменяются суетностью и зависимостью администратора. Теша свой эгоизм, бывший интеллектуал меняет свободу творчества на устойчивый социальный статус и превращается в представителя, так называемой «властной элиты», бюрократии. Он опутывается обязанностями, превращаясь в социального функционера, и постепенно утрачивает былую творческую квалификацию. Вторым пределом интеллектуальной элиты становится статус социального функционирования, «вхождение во власть». Таким образом, «центробежное» стремление к «свободному творчеству» способно привести интеллектуала к преодолению своего эго, растворению Я в творческом процессе, что, собственно, и происходило с великими художниками и учеными. В то время как «центростремительные» силы «воли к власти» ведут к утверждению эгоцентризма и эгоизма и постепенной утрате свободного творческого самовыражения. Награждение почетной синекурой – старый способ «приручения» Властью слишком вольного и «неуправляемого» интеллектуала. Поставленные интеллектуалом перед собой цели при их достижении парадоксальным образом оборачиваются «на наоборот». Творческий человек, забывающий о своем «Я», в процессе творчества его обретает, ощущая это субъективно — как наивысший подъем духовных и физических сил, но также и объективно, поскольку его имя и труды входят в корпус культурных достижений. Бюрократ, устремленный в административную работу, стремится к почету и уважению, но утрачивает главное, что у него было: способность к творчеству, становится конформистом «по должности». Тем самым он, теряя 268 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 269 свою самобытность и оригинальность, дополняет ряды массы, хотя и причисляет себя к властвующей элите. Таким образом, пограничными зонами морфологического строения интеллектуальной элиты выступает, с одной стороны, «властная элита» – бюрократия, а с другой стороны, «богема». Очевидно, что исключения из правил «превращений» интеллектуальной элиты всегда бывают, но они лишь подтверждают общие закономерности. Элитарное сознание рассматривается как интенциональное состояние сознания, отличающее узкий слой общества, основной деятельностью которого является творчество и переоценка ценностей. Неоднородность элитарного слоя является следствием неодинакового положения различных типов элиты. Элита подразделяется на типы по происхождению, по месту в общественной структуре, по степени социокультурного влияния и, самое главное, по степени участия в создании интеллектуальных ценностей. Границами элитарного сознания являются категориальные поля, на которые элита наталкивается как на преграду, поскольку в поле данных категорий нарушается сущность элитарности. Категориальные значения преобразуют природу элиты, заставляют выполнять иные, несвойственные ей функции. На периферии утрачивается сила консолидации внутри элитарного поля, происходит его эрозия, утрачивается сущность. Так, одной из таких категорий, ограничивающих статус элиты и преобразующей этот феномен своим силовым полем, является власть. Управленческий аппарат в социологической литературе принято называть «властная элита». Однако любопытно, что такой термин прижился в научной литературе и журналистике стран с поздно сформировавшейся интеллектуальной элитой или в культурах, где подобная элита была почти полностью уничтожена историческими катаклизмами, — к первой относятся США, ко второй – Россия. Отношения между интеллектуальной и властной элитами складываются сложно. Интеллектуалы, как правило, выступают оппонентами власти, которая, в свою очередь, также не доверяет творческой интеллигенции и ждет от нее опасной для себя критики. Несмотря на то, что в демократическом обществе власть подконтрольна, она, между тем, обнаруживает склонность к тоталитарным решениям, выступающим родовым свойством всякой власти. Оппозиция власти не исключает участие части интеллектуальной элиты во властных структурах, вбирающих в себя разного рода экспертов, специалистов, выдвинувшихся по административной лестнице. Таким образом, центростремительные силы (если называть власть условным центром), захватывают небольшую часть интеллектуальной элиты, постепенно превращая ее в бюрократическую номенклатуру. Однако граница между этими слоями проницаема. Складки воспоминаний управленца о 270 Материалы международной конференции былой «творческой вольнице» остаются высоким эталоном «качества жизни и картины мира». Иной границей интеллектуальной элиты становится люмпенство. К интеллектуальной элите может относиться часть социально опустившихся элементов. Обедневшие и спившиеся музыканты, актеры и художники оказываются на периферии своего социального слоя, сохраняя повадки людей творческих профессий. Близко к ним стоит, так называемая, «богема». Для богемной среды свойственна «ускользающая социальность», представители богемы склонны к мечтательности и способны на неожиданные поступки. В ХХ веке под «богемой» твердо закрепляется определение художественной интеллигенции, ведущей, как правило, сумеречный или ночной образ жизни, не имеющей твердых доходов и склонной к прозрачному и неопределенному толкованию общепринятых ценностей, — они приспособлены и к нищете и к роскоши. Одной из основных ценностей богема признает «свободу самовыражения», именуемую творчеством в любой сфере жизнедеятельности. Очевидно, что истинная творческая деятельность может быть возможна только на основе систематического умственного труда, вместе с тем новый оригинальный взгляд на природу вещей предполагает способность к свободной комбинации данных опыта и воображения. «Богемное» независимое существование может создавать предпосылки к нетрадиционному дискурсу и быть «питательной» средой для появления гениальности. Таким образом, иная пограничная среда интеллектуальной элиты имеет направленность от центра к периферии. Существует также третий сектор. С того момента, как интеллигенция превратилась в символический капитал, ее стало выгодно эксплуатировать. Ш.Моррас отметил, что у «людей, избравших своей профессией торговлю фантазиями», как правило, нет силы характера, и они легко превращаются в ходкий товар, на который всегда имеется спрос. Сама готовность быть таким интеллектуальным товаром на экономическом рынке составляет истинную угрозу интеллектуальной элите. Чем выше номинальное влияние элитарного интеллектуала и весомее его мнение в процессе оборота символического капитала, тем более он утрачивает подлинный авторитет и истинное уважение. Поскольку у большинства «пишущих» перо становится единственным средством заработка, постольку их тексты задаются потребностями и требованиями заказчиков. Престижность высшего образования стимулирует рост «интеллектуального пролетариата», стремящегося, в свою очередь, к созданию и приросту символического капитала. «Представитель Интеллигенции считается прислугой, да еще у подлых хозяев», – заключает Моррас. «Патриции будут заправлять делами, но в мысли будет царить поистине демократическое варварство. Таково будущее распределение обязанностей. Мечтателю, созерцателю место найдется лишь в том случае, если он принесет в жертву свою честь; посты, 270 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 271 слава, успех будут компенсировать ремесло шута»[1]. Таким образом, расширение онтологических границ способно нанести ущерб подлинной природе интеллектуальной элиты. Для развития интенсивного и продуктивного творчества в различных сферах необходимо культивировать – воспитывать и выращивать интеллектуальную элиту, оберегать её территорию от пагубного влияния массовой культуры. Примечания 1. Моррас Ш. Будущее интеллигенции. М., 2003. С.72. Тарасов А.Н. Липецк Переоценка ценностей в художественной культуре постмодернизма Вопрос о сущности постмодернистского типа художественной культуры вызывает пристальный интерес среди эстетиков, культурологов и искусствоведов. Можно выделить два основных направления в исследовании этого явления современной культуры – критики и апологеты. Первые полагают, что данный тип культуры является деструктивным по своей сути, способствуя потере у человека нравственных ориентиров и критериев[1]. Представители этого направления справедливо отмечают, что постмодернизм способствует «разрушению эстетического изнутри»[2]. Второе направление, которое явно доминирует как в отечественной эстетике, так и в зарубежной – апологетическое[3]. Представители этого направления наивно утверждают, что именно постмодернизм с его неприятием нормативности и иерархии эстетических категорий позволит понять сущность художественной культуры и описать её «размытое содержание»[4]. Однако многие исследователи искусства постмодернизма, как апологеты, так и критики, сходятся во мнении, что для художественной культуры постмодернизма характерна переоценка ценностей. В данной статье попытаемся выявить некоторые особенности переоценки художественных ценностей в искусстве постмодернизма. В самом общем смысле под ценностями следует понимать положительную или отрицательную значимость объектов окружающего мира для человека, общества в целом, определяемую не их свойствами самими по себе, а их вовлечённостью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений[5]. Говоря о проблеме существования искусства в условиях культуры постмодернизма один из теоретиков этой культуры Ж.-Ф.Лиотар, заявляет, что это период воображения и экспериментов, время сатиры. Исследователь провозглашает единственно великим ис- 272 Материалы международной конференции кусством пиротехнику – «бесполезное сжигание энергии радости»[6]. Главная характеристика такого искусства – интенсивность наслаждения. А целью современного художественного и научного творчества в условиях постмодернизма является разрушение внешних и внутренних границ в искусстве. Сравнивая этот посыл с традиционным искусством, следует признать, что в постмодернизме традиционные художественные ценности девальвируются, и происходит отказ от них. Характерный художественный образ постмодернистских художественных экспериментов – постоянная метаморфоза, т.е. превращение одних вещей, процессов, явлений в другие, предполагающее изменение в форме, виде или субстанции объекта, но включающее в себя также и постоянство, поскольку превращающийся объект не исчезает, а переходит в другую форму. Михаил Эпштейн даже изобрел постмодернистский троп – метаболу. Суть её состоит в том, что в ней нет разделения на прямой и переносный смыслы, а есть непрерывность перехода от одного к другому, «это образ двоящейся и вместе с тем единой реальности»[7]. Совершая такой постоянный, нескончаемый переход, постмодернистское искусство порывает с традицией и культурой прошлого. Постмодернисты призывают забыть прошлое, уйти от настоящего и перейти в мир «симулякров» [8]. Ярым сторонником такого перехода является Ж.Бодрийяр. Он предлагает пересмотреть содержание понятия «реальность» как исходной точки познания, предмета изучения, источника творческого вдохновения художника. С точки зрения постмодерниста, нет принципиальной разницы между научной теорией и художественным вымыслом. Поэзия – ничуть не менее эффективный способ проникновения в тайны мироздания, чем естественные науки. Для постмодернистского сознания характерно отождествление «метафизического» и «эстетического». С этой точки зрения, историк, к примеру, столь же вдохновенно сочиняет исторический текст, как поэт или драматург. Исторический труд, утверждают постмодернисты, это не более чем повествовательный нарратив, подчиняющийся тем же правилам риторики, что и художественная литература. Наиболее ярким примером переоценки художественных ценностей в постмодернизме является изобразительное искусство. Приведём несколько примеров[9]. Перформанс «Оккупация» А.Кифера. Автор разъезжает по разным архитектурным и природным ландшафтам и фотографируется на памятных местах, протянув руку в нацистском приветствии(!). Автор сделал снимки этого перформанса, причём сделаны они нечётко, в чёрно-белом изображении и с большого расстояния, так чтобы зритель не мог разобрать, то ли это старый снимок какого-то нациста, то ли современная игра с прошлым. Как видим, постмодернисты не гнушаются глумиться над историей. Историческую тематику, связанную со Второй мировой войной, Кифер продолжал в дальнейшем. При этом автор не стремился объяснить, зачем и против чего 272 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 273 (или за что) он агитирует и выступает. Оценивая «творчество» немецкого художника-постмодерниста следует признать, что он, как и многие его сподвижники стремится удивить окружающих, привлечь их внимание, завлекая шокирующими подробностями. Очевидно, что здравомыслящий человек выступит с осуждением перформанса А.Кифера «Оккупация». Никакой эстетической ценности это «творение» Кифера не несёт. Другой представитель художественной культуры постмодернизма Джефф Кунс в 1980 году, следуя принципам М.Дюшана, выставил на показ (как произведения искусства) готовые объекты – несколько штук моделей пылесосов в витрине. Однако Кунс видимо не знал, что когда в начале ХХ века Дюшан выставил «Колесо от велосипеда» и прочие «произведения искусства», сделал он это исключительно ради шутки, а многие последователи восприняли это всерьёз. Другой представитель Г.Хилл «протестует против действительности» множеством всевозможных инсталляций. В инсталляции «Крест» он строит алтарный образ, записывая на видео свои руки и ноги вовремя долгих блужданий по заброшенному острову недалеко от Нью-Йорка. Затем записи монтируются на экранах на стене таким образом, что между ними остаётся огромное пустое пространство. Хилл документально показывает мучения, сталкивает зрителя с живыми подробностями самоистязания (видны дрожащие от холода и тяжести руки, посиневшая кожа, затруднённое движение ног или ступня, чуть было не вывернувшаяся, когда обвешанный камерами автор поскользнулся, переходя вброд ручей). Для этой инсталляции, как и для многих постмодернистских арт-практик, характерно привлечение внимания зрителя шокирующими подробностями её создания. В последние 2 десятилетия активно развивается новая тенденция художественного постмодерна - аттракцион. Аттракцион представляет собой историзацию технологий, соединение новых функциональных приборов с абсурдными балаганными развлечениями. В отличие от классического модернизма, обнажающего функцию вещи как её суть, постмодернизм стремится скрыть функциональное назначение предмета под средневековыми или под иноземного происхождения штуковинами, своего рода стремление сделать «функциональный исторический винегрет». Аттракцион представляет собой очередную постмодернистскую игру, завлекающую (именно так) внимание зрителя всевозможными ошарашивающими подробностями. Выявляя причины переоценки ценностей в художественной культуре ХХ века в целом, и в постмодернизме в частности, исследователи называют 4 основных причины: 1.влияние научно-технического прогресса; 2.общая демократизация общества; 3.развитие систем массовой коммуникации; 4.стремление объективно оценить всю предшествующую социокультурную историю человечества. Эти явления безусловно характерны для современного общества. Однако нельзя забывать и о том, что наряду с постмодернистским искусством сегодня, и с авангардистским в течение всего ХХ века, су- 274 Материалы международной конференции ществовала и развивалась классическая традиция в художественной культуре. Поэтому художественная культура постмодернизма представляет собой не отражение произошедших изменений в истории ХХ века, а банальную игру с искусством, игру, которая является характернейшей чертой всей философии постмодернизма. В художественной культуре последней трети ХХ в. под агрессивным влиянием постмодернизма действительно произошла переоценка ценностей. Если раньше произведение искусства оценивалось с точки зрения эстетической ценности, значимости для воспитания, первостепенное значение приобретала катарсическая функция искусства, то теперь, в условиях постмодернизма, понятие «художественная ценность» отождествилось с понятием «коммерческая стоимость». Как справедливо отмечают авторы сборника «Маргинальное искусство», «само искусство приобретает характер производства потребительской ценности, и понятие «эстетическое» начинает коррелировать с понятием «коммерческое»[10]. Американский исследователь Дж.Сибрук приходит к ещё более печальному выводу: «бизнесом Америки стало искусство... Молодые люди, которым раньше не светило ничего, кроме скучной работы в офисе, теперь становятся рок-звёздами и авторами перформансов»[11]. Современное постмодернистское искусство больше не настраивает человека на оптимистический лад. Для большинства современных артефактов (именно так называются произведения художественной культуры в постмодернизме) характерна эмоциональная насыщенность, но достигается она за счёт введения шок-ценностей, призванных на короткий промежуток времени привлечь внимание зрителя, но затем этот эффект быстро исчезает. Это как в массовой культуре, когда надоедает одна игрушка и потребитель требует другую более яркую, чем прежняя. Необходима критическая оценка художественной культуры постмодернизма, поскольку пропаганда «переоценки» ценностей приводит к разрушению искусства, оно теряет эстетическую ценность, это искусство не может воспитывать, оно способно только размывать нравственные границы, разрушая, в конечном счёте, человека. Таким образом, справедливо говорить не о переоценке ценностей в художественной культуре ХХ века, а о пропаганде этой переоценки, активно проявившейся в последней трети ХХ века. А постмодернистский же тип художественной культуры представляет собой как раз средство этой пропаганды. Искусство постмодернизма, как справедливо отмечает Н.Б.Маньковская, «кажется слишком трудным и интеллектуальным интеллектуалам, но доступно дебилам, неграмотным, шизофреникам, сливающимся со всем, что течёт без цели»[12]. Это искусство активно позиционируется как новое, дающее свободу художнику и зрителю, но при этом тот же самый художник и зритель теряют критериальные границы интерпретации художественной культуры. А потому игра, плюрализм, эклектизм, решительный разрыв со 274 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 275 всей предшествующей художественной культурой стали доминирующими «художественными ценностями» современного искусства. Примечания 1. См., например: Гальцева Р. Борьба с Логосом. Современная философия на журнальных страницах // Новый мир. 1994. № 9; Кутырёв В.А. Экологический кризис, постмодернизм и культура // Вопросы философии. 1996. № 11; Малухин В. Пост без модернизма // Известия. 1991. 8 мая; Попков В.А. Эстетика и искусство на пороге XXI века: Сборник научных статей. Часть 2: Проблемы эстетики и художественной культуры. Липецк, 2006. 2. Цит. по: Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб, 2000. С.10. 3. См., например: Гройс Б. Новое в искусстве // Искусство кино. 1992. № 3; Курицын В. Книга о постмодернизме. Екатеринбург, 1992; Степанян С. Реализм как заключительная стадия постмодернизма // Знамя. 1992. № 9; Якимович А. Утраченная Аркадия и разорванный Орфей. Проблемы постмодернизма // Иностранная литература. 1994. № 1. 4. Пигулевский В.О. Неклассическая эстетика и современность // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1994. № 2. С. 76. 5. Ценность // Советский энциклопедический словарь. М., 1985. С. 1462. 6. Цит. по: Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 397. 7. Эпштейн М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX – XX веков. М., 1988. С.167. 8. См., например, Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999; Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 9. Примеры взяты из работы: Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб, 2007. 10. Маргинальное искусство. Сб. статей / Под ред. А.С. Мигунова. М., 1999. С.49. 11. Сибрук Дж. Nobrow: Культура маркетинга, маркетинг культуры. М., 2005. С.101. 12. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб, 2000. С.115. Трофимова Е.А. кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербург Образование взрослых в горизонте массовой культуры Образование взрослых может быть рассмотрено в горизонте массовой культуры как важный социокультурный институт развития человека и общества, как своеобразный механизм, стабилизирующий прогрессивнопоступательное возрождение России. 276 Материалы международной конференции Образование взрослых как социокультурный институт имеет государственно-общественную ценность, определяя ведущие принципы образовательной политики в интересах человека, общества, страны. Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере образования взрослых и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового развития. К числу основных современных тенденций мирового развития, обуславливающих существенные изменения в образовании взрослых как социокультурном институте, относятся: ускорение темпов развития общества и как следствие – необходимость подготовки людей к жизни в интенсивно меняющихся условиях; переход к постиндустриальному информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования планетарного, космического, ноосферного стиля мышления у российского гражданина; динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности; рост значения человеческого капитала, который в развитых странах составляет 7080 процентов национального богатства, что обуславливает интенсивное, непрерывное опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого населения. В ходе сложных трансформаций, происходящих в российском государстве в последние десятилетия, у русского человека надломлено чувство победителя, снижено чувство собственного достоинства, деструктивно смещены ценностные смыслы и субъектные ориентации. Поэтому в настоящее время актуальными и значимыми являются проблемы осмысления сущности взрослого человека в образовательном пространстве России, а также поиска путей повышения духовно-творческого потенциала российского общества и выявления социокультурных условий, способствующих позитивному развитию современного человека и общества в контексте образования взрослых как социокультурного института. Образовательное, научное и творческое достояние России дает видимые преимущества для создания конкурентоспособной экономики, основанной на интеллекте, новых знаниях и наукоемких технологиях. Такой экономики, где основным двигателем являются не темпы освоения природных ресурсов, а именно идеи, проекты, изобретения и способность человека в опережающем режиме внедрять их в повседневную жизнь. Для реализации такой стратегии уже подготовлена законодательная база и сформированы необходимые 276 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 277 структуры (проекты модернизации российского образования и национальный проект «Образование»). В настоящее время наблюдается недостаточно полное соответствие содержания образования взрослых характеру требований современного социума, а также несоответствие психологической и профессиональной готовности специалистов к этим изменениям. Все это привело к дефициту современных знаний и способов их актуализации, девальвации профессиональной и социальной значимости качественного образования, недостаточной профессиональной компетентности, усилению отчуждения человека от труда. В соответствии с этим наблюдается дестабилизация профессиональных коллективов, несформированность социального партнерства между ними, снижение качества жизни граждан, недостаточная удовлетворенность профессиональной деятельностью. Создание эффективной системы образования взрослых может и должно стать мощным шагом на пути построения гражданского общества, возрождения России, укрепления ее духовной энергии и международного престижа. Создание и реализация проектов в области культуры и образования, создание и упрочение в России социально ответственного бизнеса немыслимо без интеграции бизнеса, производства и образования, без консолидации научных, интеллектуальных, общественных сил. Образование взрослых как социокультурный институт развития общества и человека выступает механизмом консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространства страны, преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав человека, равноправия национальных культур и различных конфессий, ограничения социального неравенства. Актуальные вызовы современности заостряют вопрос о человеке будущего, переключают внимание исследователей в поле потенциальных возможностей человека. Разговор о человеке становится разговором о человеческом потенциале вообще и духовно-творческом потенциале в частности. В этом аспекте современную педагогику, андрагогику и философию образования можно позиционировать как источник снятия возрастных ограничений на развитие человека. Тогда само образование понимается как приумножение, усиление человеческого потенциала, как своеобразная победа над временем и возрастом. К доступности, распространенности, массовости образования призывали мыслители–гуманисты всех народов. Много таких призывов содержится в Учении Живой Этики: «Ни к чему лучшее скрывать отжившими словами, когда то же можно сказать понятнее для широких масс. Ведь знание не для избранных, но для всех!»[1]. В современном гуманитарном сознании идет пересмотр, трансформация, расширение понимания социокультурных оснований бытия в антропокосмические его основания. Именно онтологическибытийственная укорененность человека в космической беспредельности со- 278 Материалы международной конференции здает предпосылки для развертывания всего богатства универсальнотворческой природы человека, понимаемого как «Микрокосм», сконцентрировавший в себе в потенциальном состоянии все могущество и все силы Космоса. Человек проявляется в творчестве как некая монада, заключающая в себе качество беспредельности. Это понимание предполагает, что в процессе своего становления человек опирается не только на социальные условия своей жизни, но и на природно-космические истоки и потенциальные возможности. Философия творческого образования взрослых ориентирована на потенциально-виртуальную глубину человеческого бытия, находящегося внутри становления и самосовершенствования. Прав Г.С.Батищев, когда пишет: «По мере сосредоточения субъекта на более высоких уровнях своего бытия как восхождения к ним, ему раскрываются и более сложные, более глубокие уровни действительности и их небезразличие для него»[2]. Человеческий потенциал, как объект теоретического конструирования, является интегральным представлением о человеке и в то же время репрезентирует определенные человеческие качества. Человеческий потенциал может быть рассмотрен на уровне отдельно взятого человека, на уровне межличностных коммуникаций и глубинного общения, а также на уровне региона, страны и мира. Философам–космистам свойственно рассматривать человека на вселенском уровне, что в эпоху глобализма и нарастания экологической проблемы наполняет их воззрения особым смыслом. Ученик В.И.Вернадского Александр Евгеньевич Ферсман (1883-1945) обратил внимание на то, что «законы энтропии если не нарушаются, то во всяком случае замедляются процессами жизни»[3]. По мнению Валериана Николаевича Муравьева (1855-1932), стремящегося наметить «времяобразующие факторы» мира, реальное времяопределение осуществляется в трех больших сферах: в сфере генетики и евгеники, в области политики и в сфере производства новых продуктов. Продолжая его мысли, можно показать, что, непрерывное образование взрослых, понятое как модус бытия, модус жизни является своеобразной формой «времяудержания»[4]. Тема творчества значительно актуализируется проблемой научного потенциала России, объективными изменениями, происходящими в производительных силах страны (проблема укладов экономики). В развитых странах господствует пятый технологический уклад, связанный с массовым использованием компьютерной техники и технологий. Нарождающийся шестой технологический уклад является самым наукоемким из всех известных: он требует непрерывной интеграции всех взаимосвязанных процессов производства. Этот уклад «основан на непрерывном обновлении всего жизненного цикла продукции с учетом изменений ситуации на рынках в результате внедрения стандартов электронного описания “продукции”»[5]. В России мы видим столкновение двух тенденции: консервацию старых отживших укладов и тенденцию к переходу к пятому и шестому тех- 278 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 279 нологическим укладам. Современная экономическая ситуация должна привлечь внимание как к фундаментальным, так и к прикладным научным исследованиям, – к творчеству в научно-исследовательской сфере. Непрерывное образование взрослых способно стать важным фактором повышения духовно-творческого потенциала массовой культуры. Творчество глубинно связано с проблемой самореализации человека. Наряду с человеком мыслящим, познающим, верующим, ищущим, трудящимся, играющим место в размышлениях мыслителей занял человек творящий, человек мусический. Можно выделить несколько основных качеств, необходимых человекутворцу: трудолюбие, внимательное и творческое отношение к работе; самостоятельность, исполнительность, энергичность; знания и общая культура; интуиция и гибкость ума; планирование, опыт и организация работы; честность, требовательность к себе, уверенность. Человеческий и духовно-творческий потенциал, рассмотренный не в социально-мобилизационном ключе, а в континуальном поле возможностей – важнейший фактор развития современного общества, способ построения лучшего будущего. Формирование человеческого потенциала средствами образования является одним из способов работы с Будущим. Именно благодаря человеческому потенциалу появляются возможности осуществления процессов развития; появляются люди, способные к развитию собственных и общественных возможностей, принятию нестандартных решений по отношению к себе и к способам социальной организации. Для осуществления творческой деятельности необходим набор качеств личности, что в совокупности и представляет собой «творческий потенциал» личности. Это сложное, интегральное понятие, которое включает в себя природно-генетический, социально-личностный и логический компоненты, которые, с одной стороны, заложены в человеке генетически, с другой стороны, могут быть сформированы и развиты в течение жизни. Проявившийся в той или иной сфере деятельности «творческий потенциал» представляет собой «творческие способности» человека в конкретном виде деятельности. В процессе формирования и развития этих качеств личности необходимо учитывать особенности первичной и вторичной креативности. Первичная креативность предполагает достижение состояния «творческого озарения», «душевного подъёма», в результате которого могут появиться творческие идеи. Вторичная креативность требует доведения результата «творческого озарения» до стадии завершенного продукта творчества. На пути создания эффективной системы непрерывного образования взрослых можно предложить создание постоянно действующих межведомственных комбинатов переподготовки кадров, отражающих современную тенденцию к преодолению жестко дисциплинарных барьеров. Прообразом таких комбинатов могла бы служить модель бизнес-инкубатора. Создание подобных учреждений могло бы существенно облегчить и сделать более 280 Материалы международной конференции гибкой и пластичной саму систему непрерывного образования взрослых в нашей стране, наполнить ее энергией самообновления, модернизации и инноваций, не забывающей о вечно живой классике и здоровой консервативности. Междисциплинарность не может быть основана лишь на понятии «взаимодействие», но и предполагает выход на более высокий уровень – уровень синтеза. Необходимо подчеркнуть, что междисциплинарность как образ ментальной или/и практической деятельности, включающей обращение к нескольким областям активности, сталкивается с тем, что ей нет места в дисциплинарно организованном мире. (С.В.Чебанов). Тот же исследователь справедливо отмечает, что «существующий способ организации трудовой деятельности жестко и агрессивно противостоит самой идее междисциплинарных разработок»[6]. В активных поисках продуктивного мышления, т.е. способного к продуцированию оригинальных новых идей, сформировались понятия «вертикального» мышления, за которым закрепился эпитет нетворческого, и «бокового» («латерального») мышления. «Латеральное» мышление призвано не идти напролом, а искать смыслы и идеи как бы «около» изучаемой проблемы, в более широких областях и пространствах, сферах, на дисциплинарных границах и междисциплинарных перекрестках. Способность человека, исследователя, обучаемого мыслить широко, в разных направлениях получило название «дивергентного мышления». На современном этапе развития общества достаточно четко выражена потребность в специалистах, обладающих высоким уровнем развития творческого потенциала, умением системно решать различные задачи. Творчество, как важнейший механизм адаптации и инноватики можно рассматривать не только как профессиональную характеристику, но и как необходимое личностное качество, позволяющее человеку реализовываться в быстро меняющихся социальных условиях и ориентироваться во все более расширяющемся информационном и культурном поле. Успешность формирования гражданского общества в России в огромной мере зависит от того, насколько адекватно большинством ее граждан осмысливается принцип свободы. Очевидно, что общество и каждый ее член должны сознавать, что гражданская свобода связана не только с инициативой, но и с ответственностью мышления, компетентностью, образованностью, достоинством, соблюдением норм морали и нравственности. Поскольку свобода – не только природный и социальный феномен, но и духовнопсихологический, понимание ее ценности на первоначальном этапе формируется в процессе обучения и воспитания, в организованном процессе образования. Следует обратить внимание на кардинальную незрелость постсоветского человека по отношению к свободе. Свобода является именно сверхцелью: дать взрослому человеку как можно больше всего того, что позволит ему строить свою жизнь: любви, понимания, нравственных критериев, зна- 280 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 281 ний, опыта. Именно образование взрослых дает возможность воспитать терпимость к чужому мнению и иному стилю поведения, формирование инструментальных навыков коммуникации, и др. Одной из целей непрерывного профессионального образования взрослых является создание условий для формирования у человека способности нести личную ответственность не только за собственное благополучие и благополучие своей семьи, но и благополучие общества. Целью образования является не только формирование социальной мобильности и адаптации к быстро меняющимся условиям социокультурной среды в условиях реформирования общества, но и глубинной потребности к самосовершенствованию. Образование можно рассматривать также как важнейшую основу морального благополучия страны. Образование – важная составляющая структуры организации нашего государства. Именно образование взрослых дает России еще один важный стратегический шанс не только на достойный вход в новую экономику, но и на строительство новой культуры. В экономике XXI века не машина, а профессионально образованный человек будет составлять главную часть капитала любой фирмы. Непрерывное образование взрослых, рассмотренное в контексте горизонтов массовой культуры, способно повысить ее духовно-творческий потенциал. Но это станет возможным при соблюдении следующих выводов: 1. Существенное увеличение финансирования государственных образовательных программ для взрослого населения (увеличение финансирования не меньше, чем в три раза). 2. Обеспечить равный доступ взрослых к образованию на основе способностей, а не денег. 3. Образование взрослых должно стать массовым, фундаментальным, систематическим. 4. Поиск новых пластичных организационных форм, отвечающих вызовам современности: создание межведомственных комбинатов образования взрослых. 5. Переход к человекоориентированной парадигме образования. Примечания 1. Живая Этика. Братство. Часть 1. Фрагмент 10. 2. Батищев Г.С. Диалектика творчества. М. 1984. ИФ АН СССР. Деп. В ИНИОН 1 янв. 1984 №18609-84. С.123. 3. Ферсман А.Е. Избранные труды. Т.IV. М.,1958. С.508. 4. Муравьев В.Н. Овладение временем. Избранные философские и публицистические произведения. М., 1998. 5. Воронин Ю.М. Проблемы воспроизводства отечественного научного потенциала // Педагогика, 2003, №7. С.4. 282 Материалы международной конференции 6. Чебанов С.В. Типы междисциплинарности // Третья Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие»: Том III «Восток – Запад на берегах Невы». Часть II. СПб.:Рериховский центр СПбГУ, 2007. С.251-295. Усовская Э.А. кандидат культурологии, доцент Минск Поколение «Х» и постмодернистское сознание Кризис и абсурд часто рассматриваются как питательная среда постмодернизма. Не думаем, что постмодернистская чувствительность, повышенная ироничность и антилогоцентристский пафос представляют собой «симптом новой болезни цивилизации» (M.Jimenez): скорее, это остаточные явления переживания кризиса Новоевропейской парадигмы. Хотя, конечно, кризис несколько затянулся, перейдя в стадию самолюбования этим же кризисом. Упреки постмодернизма в эстетизации самораспада Западной цивилизации отчасти справедливы, как и то, что личность давно уже потеряла целостность и идентичность и теперь в эпоху afterпостмодернизма ищет пути возвращения самой к себе. В то же время, мало кто, всматриваясь в лики постмодернизма, видит в нем то, что заметил, скажем, Ж.Делез и отчасти Ж.Деррида – становление, движение, переходы, перетекание, формирование нового типа мировосприятия и мышления. Постмодернистский мир и не может быть ничем иным, нежели ризомой или являть собой лабиринт, ибо он рожден мозаичной, бриколлажной культурой. Более того, постмодернизм чрезвычайно разнообразен. Недаром еще Ч.Дженкс выделял в нем различные типы, или направления: метафизический, повествовательный, аллегорический, сентиментальный[1]. А в одном из последних исследований культуры постмодернистского типа французского исследователя, литературоведа М. Гонтара делается акцент на двух разноплановых течениях – «неоконсервативном» и «неогошистском». Первый связан с игровым возрождением поэтологических форм прошлого; второй – с концепцией децентрации и «смерти» субъекта[2]. Оказывается, не весь постмодернизм пропитан усталостью, скепсисом и ощущением абсурда – хочется и чего-то постоянного, выверенного временем, со здоровым оттенком. Может разочарование в идеалах великой контркультурной эпохи и вызвало эту тоску по нормальному. Разнообразие мнений и суждений о содержании и параметрах постмодернизма соответствует разнообразию эпохи постмодерна – обществу потребления, электронных коммуникаций, радикальных движений, глобальных социально-политических потрясений и т.д. Действительно, культурная ситуация второй половины ХХ в. уже давно перестала отвечать принципу единого стиля (впрочем, как и вся новейшая культура). Однако было бы наивно пола- 282 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 283 гать отсутствие точек соприкосновения между различными течениями, версиями постмодернизма и направлениями постмодерна, точно так же, как и отрицать наличие некого единого для «постмодернизмов» генетического принципа. В качестве последнего может выступать обостренная рефлексия, направленная на все и на вся – прошлое, будущее, настоящее, постмодернизм и модернизм, человека, культуру и культуры. Не апатия, а бегство, ускользание от однозначности, данности как незыблемости, боязнь стать и остановится – симптомы постмодернистского сознания. Перетекание, пересечение, переход друг в друга – это нечто иное, нежели радикальный эклектизм. Скорее, универсальный обмен между искусством и повседневностью, наукой и литературой; философское осмысление достижений квантовой физики, термодинамики, теории игр, то есть взаимопереход и взаимодействие различных областей жизни характерны для постмодернизма и его искусства. Не случайны поэтому сопоставления постмодернизма с барокко (оно тоже трактуется весьма расплывчато – как стиль в литературе и искусстве, как умонастроение, как целая эпоха) и отсылки к Б.Паскалю, увлеченность постмодернизма «барочной игрой зеркал и отражений, разрывающих все границы между областями»[3]. Постмодернистская чувствительность как главный интенциональный признак постмодернистского сознания стало кредо не только для художественного пространства, но и социальной среды. Политическая рефлексия 1960-х, столь актуальная для Западной Европы, особенно Франции, и США, на рубеже 1980 – 90-х гг. стала чрезвычайно значимой для перестроечной и постсоветской эпохи ряда теперь уже самостоятельных государств, а также тех, кто входил в ареал социалистической идеологической системы. На авансцене исторического театра появилось новое поколение, получившее немалое количество эпитетов, культовым из которых стало заявленное Коуплендом «Поколение «Х». «Х», или Гольф (в германской интерпретации), или так называемое разломанное поколение оказалось в эпицентре противоречий всей культуры Модерна: недоверие к ценностям «предков», понимание того, что жить нужно как-то по-другому переплелось с апатией и недоверием к новому будущему. Видимо, наиболее болезненным для рожденных на свет между 1965-1975 годами (то самое поколение Х) стал переход от одной картины мира к другой. В данном случае мы имеем в виду тот культурно-идеологический переворот, который был вызван развалом соцсистемы, активизацией региональных и локальных культур, разочарованием в контркультурном движении 1960-х. Впрочем, истерия по поводу апокалипсиса конца истории постепенно стала обыденной, повседневной: в конце 1970-х – 1980-ые ее описывают и исследуют. Рубеж 80 – 90-х, связанный со снятием «Великого противостояния» и ликвидацией Суперсистемы (термин Д.Затонского), к всеобщему благоденствию не привел – постмодернистское брожение умов, очередная волна рефлектирующего умонастроения охватили Запад и не-Запад. Как отмечает 284 Материалы международной конференции Е.В.Соколова, «идея обживания хаоса» вновь (как и в начале ХХ в.) становится актуальной. Правда, уже без чрезмерного энтузиазма, присущего наивным первопроходцам авангарда. На передний план выступает интерес исследователя, по возможности бесстрастно и объективно описывающего бездну за бездной, провал за провалом, тупик за тупиком»[4]. В то же время было бы несправедливо обвинять советско-постсоветское поколение в тотальном нежелании действовать, нежелании менять мир и себя. Запоздавший постмодернизм был воспринят им как альтернатива консервативному застою, а хаос перестройки как нельзя лучше лег на душу всетаки бунтарскому духу молодых рубежа 1980 – 1990-х. На советскопостсоветской почве «Х-мэны» не ощущали столь радикального разрыва с контркультурой шестидесятых, не забывая при этом о дистанции между собой и поколением отцов. Подчеркивать оппозиционность советским идеалам стало модно. Однако радикального разрыва с уходящей системой никогда до конца не происходило: постмодернистское сознание, умудряющееся соединять несоединимое, и здесь оставило след, во всяком случае, помогло примирить (как когда-то мечтали сторонники конвергенции) социалистическое и нечто похожее на капитализм. Теперь кумирами служили не образы и брэнды субкультуры хиппи, а роксимволы новой эпохи. Период, чрезвычайно насыщенный различного рода политическими событиями, национальной активностью, столь актуальной для бывших советских и лагерно-социалистических республик-государств, художественными метаниями и интенциями, как-то быстро стал идти на убыль. То ли грянувшая стабильность, то ли разочарование и «неголовокружение» от успехов, то ли нахлынувшая волна постмодернизмапостпостмодернизма с иронично-мудрым и усталым взором (все уже было) привела к подобному сворачиванию только развернувшегося альтернативного движения. Мощное национальное возрожденческое движение (в частности в Беларуси) пошло на убыль. Впрочем, «иксеры» в глубине души так и остались альтернативщиками. В художественно-интеллектуальной сфере они занялись бытописательством, фиксированием жизни и ее фактов с добросовестным соблюдением принципов жизнеподобия, спокойным выворачиванием наизнанку чувств и мыслей. Однако через нарративизм и иногда жуткую, но реальную правду просвечивается нерастраченный бунтарский пыл, искренняя боль за то, что было и стало (А. Федоренко «История болезни», «Бляха»). Постмодернистская ситуация остается по-прежнему актуальной, во всяком случае для Беларуси. Здесь она налагается на оппозиционноавангардную модель, собственно, и выдающую себя за постмодернизм и его сознание. В этом нет ничего необычного, ибо для Беларуси по-прежнему актуальным остается проблема выбора: состояние межвременья как постмодернистская ситуация есть ситуация, свойственная Беларуси. В данном отношении уместно привести иронично-точное изречение одного из интеллек- 284 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 285 туальных лидеров белорусского постмодернизма-авангарда А. Клинова: «Мы не европеизируемся, не русифицируемся, не советизируемся. Мы зависли в глубокой паузе, внезапно обнаружив, что мы есть и пытаемся мучительно осознать себя». Примечания 1. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985. С.45. 2. Пахсарьян Н.Т. Современный французский роман на путях преодоления эстетического кризиса // Постмодернизм: что дальше? Сб. науч. трудов. М.,2006. С.13. 3. Карцев И. Жиль Делез: Введение в постмодернизм. М., 2005. С.102. 4. Соколова. Е.В. Современная литература Германии: поиски выхода из постмодернизма // Постмодернизм: что дальше? М., 2006. С. 102. Устюгова Е.Н. доктор философских наук, профессор Санкт-Петербург «Потерянный рай», или человек в пространстве «между»… Существует много граней соотнесения понятий «элитарное» и «массовое»: социологический, коммуникативный, социально-психологический, даже экономический. Сейчас все больше говорят о конвергенции этих феноменов, об относительности такого противопоставления, особенно в искусстве постмодернизма. Осознание ценностного, смыслового, качественного различия этих феноменов и его критериев, на мой взгляд, необходимо, если эстетика хочет сохранить статус теоретической дисциплины, а не превратиться в культурологическое описание современной художественной практики. Отношение к данным явлениям должно исходить из трактовки гораздо более фундаментальных понятий, а именно и прежде всего того, в чем смысл искусства, каковы его функции по отношению к человеку, к культуре, обществу и как эти функции переосмыслялись в истории культуры и искусства. Изначально культура не делилась на серьезную и развлекательную, поскольку искусство не репрезентировало реальность, а было ее неотъемлемой частью в культурном пространстве архаического синкретизма. Здесь не было необходимости в передаче смыслов от тех, кто их творил, тому, кто должен был их воспринять. До тех пор, пока существовала «риторическая» культура, т.е. культура «готового слова», смысловая интеграция была необходимым базисом существования культуры. Традиция, канонический тип коммуникации обеспечивали неоспоримый и тотальный для каждого социо-культурного сообщества статус основного корпуса смыслового репертуара. Художественное произведение не продуцировало и сообщало, а воспроизводило, активизировало и тем самым утверждало общие и жизненно-важные смыслы, то 286 Материалы международной конференции есть служило важнейшей формой и способом осуществления идентификации и самоидентификации сообщества в целом и его участников, поэтому эстетическая и идейно-содержательная стороны искусства воспринимались в единстве, точнее одно через другое (еще Аристотель говорил, что искусство должно «поучать, развлекая»), но при этом никогда эстетическое не главенствовало, не считалось определяющим фактором художественной ценности. Так, например, стили в эту эпоху принадлежали установленному риторическому репертуару выражения определенных содержаний и не носили индивидуально значимой окраски. Таким образом, пока смыслы и формы их выражения не обладали субъектной принадлежностью, а считались достоянием универсума, традиции и всего сообщества, дифференциация культуры на элитарную и массовую не осознавалась как проблема. Хотя, конечно, и в это время существовало разделение на тех, кто владел «словом» и «безмолвствующим большинством», нуждавшимся в адаптированной подаче высоких смыслов. Эта проблема стала вырисовываться по мере вызревания в европейской культуре субъективного начала, как на уровне содержания, так и на уровне языка выражения. Сначала особую культурную значимость приобрела проблема индивидуального мастерства воплощения всеобщих высоких и незыблемых смыслов, а затем в эпоху классицизма встал вопрос о воспитательном воздействии искусства. И хотя, по-прежнему, было неоспоримым то, что искусство «служит» высоким целям, постепенно вызревала мысль, что его познавательная, идейная и эстетическая сторона могут разъединяться, что духовно-просветительской и эстетическая неутилитарная функции могут даже порой вступать в противоречие. На это указывал в «Салонах» Дидро, который, высказывая похвалы Грезу за поучительно-воспитательную содержательность его картин, не мог удержаться от восхищения эстетическим очарованием «безыдейных» произведений Буше. Мастерство художника характеризует художественную реальность с точки зрения того, как она претворяет действительность, а не того, что есть ее сущность. Кроме того, предполагалось, что часть общества (носители просвещенного вкуса, знатоки) – духовная элита посредством искусства должна обеспечить облагораживающее, воспитательное воздействие на другую часть общества, духовно и эмоционально несовершенную. Художник начинает восприниматься не как транслятор уже готовых смыслов, а как жрец духа, которому дозволено даже отступать от истины ради достижения цели органичного духовноэстетического проникновения в сознание и душу воспринимающего. Об этом свидетельствуют и популярный среди классицистов тезис, что «правдоподобие важнее правды», и страстно ведущаяся в связи с этим дискуссия о трех единствах в театральной эстетике. При этом предполагалось, что способность предаваться чисто эстетическим удовольствиям дана только знатокам, посвященным, допущенным в творческую лабораторию искусства, ибо для 286 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 287 них содержания и так известны, а потому значимы и особо ценятся форма, мастерство. В эпоху романтизма оппозиция элитарного и массового приобретает характер конфронтации художника-гения, божественного избранника, трагически одинокого и непонятого героя-одиночки и общества в лице его институтов и толпы (черни). Главный персонаж художественной культуры романтизма автор-творец. Смысл творчества – духовный процесс, происходящий внутри сознания художника, но перед лицом высшего духовного универсума (Пастернак – «Смысл творчества–самоотдача …»). То есть искусство – способ духовной самоидентификации человека в пространстве высших бытийных смыслов, а квинтэссенция возможной духовности и творческого поиска человека – это сам художник. Если в эпоху Просвещения элитарность носила эстетический характер, касаясь вопросов формы и мастерства, а содержания и смыслы считались всеобщим достоянием, то с XIX века начинается процесс индивидуации самих смыслов, теперь по этой линии проходит водораздел между элитой и остальными. Искусство отказывается от миссии воздействия, воспитания, усовершенствования. Смысл творчества заключен не в результате, а в самом процессе, внутренней духовно-душевной дятельности (Тютчев: «Молчи, скрывайся и таи…»). Художественный автор больше не служит никому (Пушкин: «Ты – царь! Живи один!»), то есть можно посвятить свою лиру народу, но не служить ему. Народ, публика – это что-то абстрактное, безличное, не способное к высшему пониманию, которое дано только избранным. Став способом бегства из реальной действительности, искусство, как духовный путь и выбор избранных, устанавливает между художественными творцами и всеми остальными эстетический барьер, который демонстрирует самодостаточность, самоценность эстетической функции искусства – так рождаются концепция искусства для искусства и философия эстетизма. Художественный мир представляется «элизиумом», искусственным духовным раем, в котором «опьяняются» только избранные, отвергнувшие реальный мир или отвергнутые им. Язык эстетизма подчеркивает пропасть между культурной, художественной элитой и остальным обществом. Отныне публика, высокомерно отвергнутая творцами, сама устанавливает свои отношения с искусством, в первую очередь, опираясь на классицистскоакадемические представления о высоких идеалах, заключенных в отчужденно холодные формы академизма, Салона. Однако дистанция между таким искусством и личностью XIX века, охваченной энтузиазмом самоопределения в новой реальности современной жизни, жаждой экзистенциальной, нравственной, духовной, культурной, исторической идентификации, непреодолима. Второй путь, – простодушно наивное желание новой публики, в числе которой немало людей, искренне стремящихся к ценностному самосознанию и личностному оформлению, приобщиться к высоким духовным идеалам, 288 Материалы международной конференции присвоив их себе, чувствуя себя при этом не романтическим одиночкойизгоем, а «романтизированным обывателем» (Бидермейер). Третий путь указывает на тех субъектов культуры, которые не найдя собственного культурного образа, начинают примеривать на себя исторические маски, симулируя свою идентичность посредством стилизации на основе существовавших ранее культурных образов (историзм, эклектика). В этой ситуации элитарной становится сфера смыслов, а эстетическая сторона оказывается ширмой, декоративным прикрытием дефицита собственного образа культурной идентичности. Внешняя (заимствованная) форма служит средством межкультурной коммуникативной связи (хоть и поверхностной – на уровне знаков, а не значений). Новый субъект социокультурной реальности желает эстетической демократизации, присваивая когда-то отдаленные недоступные образы, внося их в свое повседневное существование. Это – вторая, после Бидермейера, попытка перекинуть мост между культурой для немногих избранных и культурой среднего класса была оценена как вторичная, неподлинная культура. Первое предчувствие кризиса, было следствием осознания пагубности обозначившейся поляризации культуры. Осуществилась предсказанная Гегелем утрата искусством места пересечения субъективного и объективного миров, потребность в искусстве перестала быть связанной с потребностью бытия в мире, искусство больше не служило средством культурной, духовной самоидентификации человека. Таким образом, для всех, кто не принадлежал к числу творцов и знатоков, искусство переместилось в сферу развлечения, декоративного обеспечения жизнедеятельности, что повлекло за собой духовный и ценностный кризис всей культуры в целом. Данное положение привело к поиску новых вариантов активизации роли искусства в качестве центра интеграции различных сфер культуры (религиозной, нравственной, эстетической, а также личностной и коллективной, творчески созидательной и воспринимающей). В России, например, наметилось два варианта: богоискательский (Н.Бердяев, П.Флоренский), и авангардистский. Первый был замешан на ностальгии по утраченной сакральносмысловой тотальности искусства – когда художник был бы творческим посредником, мостом, между Теургом и людьми, нацеленным на обретение смыслов, а не на их изобретение и самокультивирование. В таком случае дилемма элитарное-массовое перестала бы существовать. Авангардистский проект оказался эстетической утопией претворения искусства в некий универсальный синтетический, межчеловеческий язык глубинного взаимопроникновения человеческого сознания и мировых бытийных процессов, творческой интеграции всех человеческих способностей восприятия и действия. Этот проект также предполагал достижение органичного единства человеческого и бытийного, созидание грандиозной мировой гармонии, преодолевающей полярность культуры. Но обоим концептам возрож- 288 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 289 дения новой культуры посредством искусства через преодоление ее внутренней разрозненности не было суждено осуществиться. Социалистический реализм строился по просветительски классицистской модели воспитания искусством, трансляции художественными средствами неких идеологически предзаданных общезначимых смыслов, которые надлежало усвоить. При этом от искусства отчуждалась смыслотворческая функция, игнорировалась индивидуальность как автора, так и воспринимающего, а художественный язык действовал по принципу мифологической семиотики (знак и значение), а не эстетической выразительности (образ и смысл). По сути, вся культура, из которой было изъято смыслотворчество, становилась массовой культурой. Само общество в лице государства и его идеологии не допускало существование духовной, идейной, эстетической элиты, внушая и художнику и публике комплекс личностно-творческой неполноценности. Личностное самосознание должно было пробиваться сквозь толщу канонического надиндивидуального, эстетически единообразного культурного кода, находя отдушину в классике или запрещенном альтернативном искусстве. Европейский модернизм продолжал двигаться по проложенному романтизмом пути индивидуальной самоидентификации художника, занятого поиском и утверждением собственного «я», углублением эстетической дистанции между собственным миром и всеми остальными. Погруженный в процесс художественного творчества как способа экзистирования (автокоммуникация) художник не искал общения и понимания, ему было достаточно самого себя. Более того, он мог быть намеренно агрессивен по отношению к культурному миру вне себя, разрушать и высмеивать его язык. Трагическое несовпадение личности с миром и с самой собой – образ-маска интеллектуала XX века. Соответственно, все, связанное с поиском гармонии внутреннего и внешнего мира, целостности существования, межчеловеческого понимания отвергалось и именовалось конформизмом и массовой культурой. Во времена постмодерна стало очевидно, что позиция трагического индивидуализма исчерпала свою культурную плодотворность. Тотальный нигилизм, отсутствие интереса и уважения к другому, к человеку вообще, признание хоть какой-либо системы ценностей и выражение отношения к ней и другим возможным ценностям лишило искусство содержания, как потребности в смыслотворчестве. Наступила эпоха безразличия, равнодушия, паниронизма и тотальной игры. Здесь элитарность теряет какой-либо смысл, поскольку ни в чем не видится смысла, имеющего надиндивидуальное значение. Собственная избранность, непонятость и непонятность больше не приносят интеллектуалам былого удовлетворения. В контексте всеобщего обессмысливания игра смыслами также становится бессмысленной и неинтересной, то есть исчезает не только цель, но и целесообразность. Одним из ведущих приемов постмодернизма становится погружение образов и смыслов прошлой высокой культуры в контекст профанности, обыденных значе- 290 Материалы международной конференции ний. Таким образом элитарная культура сама обратилась к повседневности, начав с заигрывания с массовой культурой и доходя почти до полного с ней слияния (примером может служить выставка «Америка сегодня» и ее успех у молодежи). Значит ли это, что возникло, наконец, плодотворное объединение культурных полюсов, то есть кризис раскола преодолен путем поглощения элиты массовой культурой, благодаря отказу от смыслотворчества и на уровне творцов и на уровне реципиентов? Современное состояние художественной культуры приводит к мысли, что столь популярное до середины XX века ее деление на элитарную и массовую уже не несет былой содержательности. Сегодня точнее было бы говорить об элитарной и не-элитарной, куда массовая входит в качестве части. В конце XX – начале XXI века под массовой культурой понимается рыночная, потребительская, развлекательная. В аксиологическом аспекте рассмотрения о ней можно было бы сказать, что она находится за границами смыслотворчества, существуя за счет производства и потребления значений из готового репертуара когда-то имевшего обращение. Но каждое новое воспроизведение оказывается лишь симулякром предыдущего, в результате ранее значимые духовно-ценностные смыслы снижаются до поп-культуры, а затем и до китча. Но существует и такой слой культуры, который берет на себя духовную связь времен и культур, преемственность ценностей, который сохраняет идентичность человечества через множество поколений и личностей. Предмет творчества, в этом случае, жизнь человеческого духа и души, не внешняя среда, а мир, то есть пространство смыслов, а жизнь искусства и культуры – творческий диалог, который не возможен между позициями элитарной и массовой культур (Бахтин). Примерами такого искусства являются любимые на протяжении столетий классическая музыка, импрессионизм, разрушивший барьер между художником и зрителем, фильмы Ф.Феллини и А.Тарковского. На заре нового столетия перед многими художниками, осознающими духовно-ценностный кризис современной культуры, вырисовывается глобальный смысл проблемы ответственности искусства не перед государством и обществом (как когда-то), а перед человечеством, ради его выживания, невозможного без сохранения гуманитарного фундамента его существования и развития. (Об этом говорит фильм А.Сокурова «Русский ковчег»). Миссия художника мыслится в его ответственности перед историческим путем искусства, как способа воспроизводства человеческой сущности, и предстает человеческим долгом искать и творить смыслы существования. Федорова К.Е. Екатеринбург Современные медиа-арт практики: Диснейлэнд или высокое искусство? 290 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 291 Среди множества форм современного искусства медийные формы представляют особое проблемное поле. Речь идет не только о видеоарте, компьютерной анимации, Интернет-искусстве, но также и об интерактивных инсталляциях. Такие характеристики последних, как открытость для модификации, визуальная привлекательность и интерактивность созданной среды, заставляют задуматься о специфическом социально-культурном статусе и эстетических смыслах подобных практик. Что в действительности означают для зрителя иллюзии пространства, игры с деформированным временем и затейливые лабиринты в виртуальной реальности? Где именно проходит граница между серьезным и «легким», то есть развлекательным в современном искусстве в целом и подобных практиках в частности? По каким критериям оценивать роль зрительского восприятия в определении степени художественности произведения медиа искусства? Произведение отвечает на экзистенциальные вопросы, то есть является стимулом для внутренней трансформации, духовного роста, а насколько просто занимает, как занимает грамотно изготовленная реклама? На примерах произведений Джеффри Шо, Энтони МакКолла, Олафура Елиассона и других предлагается рассмотреть то, как именно зритель, или субъект, взаимодействует с произведением и, в частности, каков эстетический смысл использования элемента интерактивности в искусстве. Последние сорок лет стали временем зарождения и развития принципиально нового направления в искусстве – кибернетического, то есть расположенного на пересечении искусства, науки и техники. Эксперименты по продлению возможностей человеческого тела (полуроботы австралийского скульптора Стеларка), исследование возможностей компьютерного программирования сделали по-новому актуальными вопросы взаимоотношений естественного и искусственного, границ человеческой телесности и этической ответственности художника. При этом одновременно активное применение новых технологий началось и в такой по определению пограничной с искусством области как дизайн. Нередко происходит так, что специалисты по дизайну сближают и даже объединяют значения дизайна и искусства, используя такие характеристики новых технологичных форм, как, например, открытость пользователю, стимулирование раскрытия его творческого потенциала и другие. Действительно, технологии, представленные на фестивалях медиаискусства (таких, как Ars Electronica, Montevideo, Machinista), переносятся дизайнерскими фирмами в их проекты и, соответственно, наоборот[1]. Каковы же здесь критерии художественного и что именно определяет разницу в воздействии на зрителя произведений медиа-искусства и интерактивных композиций, служащих просто для облагораживания среды? Разграничение зон ответственности дизайна и искусства – вопрос, достойный отдельного анализа. В данном же контексте необходимо выяснить, что определяет статус искусства как элитарного, понятного и доступного не всем. 292 Материалы международной конференции В основе большинства визуальных искусств – будь то живопись, скульптура, кино и даже инсталляция – лежит принцип чистого видения: мы, в первую очередь, смотрим на произведение (знаменитое «to look at» Норманна Брайсона)[2]. Даже трехмерные произведения можно только созерцать, иногда слушать, но непосредственный тактильный контакт с ними традиционно считается противоречащим идее «высокого искусства». Выражение «прикоснуться к искусству» в отношении классических живописи и скульптуры используется исключительно в фигуральном смысле. Конечно, в развитии подобного статуса «неприкосновенности» сыграла свою роль и институция музея с его миссией хранения и сбережения культурного достояния. Таким образом, физическая дистанция, степень защищенности объекта (как правило, экспонаты, если не «замурованы» в стеклянные витрины, то, как минимум, ограждены) прямо пропорциональны его ценности на художественном рынке. Высокая стоимость, в свою очередь, у обычного зрителя провоцирует отношение к работе как к чему-то недосягаемому, способному принадлежать только избранным – музею как храму или коллекционеру, представителю финансовой элиты. Стремление преодолеть дистанцию, задаваемую классическими канонами видения, началось еще с попыток Поллока, Ива Кляйна и многих других огромными экспрессионистскими (и экспансионистскими) полотнами и перформансами вобрать, поместить зрителя внутрь произведения, и сделать его тем самым активным участником происходящего, со-творцом. В 1970-х над размыванием границ, как самого искусства, так и этики выстраивания отношений с ним продолжали работать художники лэнд-арта и паблик-арта. Усложняясь внутренне, искусство становилось ближе к зрителю физически, что подрывало основы иерархии, сложившейся в мире искусства между элитами производителей и владельцев и массами восторгающейся или недоумевающей публики. Медиа произведения, о которых идет речь, - это часто работы, связанные с пространственным погружением зрителя в произведение. Особая среда может создаваться в любом закрытом камерном помещении, с использованием разного рода и разной формы ограждений, заключающих зрителя в себя. Например, Джеффри Шо (Jeffrey Shaw) в видео-панораме “Место: Рур” (Place: Ruhr 2000) предлагает зрителю управлять живым кинематографичным изображением с помощью специального джойстика, расположенного в центре круга, и таким образом самому задавать траекторию своего виртуального путешествия по окрестностям города Рур. По замечанию американского теоретика Марка Хансена, “такое пространственное решение способствует тому, чтобы подчинить виртуальное измерение координатам реального физического пространства, в котором находит себя посетитель.”[3] Заключение зрителя в замкнутое пространство панорамы не ограничивает, а наоборот, расширяет и углубляет его/ ее отношения с произведением. Модель «смотре- 292 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 293 ния на» изображение сохраняется, но только на внешнем уровне. Само видение становится здесь воплощенным (embodied), то есть телесным. Смотреть в данном случае – процедура отнюдь не пассивная в том смысле, что в процессе визуального контакта в условиях панорамы человек не просто рассматривает, но помещает себя в предлагаемое пространство, а значит – проживает его телесно, на уровне проприоцептического восприятия. Это то самое хорошо знакомое любому танцовщику «чувствование спиной», а на языке теории – «интуитивное», описываемое Анри Бергсоном. Самим своим телесным присутствием и восприятием пространства зритель активизирует, оживляет произведение. Зритель, или участник, в творчестве Джеффри Шо всегда активный сотворец произведения. Что же подобная позиция дает самому участнику? Уникальность медиа-искусств в их демократичности, в том, что они предельно открыты тому, чтобы быть в буквальном смысле испытанными. Именно эта открытость, доверие зрителю, а также ставка на самые базовые, интуитивные и телесные, реакции и вызывает порой подозрение в том, что подобные практики – это не что иное, как заигрывание с публикой. Действительно, лежащий в основе многих медиа-работ момент игры не только не сочетается, но иногда противоречит представлению о произведении искусства как несущем единственный и непоколебимый смысл. Однако художественный смысл этих работ в ускользании смысла, в динамичности и спонтанности видения. Не вписываясь в классическую эстетическую парадигму, эти произведения вполне соответствуют эстетике постмодернизма с ее предпочтением принципов языковой игры, разрушения центра и иерархии. Соответственно, то, что считалось бы китчем в традиционном понимании, является шедевром с точки зрения постмодернистской и постструктуралистской мысли (знаменитый пример архитектурного образа Лас-Вегаса, описанного Робертом Вентури). Игра как состояние сознания - это прежде всего свобода (unattachment) в сочетании с неукорененностью, или беспочвенностью (groundlessness). Именно эта дихотомия интересна художникам, но она же провоцирует и скептическое отношение к их работам. Как кино, так и медиа-искусства часто используют в качестве одного из ключевых моментов элемент иллюзии. Реальность медиа произведений – это не совсем та «иная» реальность, о которой принято говорить в отношении литературы или изобразительного искусства. Принципиальная разница в том, что технические средства сегодня позволяют создавать среды, увлекающие на полисенсорном уровне. Например, с помощью специальных устройств могут улавливаться движения глаз и – с некоторыми оговорками – состояние внутренних органов[4], пульс и другое; затем информация преображается в виде графического изображения, звукового сигнала, или же исключительно телесно ощутимых импульсов. Вопрос о том, что конституирует восприятие – ощущения тела или сознание – старая картезианская дилемма. Но если для Декарта познающий 294 Материалы международной конференции субъект – это абстракция самого же разума, то примеры, о которых идет речь, представляют, в первую очередь, ощущающего субъекта. Этот субъект совершенно не нов в искусстве XX века, достаточно вспомнить Театр жестокости Антонена Арто или перформансы венского акционизма, Вито Аккончи, Каролин Шнееман, Марины Абрамович и т. д. Однако возможности виртуальной реальности открывают новые грани для репрезентации этого конфликта. «Виртуальный путешественник видит и общается с телами, а не с умами/сознаниями, и она скорее отвергнет традиционную иерархию, согласно которой мы – сознания и едва ли имеем телесную оболочку»[5][6]. Образ Диснейлэнда, вынесенного в заглавие, не случаен в том смысле, что это метафора апофеоза бездумных развлечений, увлекающих аттракционов, ярких зрелищ и костюмированных персонажей-брэндов-шаблонов. «Фирменное» достояние западной поп-культуры Диснейлэнд – сам по себе продукт эклектичной эпохи постмодерна. Однако внутренний механизм его действия таков, что, как и в отношении качественно изготовленной компьютерной игры, предлагаемый опыт всецело заранее запрограммирован, в нем нет места для интерпретации и размышлений. Для постмодернистской же «художественной» эклектики характерны непредсказуемость, перетекание смыслов, вариативность, отсутствие критериев отбора. Те же технические изобретения, которые используются в аттракционах или как элементы дизайна публичного пространства, но будучи представленными в контексте художественного произведения, могут испытываться на ином уровне и в первую очередь – индивидуально. Европейский художник Олафур Элиассон (Olafur Eliasson) (не в строгом смысле медиа-, а скорее инсталляционный художник) в обоснование своих арт-экспериментов разработал целую концепцию относительного и критического видения. Например, «360º комната для всех цветов» (360º Room for All Colors) - прерванная окружность, стены которой подсвечиваются разными цветами, - демонстрирует то, как погруженность в свет может влиять на настроение и рождать непривычные ассоциации[7]. Восприятие цвета в данном случае синестезийно: как и в произведении Шо, эффект физического «пребывания в свете» сравним, пожалуй, лишь с музыкальным восприятием архитектуры и наоборот... Аналогичен пример творчества американца Энтони МакКолла (Anthony McCall), специализирующегося на работе с твердым подвижным световым лучом. Например, цифровая видео-проекция «Ты и я: горизонтально» (You and I: Horizontal, 2005) так же, как и полунаучные эксперименты с зеркалами, водой, туманом Элиассона, апеллирует к индивидуальному опыту. Зритель видится не поточно (один из множества), как в парках развлечений, а как уникальный живой субъект, получающий удовольствие от игры со своей временной необычной средой и в то же время ответственный за себя и свои жесты-поступки. (В случае упомянутого произведения МакКолла зритель- 294 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 295 участник волен в любой момент в буквальном смысле разорвать, прервать, разрезать кажущееся твердым полотно света, радикально меняя таким образом опыт других присутствующих). Стимулируя «ответные» реакции, подобные и другие произведения задействуют проблемную область коммуникации в целом (во всем многообразии ее измерений: психологическом, социально-политическом, религиознофилософском). Например, по словам М. Фуко, субъект не существует без процедуры «производства субъективности», и соответственно вся жизнь – это опыт скорее не творчества, а дисциплины хранения аутентичности, т.е. верности самому себе, что осуществляется всегда лишь в отношениях с другими, в акте проявления ответственности[8]. Основополагающие рассуждения о ценности аутентичного зрительского опыта в отношении искусства, созданного при помощи техники, были представлены еще в 1930-е годы немецким философом Вальтером Беньямином. По мысли Беньямина, технологии вмешиваются в святую святых искусства – его ауратичность, след живого присутствия автора. Однако с разрушением уникальности произведения, высвобождается роль аутентичности восприятия зрителя. Так, кинематографическое изображение опосредует опыт, но в то же время, будучи воспринято каждым индивидуально, в корне своем является демократизирующим, не унифицирующим, а предоставляющим право внутреннего свободного переживания. Аналогичным образом и фотография, например, демократизирует изображение, позволяя ему «достигать воспринимающего [dem Aufnehmenden] в его или ее индивидуальной ситуации, актуализируя тем самым воспроизводимый объект.»[9] Как замечает, продолжая идеи Беньямина, Самюэль Вебер, в процессе технологического опосредования (медиации) «аура, несмотря на увядание, обветшание и угасание, никогда полностью не исчезает.»[10] Причина тому – то, что аура – это всегда «уникальное явление[проявление] дистанции, как бы близка она ни была.»[11] Напомним, той же самой дистанции, которая определяет статус искусства как недосягаемого и способного принадлежать только избранным кругам. Политический вывод Беньямина как раз и состоял в том, что «массы» всегда стремятся сократить или преодолеть эту «дистанцию, присущую уникальности.» Не в этом ли врожденном революционном настрое масс кроются основания настораживающей близости развлекательных образцов поп-культуры произведениям динамично развивающегося сегодня медийного искусства? Не является ли эта новая форма продолжением компромисса, начатого еще в конце XIX-го века искусством фотографии и кино? В определенной мере, конечно, является. Однако, несмотря на схожесть процессов, медиаискусство – порождение иной эпохи, которой чуждо само понятие революции и радикальных переломов. Власть, управляющая сознаниями большинства – это рассредоточенная власть рынка. Таким образом, ключевая дилемма медийных искусств состоит сегодня в том, что технологическая опосредо- 296 Материалы международной конференции ванность – это зазор, который может быть заполнен чем угодно и при этом как со стороны зрителя, так и создателя-изготовителя. Сотрудничая со зрителем почти на равных, уважая его внутреннюю свободу и индивидуальность, медиа-художник создает альтернативу эксплуатирующему субъект рынку развлечений. И дело, как всегда, за зрителем – какую свободу выбирать: трансформирующую и раскрывающую скрытый потенциал, или развлекающую и анестезирующую. Примечания 1. См. Architectural Design, July/August, 2007, 4D Social: Interactive Design Environments. 2. Каролина Джонс (Caroline Jones) в работе Eyesight Alone Clement Greenberg's Modernism and the Bureaucratization of the Senses. Chicago, 2006 описывает истоки и социально-культурное значение концепции «чистого», или элитарного, искусства знаменитого американского критика модернизма Клемента Гринберга. 3. Mark B.N. Hansen, New Philosophy for New Media. London, Cambridge MA, 2004. С.86. 4. См. http://www.embodiedmedia.com/projects/IT/ о работе Кейт Армстронг (Keith Armstrong) «Интимные Дела» (Intimate Transactions, 2005). 5. Jay D. Bolter, Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media. Cambridge, MA, 1998. С. 249. 6. Виртуальная реальность достойна отдельного анализа, но в данном контексте нельзя не упомянуть ставшие уже знаменитыми опыты теле-арта британского художника Поля Сермона, например «Теле-сон» (Telematic Dreaming, 1993). Участник и сам художник общаются друг с другом дистанционно при помощи камеры и телеэкрана, находясь якобы в одной и той же постели. Возникающее в процессе ощущение – телесной «продоложенности», интимности, а одновременно с этим – чувство потерянности и дезориентированности. 7. См. Madeleine Grynsztejn, ed. Take Your Time: Olafur Eliasson. San Francisco, New York. 2007. 8. См. Michel Foucault, “On the Genealogy of Ethics: An Overview of work in Progress”, The Foucalt Reader, ed. by Paul Rabinow. New York. 1984. 9. Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility, in Selected Writings, Vols. 4, 1938-1940. Cambridge, MA, London, 2003. С.254. 10. Samuel Weber, Mass Mediauras: Form, Technics, Media Stanford, CA, 1996. С.87. 11. Там же. С. 88. Федотова Н.Г. кандидат философских наук 296 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 297 Великий Новгород Культура масс-медиа (концептуальный очерк) Массовая культура в наши дни по-прежнему остается одной из актуальных тем для исследователей. Вместе с тем, варианты интерпретации идеи массовой культуры множатся, как впрочем, и увеличивается удельный вес исследований, посвященных не столько всестороннему анализу данного феномена, сколько его осмыслению в рамках иных процессов социальной жизни. Данное обстоятельство вполне закономерно, если принимать во внимание существующее разнообразие суждений о массовой культуре, ее онтологических основаниях, социокультурных, функциональных характеристиках, а также прочие разногласия, которые в итоге приводят к неоднозначной трактовке данного феномена в научном дискурсе. Стоит предположить, что подобная теоретическая разнородность становится одним из решающих стимулов возрастающего научного интереса к отдельным проявлениям массовой культуры в обществе, смещения акцента на анализ массовой культуры в различных контекстах современной социокультурной среды. Действительно, чтобы понять специфику массовой культуры на данном этапе развития общества, необходимо не только отталкиваться от наработанного концептуария масскульта, но интегрировать его в смежные контексты учений о современности, своеобразие которых раскрыто во многих областях социальногуманитарного знания. Весьма своевременным можно назвать внимание к проблеме осмысления взаимодействий и взаимовлияний феноменов массовой культуры и массовой коммуникации. Включение в проблематику массовой культуры такого важного компонента ее функционирования, как массовая коммуникация, позволяет увидеть своеобразие массовой культуры через другой «угол зрения», дает возможность познавать массовую культуру в духе современных тенденций, меняющих культурный облик человечества. Следовательно, одной из наиболее актуальных проблем является адекватное концептуальное измерение массовой культуры в условиях глобального развития процессов массовой коммуникации. При этом наибольшая эффективность в подобном «прочтении» массовой культуры будет достигнута, если исходить из позиции междисциплинарного подхода, как способа интеграции научных достижений разных дисциплин, имеющих непосредственное отношение к изучаемой проблематике. В целом исследовательская стратегия оправдывает себя тем, что направлена на выявление общих проблемных точек феноменов массовой культуры и массовой коммуникации, что способствовало бы как включению в предметное поле масскульта аспектов, не получивших достаточного развития в традиционных концептуальных рамках, так и культурологическому «обогащению» теории массовой коммуникации, склонной к социологической трактовке. 298 Материалы международной конференции Необходимость подобных исследований очевидна хотя бы постольку, поскольку проблематика массовой культуры и массовой коммуникации тесно переплетена, и в каждой из них можно найти общие теоретические корни (в социально-философском, социально-психологическом и пр. ключе). Вместе с тем, особый интерес в данном случае приобретает иное «звучание» массовой культуры, иные символические формы массовой культуры, концептуальный арсенал которой состоит отнюдь не только из первоначальных смыслов (вторжение в культурную среду полуобразованного «человека массы»), которые отчетливо разъяснил Х.Ортега-и-Гассет. Современные исследователи пытаются зафиксировать новые «блики», новое измерение массовой культуры, появившееся в процессе ее трансформации и адаптации к новым социокультурным реалиям[1]. Но, несмотря на это, остаются все же незамеченными и не менее актуальные вопросы, проясняющие особенности реального воплощения массовой культуры в эпоху усложняющегося информационного, постиндустриального общества, которые требуют своего осмысления и внимания в силу своей значимости. Подобное общество демонстрирует не только расцвет информационных и коммуникативных технологий, а также вторжение в современный мир (помимо человека массы) особой сферы «массмедийности» как важного фактора современной культурной ситуации. Между тем, возникает вопрос – каким же образом анализировать то общее, промежуточное концептуальное состояние, которое складывается из разных (онтологически и феноменологически) явлений: массовая культура и массовая коммуникация? Трудность не столько в определении у них общего или специфичного, сколько в формировании единого предмета исследования, ведь одно из них – это особое состояние культуры, характерное для определенного рода общества, а второе представляется как процесс передачи сообщений, циркуляции смыслов от отправителя к получателю. Однако, данное противоречие снимается, если признать в качестве предмета изучения особую символическую область массового взаимодействия людей, область кодирования, хранения сообщений, которые передаются в процессах массовой коммуникации с помощью определенных посредников. Массовая коммуникация как многогранное явление современной жизни общества также не всегда понимается однозначно ввиду разных теоретических позиций. Не углубляясь в тематику данных дискуссий, стоит лишь заметить, что несоответствия присутствуют даже на терминологическом уровне. Типологическими свойствами массовой коммуникации, которые позволяют отличить ее от прочих видов коммуникаций, чаще всего называют массовую аудиторию (анонимную, рассредоточенную, разделенную на группы интересов), наличие специальных средств (обеспечивающих тираж, скорость, хранение информации), cоциальную значимость информации, передаваемой в ходе коммуникативного процесса[2], и иногда коллективный характер коммуникатора. Между тем, нередко о массовой коммуникации говорят как о процессе производства и доведения сообщений до аудитории с помо- 298 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 299 щью телевидения, радио, печати, Интернета и других средств[3]. Это становится причиной того, что в большинстве исследований массовая коммуникация отождествляется с понятием «средства массовой коммуникации», а также в итоге и с понятием «средства массовой информации» в связи с тем, что основным объектом исследования социологов, начиная с середины ХХ столетия, было и остается телевидение. В результате круг символических параметров массовой коммуникации несколько сужается, поскольку такие феномены массовых коммуникативных процессов как театр, литература, кино или реклама (все они не СМИ) просто не умещаются в социологически окрашенные интерпретации данного явления и отношение к ним не всегда адекватно. Хотя, в тоже время, это позволяет сконцентрироваться на определенных, весьма значимых факторах институционального измерения процессов массовой коммуникации. С понятием «массовая коммуникация» тесно коррелирует и понятие «масс-медиа», заимствованное отечественной наукой из зарубежных исследований и связываемое со сферой средств массовой информации или средств массовой коммуникации. При этом масс-медиа, некие «посредники» (media с англ. среда обитания, mediator – посредник) массовых коммуникативных процессов, это не только средства для информирования масс, но и средства, создающие символическое пространство существования массы людей в информационном обществе, или говоря другими словами - средства создания общедоступной смысловой среды существования огромных масс людей. Таким образом, именно с помощью масс-медиа современный человек осмысляет окружающие феномены, усваивает огромные потоки информации, и все это с помощью тех самых упрощенных кодов, культурных образов, стереотипов (массовая культура). То есть масс-медиа выходят за роль лишь неких искусственных средств, по которым поступают сообщения к массовой аудитории (продукты массовой культуры), ведь они проникают в реализацию коммуникативных процессов, они становятся участниками массовой коммуникации и в результате их значение в обществе гипертрофируется. Эту специфическую особенность масс-медиа, и, прежде всего, телевидения, как раз и подчеркивал М. Маклюэн, когда говорил: «средство коммуникации есть сообщение коммуникации», так как именно средство коммуникации определяет и контролирует масштабы и форму человеческой ассоциации и человеческого действия[4]. В данном контексте актуализируется и идея о формировании с помощью деятельности масс-медиа вторичной реальности, нежели отражении реальности первичной. Из сказанного складывается убедительное предположение о том, что общее концептуальное поле между массовой культурой и массовой коммуникацией может быть представлено путем внимания к особому типу культуры – культуры современного информационного общества, или культуры масс-медиа. Такая культура - культура масс-медиа – уже выходит за идейные рамки массовой культуры, поскольку опирается на изменившиеся социо- 300 Материалы международной конференции культурные реалии нашего времени, своеобразие которых и пытаются объяснить мыслители современности. Так, наиболее удачной в нашем случае является теоретическая позиция М.Кастельса, которому удалось выявить наиболее характерные черты современного общества, называемого «сетевым»[5] и отмежеваться в целом от гипотетических футурологических прогнозов. В таком обществе, которое пронизано разветвленной сетью информационных линий связи, особое значение играют именно средства массовой информации, которые создают символическую среду нашей жизни, оказывая влияние на наше поведение и сознание, продуцируя «культуру реальной виртуальности». Действительно, субстанция масс-медиа через рекламные ролики, телесериалы, газетные статьи, ток-шоу и прочее формирует устойчивые стереотипы, образы (женщин, положения церкви в обществе, мира политики и многое другое), что не только структурирует поведенческий кодекс человека, но и является основой для (функционально значимых) процессов идентификации, социализации и т.д. Такого рода культуру, изменяющую основу взаимодействия людей, Б.В.Марков называет новой «медиальной культурой» радио, телевидения, Интернет, опасность которой он видит в смешении разного рода дискурсов, и в результате «потребитель политической, рекламной, медицинской и т. п. информации получает вместе с конкретными полезными сведениями сеть моральных и эстетических оппозиций»[6]. В качестве одной из особенностей данной культуры им отмечается опора не столько на книжно-словесную форму коммуникации, сколько по преимуществу на образнозвуковые знаки (не предполагающие рефлексии), магия которых оказывает завораживающее воздействие на поведение людей. Принимая во внимание рассмотренные взгляды, культуру масс-медиа можно интерпретировать как символическую оболочку (фиксированную в образцах поведения, ценностях, социальных нормах, целях общества), которая связывает всех нас через средства массовой коммуникации, и которая функционирует благодаря разделяемой всеми знаковой системе. Следовательно, вырисовывается проблемное поле исследования культуры масс-медиа, связанное с масс-медийной сферой, где не только передаются сообщения массовой аудитории, но и рождается, транслируется и усваивается мир смыслов, зафиксированный в символических формах. Однако, помимо интереса к тому, каков репертуар и характер передаваемых сообщений, особенно важным представляется и сам процесс наполнения значимостью этих сообщений, связанный с процессом формирования медиумами символической среды. Как и кем создаются сообщения масс-медиа, с помощью каких кодов интерпретируются, во что облекаются смыслы для поддержания в них символического потенциала, каким образом воздействуют они на массу, с помощью чего достигают цели – лишь часть вопросов в области данной проблемы. В качестве теоретико-методологической базы, позволяющей их решить, необходимо по-видимому придерживаться междисциплинарности, 300 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 301 что дает возможность учитывать потенциал тех наук, которые имеют непосредственное отношение к массовой культуре или к массовой коммуникации. В связи с этим, прежде всего, следует отметить, что осмысление и концептуализация культуры масс-медиа, которое должно предвосхищать изучение институциональной динамики, актуализирует теоретическое «наследство» массовой культуры. При этом стержнем общей символической связи между массовой культурой и массовой коммуникацией, безусловно, выступает понятие массовости, опирающееся на концепты «масса», «массовое общество». В данном случае семантика массовой аудитории, как неотъемлемого компонента культуры масс-медиа, может быть прояснена с помощью работ адептов критической теории (М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе) и их последователей (Х.Аренд), демонстрирующих преломление данной проблематики через понятия «индустрия культуры», «тиражированность», «стандартизация», а также массовизация общества, акцент на усредненность. Но в тоже время они должны быть дополнены взглядами футурологов, идеологов постиндустриального, информационного общества, уловивших тенденции нового образа жизни. Так, по мнению Э.Тоффлера, общество третьей волны функционирует в «демассифицированной экономике, в демассифицированной среде, в новых … структурах корпораций»[7], а также в условиях демассификации СМИ и т.д. При этом, особую значимость в понимании массового аспекта культуры масс-медиа, играют такие философские, культурологические взгляды, которые раскрывают особенности коммуникативных стратегий, использующихся весьма успешно сегодня в современных PR-службах, в рекламе, в имиджмейкерстве. Здесь целый спектр теорий и концепций в науке: от учения о бессознательном до современных исследований в области социальной мифологии, манипуляции массовым сознанием. Например, весомыми для прояснения особенностей современного человека массы, методов воздействия на него являются работы в области психологии масс и толпы[8]. Коммуникативная парадигма также обладает эвристическим потенциалом в познании специфики культуры масс-медиа. В частности, культуру масс-медиа можно трактовать как важную составную часть сложного процесса массовой коммуникации. Тогда в круг волнующих ее проблем попадают такие, как прояснение сущности и возможностей коммуникатора, формирующего символический образ сообщения, функциональная нагруженность культуры масс-медиа, характер сообщений для массовой аудитории, идеологическое преломление проблемы и многое другое. Здесь определенный научный потенциал накоплен социологической мыслью (к примеру, существуют теории, объясняющие характер социального воздействия СМИ: теория «двухступенчатого порога информации» П.Лазарсфельда и его коллег, теория «спирали молчания» Э.Ноэль-Нойман и т.д.[9]). Кроме того, весьма важным и необходимым для изучения является и само понимание коммуникативного процесса как способа обмена (или «необмена»?) смыслами между 302 Материалы международной конференции коммуникатором и массовым адресантом. Является ли он в случае массовости «однонаправленным», как об этом говорит Ж.Бодрийяр[10], или напротив, интерактивным? Что, в общем, отсылает к пониманию коммуникации как особого рода диалога или явления рациональной интеракции (М.Бахтин, Ю.Хабермас). Вместе с тем, коммуникативное «видение» культуры масс-медиа в сущности, не отделимо от процесса кодирования, декодирования сообщений, передаваемых массовой аудитории, что в свою очередь, актуализирует дискурсивный метод анализа продуктов культуры масс-медиа, «вскрывающий» несказанное в языке. В данном случае определенной исследовательской «находкой» можно считать когнитивный анализ культуры масс-медиа, варьирующийся от изучения моделей социальных репрезентаций до выявления скрытых форм символической власти, навязывающей определенное видение мира с помощью механизма СМИ. А между тем, проблема означивания, кодирования информации, ее понимание, интерпретация – это не что иное, как объект для семиотических исследований, эффективность которых, согласно У.Эко, в способности охватить единым взглядом общую специфику в деятельности прессы, телевидения, комиксов, рекламы, легкой музыки, массовой литературы, различных видов пропаганды[11]. Таким образом, становятся более понятными общие штрихи теоретикометодологического круга, способного охватить ту культурологическую проблематику, которую принято относить либо к массовой культуре, либо к массовой коммуникации. При этом, одним из достоинств обозначенного концептуального поля является теоретическая консолидация разрозненных взглядов, учений и мнений об одной и той же проблеме, высвеченной в новом ракурсе. Познавая и раскрывая специфику культуры масс-медиа, исследователь как бы находится на один семиотический уровень выше, что и позволяет углублять представление о знакомых феноменах, выявлять невидимые грани социокультурной реальности, в которую погружена жизнь современного человека. Примечания 1.Так, некоторые из специалистов стремятся выявить новые смысловые грани феномена массовая культура, в связи с чем помещают ее в контекст постиндустриального общества (См.: Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2006.) 2. См.:, напр. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. Воронеж, 2000. (h t t p : / / k a c h ki n e . n a r o d . r u / C o m m T h e o r y/ 7 / We b C o m m7 . h t m ), или Конецкая В.П. Социология коммуникации. М., 1997. 3. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. М., 2003. С.16. 4. См.: Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М., 2003. С.11. 302 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 303 5. См. Подробнее: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общества и культура. М., 2000. 6. Марков Б.В. Коммуникация и философия языка // Коммуникация и образование. Сборник статей / Под ред. Дудника С.И. СПб., 2004. С.155. 7. См.: Тоффлер Э. Третья волна. М., 2002. С.397. 8. Из трудов Г. Лебона следует, что человек массы - качественно нового социального состояния - особенно восприимчив к внушению, им можно управлять с опорой на бессознательную аксиоматику, поскольку способность к рефлексии снижается (См.: Лебон Г. Психология масс. М., 2000. С.155-178). 9. См. Об этом: Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. М, 2005. 10. Бодрияйр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика. СПб, 1999. С.193-226. 11. См.: Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998. С. 408. Фуртай Ф.В. кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербург Интеллектуал в массовой культуре: маргинал или творец новой эстетики? Смертным известно о настоящем Богам начала и их концы. О том, что близится, о предстоящем знают только, склоняясь над шелестящим листом пергамента, мудрецы. Иногда им в их кельях, далёких от перипетий, Чудится странный гул. И они в него вслушиваются, точно в мотив забытый. Это – гул надвигающихся событий. Населенье не слышит, как правило, ничего. «Мудрецы предчувствуют» Константин Кавафи В философских размышлениях о современных культурных процессах стало уже общим местом констатация факта, что большую часть повседневного бытия занимает массовая культура. Её изучение, начавшееся в великих трудах О.Шпенглера, Н.Бердяева, Т.Адорно, Э.Фромма, М.Маклюэна etc., к началу XXI столетия позволяет составить некий 304 Материалы международной конференции умозрительный портрет, на котором если и нет всех мельчайших подробностей, то уже достаточно проявлены основные черты её историкокультурного своеобразия. Рождённая на основе машинного производства, стандартизации и товарно-денежных отношений, эстетизирующая свои проявление посредством дизайна и брэндинга, массовая культура не признаёт иерархий, она демократична, её бытийственный топос не вертикален, а горизонтален. Вместо традиционных социальных иерархий здесь существует понятие «избранности из массы». Избранный в массовой культуре трактуется, прежде всего, как «один из нас» (название песни «Beatles»), который выделен каким-то внешним знаком или обстоятельством (Гарри Поттер отмечен знаком молнии, Синди Кроуфорд заметил на уборке кукурузы фоторепортёр, у «детей индиго» ментальная аура синего цвета и т.д.). Именно избранность из массы определяет современную элиту. По основаниям своей избранности она может быть разделена на плутократичекую (финансовую), массмедийную и политическую элиту, причём все три вида элиты имеют тенденцию к миграциям из одного вида в другой, либо к сочетанию нескольких видов одновременно. Несмотря на различные сферы её бытования, нельзя не заметить общих условий её генезиса в массовой культуре. Это очень высокий уровень доходов, доступ к средствам массовой информации, к природным ресурсам и властным структурам. Однако если вспомнить классическое определение элиты, приведённое в знаменитом эссе Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», вышедшее в свет в 1932 году и во многом повлиявшее на интеллектуальное лицо XX века, то в нём элитарность определяется совершенно в иных характеристиках. «Когда речь заходит об «избранном меньшинстве», лицемеры сознательно искажают смысл этого выражения, притворяясь, будто они не знают, что «избранный» - вовсе не «важный», т.е. тот, кто считает себя выше остальных, а человек, который к себе самому требовательней, чем к другим, даже если он лично и не способен удовлетворять этим высоким требованиям. Несомненно, самым глубоким и радикальным делением человечества на группы было бы различение их по двум основным типам: на тех, кто строг и требователен к себе самому («подвижники»), берет на себя труд и долг, и тех, кто снисходителен к себе, доволен собой, кто живет без усилий, не стараясь себя исправить и улучшить, кто плывет по течению»[1]. Иными словами, элита – это те, кому присущи верность великим идеалам и готовность принять ответственность за соблюдение культурных норм. Массы же, напротив, это те, кто не нуждается в обязанностях и идеалах. За более чем семь десятилетий, прошедших со времени опубликования «Восстания масс» реальное социокультурное состояние масс и элиты значительно изменились. Эти изменения, пожалуй, впервые сформулировал американский мыслитель Кристофер Лэш[2], писавший о том, что в современной двусоставной (массы и элита) структуре общества элиты озабочены не высокими идеалами и руководящей ролью в 304 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 305 исторических процессах, а «ускользанием от общей судьбы». Современные элиты считают себя «лучшими», исходя не из духовных качеств, а потому что они «богатые и знаменитые» (название одного из культовых американских сериалов). В начале XXI века меритократия («власть лучших») и меритократы представляют собой социальный слой, которому посчастливилось воплотить в жизнь идеал человека масс: абсолютная свобода от всех ограничений, безответственность, погоня за удовольствиями, пошлое бесцельное существование. Социальная подвижность современной массовой культуры, когда «звёзд» делают на «фабрике» из самых обыкновенных ребят, читай «из любого из масс», не расшатывает власть меритократии, а лишь упрочивает её, создавая иллюзию, что войти в состав избранных очень легко, надо только обладать какими-нибудь талантами. Тем не менее, оставаясь в русле вышеприведённых характеристик современного социума, всё более распадающегося на меритократию и массы, невозможно не заметить некую третью фигуру, присутствующую в культурном пространстве массовой культуры. Это фигура интеллектуала. По своим культурным, ментальным и эстетическим характеристикам интеллектуала нельзя причислить ни к меритократам, ни к массам, хотя по социальному положению он может примыкать и к тем, и к другим, однако всегда будет осознавать себя как нечто отдельное, не сливающееся с ними. Как очутился интеллектуал в пространстве массовой культуры, по своему определению анти-интеллектуальной, стремящейся «пользоваться», а не «знать», развлекаться, а не работать? Интеллектуалы появляются вместе с ростом средневековых городов в XII веке, когда вместе с распространением studia generalis и первых университетов появляются тот, «чьим ремеслом станут писательство и преподавание (скорее и то, и другое одновременно), человек, который профессионально займётся деятельностью преподавателя и учёного…»[3] Первые интеллектуалы ощущали себя современными, новыми людьми (moderni), несущими свет наук и образования. Их отличительной чертой было также признание и восхищение трудами предшественников. Французский интеллектуал XII столетия Пьер де Блуа писал: «От тьмы невежества к свету науки не поднимешься, коли не перечтёшь с живейшей любовью труды древних. Пусть лают собаки, пусть свиньи хрюкают! Я не стану от сего меньшим сторонникам древних»[4]. Ему вторил современник английский интеллектуал Джон Солсберийский: «Чем больше ты знаком с науками и чем больше ими проникся, тем полнее поймёшь правоту древних авторов и тем яснее станешь их преподавать»[5]. Иными словами интеллектуалы как никто из современников чувствовали время и метафизические связи исторического процесса. Знаменательно, что высшая ценность в их духовном багаже – Истина – полагалась дочерью Времени. Veritas est filia temporis – сказано было уже Бернардом Шартрским (XII век). Именно в среде интеллектуалов шла выработка эстетических идеалов и норм 306 Материалы международной конференции средневекового общества, которые затем воплощались в искусстве и в эстетических предпочтениях различных слоёв социума. Нельзя не заметить, что в современной массовой культуре интеллектуалы сохраняют свою главную социокультурную характеристику – учёный, продающий свои знания. Однако в условиях массовой культуры положение интеллектуала становится сложным и неоднозначным. С одной стороны массовая культура не интеллектуальна по своему определению и интеллектуал со своей склонностью к анализу, рефлексии, выработке собственного мнения, для культурной среды масс является «чужеродным телом», он никогда не будет ей аутентичен. В то же время массовая культура есть результат развития научно-технического развития общества и, следовательно, ей не обойтись без постоянного притока интеллектуальных ресурсов, которые обеспечивают условия для функционирования современной массовой культуры. Именно интеллектуалы рождают идеи, идеологемы и эстетические установки, которые затем усваиваются элитой и тиражируются в среде масс. В том случае, если интеллектуальный продукт продаётся и становится востребованным в массах (пусть даже и видоизменённый), – интеллектуал примыкает по своему социальному положению к элите, если же происходит обратное, носитель непризнанных интеллектуальных ценностей (в том числе и эстетических, яркий пример с творчеством Ван Гога), ставится социальным маргиналом или по уровню и образу жизни примыкает к массовому. В силу того, что интеллектуал способен понимать и воспринимать как массовую культуру, так и традиционную народную и элитарную высокую культуру – он становится культурным маргиналом, единственным в условиях массовой культуры, сохраняющим свою экзистенциальную свободу и возможность социального выбора. В условиях массовой культуры интеллектуал выполняет важнейшую функцию творца эстетических ценностей, что ставит его в самое «сердце» цивилизации масс. Это происходит оттого, что большую часть топоса массовой культуры занимает индустрия досуга. Рядовой член массовой культуры живёт не только в своих обыденных обстоятельствах, но и в виртуальном мире, созданном информационными потоками. Хотя они и называются «информационными», за последние десятилетия доля информации в её классическом понимании всё более вытесняется в них псевдоинформацией, чьё смысловое значение ничтожно. Такие виртуальные потоки воздействуют на потребителя, прежде всего, посредством образа, эмоций, т.е. эстетически. Создание образов, сюжетов, героев и далее по цепочке «ниже» – копирайтов, моделей, реклам etc. – это прерогатива интеллектуалов и подражателей им. В то же время нельзя утверждать, что существование интеллектуала в массовой культуре безоблачно и, что его социальная идентификация определена исключительно его свободным выбором. Без интеллектуалов массовая культура не может развиваться, но она их использует в 306 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 307 соответствии со своими представлениями о своих нуждах. Иными словами, интеллектуал не свободен в плане реализации своих идей на уровне социального бытия. На уровне своих культурных инстинктов массовая культура ненавидит интеллектуала. Он единственная социальная фигура, которая метафизически враждебна массовой цивилизации, ибо она помнит о примате духа над материальным, о превосходстве «бесполезного» прекрасного над доходной красивостью, о высших ценностях. Интеллектуал – человек культурных «иерархий и вертикализма», того чего массовая культура онтологически не приемлет. Иногда эта неприемлемость становится для интеллектуалов трагической (как для булгаковского Мастера) и о которой Ортега-и-Гассет писал: «Мы …живём в эпоху всеобщего шантажа, который принимает две взаимно дополняющие формы: шантаж угрозы и насилия, и шантаж насмешки и глумления. Оба преследуют одну и ту же цель – чтобы посредственность, человек толпы мог чувствовать себя свободным от всякого подчинения высшему»[6]. Примечания 1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2002. С.4. 2 См. об этом: Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. М., 2002. 3 Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. СПб., 2003. С.8. 4 Цит. по: Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. СПб., 2003. С.11. 5 Там же. 6 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: 2002, С.91. Цимошка Д.А. Санкт-Петербург Фигура масс в эпоху исчезновения Обозначим рубежи. Оппозиция массовое/элитарное интересна не столько содержанием, которое можно придать двум её компонентам, сколько самим жестом разграничения, отделения и разделения, осуществляемым на территории эстетики. Под эстетикой в данном случае понимается аналитика чувственности. Причина, вынуждающая нас определять эстетику именно так, заключается в усилии расширить диапазон её возможных прочтений. Но такое расширение не безосновно, оно задано контекстом, в котором будет разворачиваться дальнейший ход рассуждений: одно из современных направлений в эстетической теории, альтернативное проектам, маркированным понятиями репрезентации и события. «Эстетика исчезновения» представляет собой итог развития идей В.Беньямина, Ж.-Ф.Лиотара, Ж.Бодрийара, Ж.Деррида, П.Вирильо, подхваченных и суммированных Ж.-Л.Деоттом в полемике с Ж.Рансьером. Если для Ж.Рансьера имеет смысл говорить об эстетике как о режиме искусства (а значит, определять её как конфигурацию 308 Материалы международной конференции художественной мысли), то, по мнению Ж.-Л.Деотта, на смену эстетическому режиму приходит номинальный, задающий вопросы об онтологическом статусе своих объектов. Хотя на мой взгляд, если продолжить мысль Деотта, то речь идёт не об онтологии, а о хантологии (призракологике). Но всё это не значит, что эстетика заканчивается вместе с одноимённым режимом – скорее, подводится итог собственно эстетическому её измерению; не значит, что уместнее говорить о режимах искусства, чем об эстетике, поскольку искусство не исчерпывает всех полей аппликации и метаморфоз чувственности: симуляция, СМИ, техническое воспроизводство, политические акции и т.д. Итого, если преодолеть навязанную оппозицию и повернуть вопрос в несколько иное русло, то можно увидеть насколько неслучайным для эстетики в вышеозначенном смысле будет обращение к фигуре масс. Именно к фигуре, но не феномену, поскольку массы в данном случае выступят не в качестве маркера современной ситуации или объекта социально-философского зондирования, а скорее антифеноменом теневой стороной дискурса. Это значит, что массы предстают не как множество, подчинённое некоему виртуальному единству идеологии, но бесконечная потенция приращения, несхватываемая и немобилизуемая никаким единством. Речь идёт о противопоставлении как минимум двух возможных типов схватывания множества, массы, толпы – которые можно было бы условно обозначить через метафоры актуальной и потенциальной бесконечности: вызванный практической революционной задачей мобилизационный подход и иной вариант, нацеленный на критику идеологического использования фигуры масс. Первый подход всегда предполагает поиск социальной группы, которая могла бы стать носителем революционного начала: пролетариат как класс, отличный от других классов и делящийся также внутри себя на значимые с этой точки зрения элементы и наоборот. Отсюда возникают такие построения как массовое сознание, массовая психология и прочее; всех их объединяет то, что в массах они усматривают определённое единство, а значит, добавляют избыточный элемент единства, в самом этом множестве нефиксируемый. И поскольку этот элемент в массах как таковых не присутствует, то он может быть абсолютно произвольным. Такому подходу мы намерены противопоставить критический сценарий осмысления масс, предложенный Ж.Рансьером и Ж.Деррида, и проследить то, как происходит переход от конструкции фигуры масс к её социальному вживлению и эстетической раскладке (и здесь уже станет возможно говорить о дальнейшем движении имманентной критики эстетического режима искусства Рансьера Ж.Деоттом). Начало созданию ауры неопределённости вокруг фигуры масс положил Ж.Бодрийар («В тени молчаливого большинства. Конец социального»). Апофатический и эсхатологческий рефлексы мешают прочтению этого текста в духе Ортеги или Маркузе, занятых проработкой социологическиэкзистенциальных характеристик Das man, некоего собирательного типа человека толпы (непрочность такого построения бросается в глаза: множе- 308 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 309 ственное сведено к единичному). Бодрийяр, во-первых, не персонифицирует массы, во-вторых, не наделяет их потенциалом совместного действия и не закольцовывает в единство, но скорее анализирует, как из отрицания единства может быть создан новый, не выдерживающий проверки на идеологическую неинфицированность, проект. Если Бодрийяр пишет о конце социального, т.е. применяет исторические координаты для фиксации роли большинства, массы в социальном измерении, то Рансьер задействует не исторические, а географические аллюзии и располагает массы на краях политического (см. «На краю политического»). Кредо Рансьера относительно политического не эсхатологично: для него говорить о конце политического значит не просто отрицать возможность революционной мобилизации масс (как это было для Бодрийара), а мнить воплотившейся идею о разумном распределении политического на основе кансенсуса (реализация утопии Хабермаса), а значит постулировать единство (при том что «страсти исключающего Единого оказываются примитивнее и опустошительнее, нежели все неприятности с множественностью»[1]). Подобный тип рациональности Рансьер называет «разочарованной» – не в смысле его эсхатологичности и опоре на риторику конца политического, социального, исторического и т.д., а также и не в смысле отказа от очарованности какой бы то ни было иллюзией. Конечно, обе эти интенции присутствуют, но лишь как следствия обращённости к здравому смыслу, отрицающему утопические обещания, отрицающие политику как обещание в пользу поступательного движения, основанного на потенции сегодняшнего дня. Разочарование в смысле отрицания модели политической темпоральности утопии – темпоральности избытка и избыточного. Критикуя эти движения секуляризации и экзорцизма, Рансьер ссылается на работу Джона Сёрля «Смысл и выражение» («Словом, дело автора – решать, принадлежит ли текст к области вымысла, но дело читателя – решать, принадлежит ли текст к области литературы или нет») и на высказывание политического лидера Мишеля Рокара («Франция не может принять в себя всю нищету мира»[2]). И то и другое высказывания представителей «разочарованной» рациональности настаивают на необходимости критериев разделения и отделения и на вынесении всего под эти критерии не подпадающего в ад исключения или чистилище сомнительного. Сёрль предлагает критерии различия, но эти критерии предполагают, наличие однозначности свойств или условностей вокруг этих свойств у того, что необходимо подвергнуть различению. Однако за скобками остаётся «неотчётливая телесность», «болтливая буква», а именно такой тип существования, который однозначно не определён ни изнутри, ни извне: литература как призрачная материя, которую во что бы то ни было необходимо вывести на чистую воду определённости, отличить от нелитературы, обозначить, где в ней место вымыслу, а где факту. Политическое высказывание также предполагает исключение элемента неопределённости и избыточности: вся нищета мира, «безымянное множе- 310 Материалы международной конференции ственное, которое зовётся на латыни proles и proletarius… множественное, которое воспроизводится непрестанно и беззаконно и поэтому должно исключаться из консенсуса»[3]. И здесь тела литературного текста вступают в перекличку с телами политического исключения посредством консенсуса, телами объектов расизма: и те и другие обладают квазисуществованием, они «недостаточно другие, чтобы отправить их к себе домой», «потому что они и так уже дома» и перед ними бездомными оказываемся именно мы. Всё множество фигур и эпитетов, которые Рансьер дарует этому модусу существования – «неотчётливая телесность», «болтливая буква», «квазисуществование», «пролетариат», «квазидругой», polloï – фиксирует константу призрака: «Формулам исключающего консенсуса необходимо больше, чем когда-либо, противопоставлять формулу сообщества, знающего лишь тех индивидов, которые держатся за бесконечную возможность «одним-больше». Держаться за эту возможность означает продолжать мыслить призраками»[4]. Чуть прежде этого заключения Рансьер цитирует фразу из «Отверженных» Виктора Гюго: «Демоны нападали. Призраки оборонялись»[5], фразу, которой французский поэт характеризует последний штурм баррикад СенМерри, и которую воспроизводит на свой манер Ж.Деррида в книге «Призраки Маркса». Цитата, приведённая Деррида более развёрнута и захватывает противопоставление двух баррикад – Сент-Антуанской и баррикады Тампль, «за первой баррикадой чудился дракон, за второй – сфинкс… Из дальней группы, стоявшей в самом тёмном углу, чей-то голос крикнул… Граждане, поклянёмся клятвой мертвецов!... Никто так и не узнал имени человека, произнёсшего эти слова… никому неведомый, забытый, незаметный герой, тот великий незнакомец, который всегда появляется при исторических кризисах…»[6]. В противопоставлении двух баррикад – прояснение отличия двух сторон революционного события, и двух масок народной массы, точнее «маски и морды зверя», того отличия, которое уже было вкратце освещено выше. Масса революционного события как исторического свершения, полного жизни и исторической истины, и масса баррикады Тампль («На стене никого не было видно, ничего не было слышно: ни крика, ни шума, ни дыхания. Она казалась гробницей»[7]). Ещё одно симптоматично частичное расхождение между Рансьером и Деррида по части призраков заключается в том, что для Рансьера это всегда «одним-больше», а для Деррида «больше одного… но также и меньше». Призрак Рансьера это то, что должно выступить на свет, появиться, стать в ряд живых, для Деррида такое желание прибавлять призраков и выводить их на свет – один из вариантов экзорцизма, неразличения баррикад. Ведь когда Рансьер призывает мыслить призраками, остаётся неясным как это возможно: если речь о том, чтобы удержать призрака и не заклясть его, то парадокс состоит в том, что движение заклятия призрака его порождает, а попытки призвать его оказываются безуспешны (вспомним неудачную попытку призвать призрак к ответу Горацием в «Гамлете» Шекспира). 310 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 311 Но самый интересный сюжет расхождения этих двух призракологик касается имени Вальтера Беньямина: для Рансьера Беньямин – первый предмет критических нападок, для Деррида – чуть ли не единственный автор, кого в «Призраках Маркса» он не обвиняет в экзорцизме, но наоборот пользуется его ходами. Вот, вкратце, рансьеровская отповедь: «Тезис Беньямина предполагает нечто совсем иное, представляющееся мне сомнительным: выведение эстетических и политических свойств какого-то искусства из его технических свойств… На мой взгляд, нужно воспринимать всё наоборот. Чтобы механические искусства могли предоставить массам – или, скорее, анонимному индивиду – зримость, они прежде всего должны быть признаны в качестве искусств… Можно даже перевернуть эту формулу. Именно потому, что аноним стал художественной темой, сюжетом, его фиксация может стать искусством»[8]. Примечательно, что даже предмет цитирования и отсылок у обоих французских философов один и тот же, а именно тема автомата или же аппарата, технического приспособления. Но один отсылает нас к работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1935), а другой к статье «О понятии истории» (1940), точнее к тем наброскам, над которыми Беньямин работал в последние месяцы жизни. Антиматериалистический, выдержанный в веберианском стиле, посыл Рансьера в данном случае понятен и легко прочитываем, однако дискуссия об аппаратах куда сложнее, чем вопрос о предпочтении социального техническому, он обладает двойным дном. Если вспомнить метафору машины для игры в шахматы из «О понятии истории» Беньямина, – за столом сидит кукла, но в действительности за неё играет отвратительный карлик, спрятанный при помощи системы зеркал – то станет понятным, что для Беньямина не так важно какими именами мы назовём куклу и карлика (материализм и теология), но сам принцип двойной игры, принцип мистификации. Однако здесь же необходимо указать и на то, что даже если не обращать внимание на это непростое отношение Беньямина к материализму, то тема технической фундированности эстетических практик находит столь же непростое развитие. Сложность его состоит в том, что под «аппаратом» понимается не просто техническое приспособление, но конструирование пространства восприятия: для примера, одним из аппаратов, повлёкших «эстетическую революцию» для Деотта оказывается музей. Возвращаясь к теме масс, наряду с вышеуказанными критическими замечаниями в адрес Рансьера необходимо привести ещё одно. Ж.-Л.Деотт в книге «Что такое аппарат? Беньямин, Лиотар, Рансьер» пишет: «Для Рансьера в истории не существует побеждённых, в том смысле в котором о них говорил Беньямин, тех, кто не оставил следа и не занесён в архив, например, побеждённых в пролетарских революциях XIX века, которых скорее можно отнести к политическому и историографическому бессознательному, чему-то вроде исторического психоанализа, в то время как «лишённые доли» Рансьера неизбежно должны обрести свою долю»[9]. Обозначив момент несогла- 312 Материалы международной конференции сия, приведём несколько тезисов, которые кажутся нам существенными для понимания того, что такое массы в эпоху исчезновения. 1. Деотт указывает на появление нового режима художественной мысли, маркированной темой исчезновения. 2. Этот новый номинальный режим искусства ставит проблемы онтологического характера: речь идёт не о том как представить нечто существующее, а о том, существует ли нечто или нет. 3. Подобного рода онтология тяготеет к проекту хантологии Деррида (критика феноменологии и марксизма). 4. Коль скоро необходимо найти объект подобной онтологии, то он должен носить характер избывания, ускользания, исчезновения, т.е. схватываем исключительно как исчезающий (однако здесь необходимо проводить различия между исчезновением и, например, смертью или забвением в хайдеггеровской онтологии). 5. Нам кажется уместным раскрытие фигуры, антифеномена исчезновения в целом через дерридианский «призрак» и далее в плоскости собственно эстетической проблематики через беньяминовскую «ауру» (такой тип присутствия, который не схватываем вне исчезновения). 6. Утрата ауры тесно связана с мультиплицированием объекта, неограниченным разрастанием множественности, настолько, что рамки присутствия неизбежно оказываются слишком узкими. 7. Отсюда, ключевой статус фигуры масс для исчезновенческой эстетики, но не в смысле противостояния некоей внешней элите, поскольку уже внутри самих масс, множественности неизбежно появляется интериорный разграничитель, разделяющий чувственность. Примечания 1. Рансьер Ж. На краю политического. М., 2006. С.10. 2. Там же. С.154. 3. Там же. С.163. 4. Там же. С.175. 5. Там же. С.174. 6. Деррида Ж. Призраки Маркса. М., 2006. С.144. 7. Там же. С.143. 8. Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб, 2007. С.33. 9. Déotte J.-L. Qu’est-ce qu’un appareil? Benjamin, Lyotard, Rancière. Paris, 2007. P.85. Выполнено при поддержке РГНФ 08-03-00550а Черникова В.Е. доктор философских наук, профессор Ставрополь. Современная культура как способ отражения 312 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 313 социокультурной реальности Современное состояние культуры ставит под сомнение необходимость и возможность выведения единой картины мира. Высокий динамизм, трансформации в современной жизни делают неактуальными проверенные временем теоретические модели: последние реконструируют социокультурную реальность, которой больше нет. Высокая степень рефлексии, возможная благодаря средствам массовой коммуникации, также выступает одним из аргументов в отказе от необходимости создавать картины мира. Если уж говорить о картине мира, то, скорее это будет картина восприятия мира, рассыпавшаяся мозаика картинок, объединенная жизненным миром. В современной социокультурной реальности с особой силой проявились интегративные тенденции, которые затронули в большей или в меньшей степени философию, науку, религию и искусство. В этот период начинают предприниматься попытки осмысления известных фактов и теорий в новой парадигме, делаются неожиданные открытия. Чем полярнее синтезируемые идеи, тем любопытнее может быть результат. По сути, происходит взаимопроникновение идей, законов, методов, подходов и т.п., которые могут применяться, воспроизводиться в различных материальных формах. Уточняется, что в данном процессе необходима беспристрастность и стремление к «чистоте синтеза» (Г.Гессе). Взаимопроникновение идей из различных сфер свидетельствует о том, что в современной парадигме в процессе концептообразования нет привилегированных концептообразующих феноменов, все приобретает равнозначный статус, взаимодополняя друг друга. Основой сохраняющихся идей, единственной инстанцией, уравнивающей (гармонизирующей) роль различных концептообразующих феноменов и сохраняющей целостность современной культуры, является жизненный мир, который выступает в качестве своеобразного средства синтеза культуры. Искусство как явление социокультурное, с одной стороны, является транслятором культуры, с другой – активно участвует в формировании представлений о мире. От древности до современности существовала тенденция развития искусства в целом. Перелом же, произошедший в культуре на рубеже ХIХ-ХХ веков, эту тенденцию нарушил. К началу ХХ века европейское искусство приобрел новые черты. Как показал опыт прошлого столетия, искусству никогда не приходилось играть столь значительной роли в истории человечества, как в ХХ веке. Черты постмодернизма, кардинальным образом изменившего мировоззрение человека, став, скорее мировосприятием и мироощущением, первоначально обнаружили себя в искусстве. Кино, являясь одним из видов искусства, изменило способ восприятия реальности человеком: восприятие строится не по правилам чувственности и знания, а по правилам, сформированным кинематографом, по законам кадрирования, панорамирования, монтажа. Таким образом, кино меняет сложившийся в традиционном искусстве образ: это не образ-представление или образ- 314 Материалы международной конференции изображение. Это образ-движение (Ж.Делез), который предполагает освоение правил, называемых философом педагогикой перцепции. Каждый человек наделен опытом кинозрителя – типом образности, сформированным под влиянием кинематографа, где субъект восприятия не отдельный человек, а масса, «некто» повседневности. Кино обучает особому способу восприятия, приучая к определенной схеме. Кино – это актуализированное воспоминание, причем всегда воспоминание несобственное. Требуется отметить, что работы Ж.Делеза сыграли важнейшую роль в осмыслении современной социокультурной реальности. Найдя философию за ее пределами, он показал новые пути формирования понятий «смысла», «времени», подошел к литературе и искусству не как к предмету философствования, а как к способам философствования. Ключом к пониманию современного искусства может стать переосмысление аристотелевского понятия «мимезиса» («подражания»). Вплоть до ХХ века сохранялось представление об искусстве и литературе как о подражании природе. В прошлом столетии проблема мимезиса была подвержена глубокому переосмыслению. Проявилось это, прежде всего, в абстрактном искусстве, структурной лингвистике, семиотике, когда исследователи отвернулись от «внеязыкового референта» (Ж.Деррида). Суть «нового мимезиса» в признании дискретности картины мира, в ее неопределенности, незавершенности. В начале ХХ века в искусстве проявляет себя направление, нацеленное на создание новой реальности. Зарождение нового зрительного образа началось в живописи. Революционным направлением в искусстве, оказавшим значительное влияние на изменение канонизировавших классической живописью путей восприятия, стал супрематизм, впитавший в себя наследие французского кубизма и итальянского футуризма, или искусство геометрической абстракции К.Малевича. Супрематизм был призван полностью уничтожить любые ассоциативные связи живописи с природой и «обнулить» все формы. Сам К.Малевич считал, что создает новое учение о смысле жизни, свои работы он интерпретировал как его знаки. Для него супрематизм – это не просто живопись, это – философия. Так, квадрат – в символике К.Малевича– намекал на свернутые, нераскрытые силы пространства и времени, на «ноль форм», квадрат как базисный элемент бытия и мира. В определенном смысле «новая реальность» как поиск истинной картины мира в искусстве обнаруживает близость с современными философскими направлениями, такие как структурализм и феноменология. Если раньше искусство отражало реальность, то теперь оно, в определенном смысле опережает ее. Если ранее художнику приходилось открывать новые образы пространства, то сегодня он их создает. Отверженные современным искусством каноны, традиционные законы и установления позволяют ему создавать творения, не управляемые никакими правилами. 314 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 315 В условиях постмодернизма взаимодействие науки и искусства также претерпело определенную трансформацию: в современном искусстве представлена не наука, а повседневность. Если в Новое время наука и искусство были переплетены теснейшим образом, представляя образы пространства и времени, сформированные в лоне естествознания, как общекультурные, то в наше время искусство все меньше коррелирует с классической наукой, все больше сближаясь с повседневностью, и тем самым обращаясь к жизненному миру. Искусство становится не только способом отражения реальности, сколько способом ее конструирования, способом философствования и видения. Концептуальный и технический арсенал современного искусства во все большей степени пополняется средствами информатики и телекоммуникации. Современный человек является свидетелем кардинального изменения отношений в социуме, происходящего вследствие широкого применения в художественной практике современных компьютерных технологий. Получение изображения не является более монополией жеста художника, оно может быть результатом расчетов и цифровых манипуляций. Видимое синтетическое изображение не нуждается в физическом присутствии субъекта для своего воплощения, оно возникает и существует как бы само по себе, хотя у конкретной программы всегда имеется свой автор. Однако искусство продолжает занимать особое место в отражении реальности. Для многих современных художников все более распространенной становится работа на стыке «искусство-технология», при этом речь идет не о том, чтобы изобразить извне процесс воспроизводства, но о том, чтобы расшифровать общественные отношения, которые этим процессом порождаются. Функция искусства в этой связи заключается в использовании навыков поведения и восприятия, вводимых технологическим процессом, для преобразования их в «возможности жизни» (по выражению Ф.Ницше). Искусство можно определить как процесс, в котором происходит жизненно важная процедура обмена значениями, которые являются социальными конструктами и носят изменчивый, зависимый от места и времени характер. В своих новых формах произведение искусства становится не только объектом рефлексии, но также формой и местом рефлексии. Тем самым возрастает значение искусства для более полного философского осмысления первопричин, сущности и последствий социальных взаимодействий. Вторая половина ХХ века и начало XXI века отмечены событиями, существенным образом трансформировавшими социокультурную реальность. В данном случае речь идет о конструктивном вхождении в жизнь общества новейших информационных технологий и о формировании информационного общества. Формирование информационной цивилизации обусловливает возникновение и развитие информационной культуры, от уровня которой зависит способность современного человека к восприятию и обработке ин- 316 Материалы международной конференции формации, овладению современными средствами, методами и технологией работы. Одно из предназначений современного искусства в социокультурном пространстве информационного общества – это демонстрация (в хорошем смысле) того, что процесс информатизации современной культуры в первую очередь предполагает развитие человека и общества, развития положительных моментов влияния информатизации на культуру. Своеобразным эквивалентом классической картине мира в современной культуре может служить реклама, рисуя множественные «картинки» нашего бытия. В ХХ веке реклама заняла одно из самых значительных мест в культуре, являясь сплавом искусства, технического прогресса, идеологии, объединенных жизненным миром человека. В современной рекламе четко прослеживается использование ряда экспериментальных открытий, сделанных представителями оптического искусства, задачей которых было обмануть глаз, спровоцировать на ложную реакцию, вызвать несуществующий образ. Особенность феномена рекламы для современной культуры заключается в первую очередь в непонимании ее значимости со стороны тех, на кого она рассчитана, в недооценке сферы ее воздействия. Реклама прочно заняла в культуре одно из главных смыслообразующих оснований. Классическим (Ф.Котлер) вариантом типологии рекламы является ее деление на три вида: информативная, конкурентная и напоминающая. Поскольку реклама всегда адресована определенной аудитории, она может быть классифицирована по направленности на аудиторию (реклама потребительских товаров, профессиональная и бизнес-реклама), и широте ее охвата (международная, национальная, региональная, местная). Кроме этого рекламу различают по каналам распространения и по целевому назначению. Следует особо выделить рекламу ценностей, которая делится на три типа: чистая социальная реклама, реклама общечеловеческих ценностей, реклама принципов отдельной организации. В современном индивидуалистическом обществе, с его повышенной интеграцией, индивиды уже более не соперничают друг с другом в обладании благами, они самореализуются в своем потреблении, каждый сам по себе. Таким образом, рекламная деятельность в индивидуалистическом обществе обостряет конкурентную борьбу между индивидами, усиливает атомизм общества, тем самым поддерживает фундаментные принципы его жизнедеятельности: индивидуализм и свободу воли. Как способ воздействия на сознание и поведение человека, на установки и ценности общества, как технология управления общественным мнением, реклама занимает особое место, находя свое выражение в научных моделях рекламных технологий. Прежде всего, реклама моделируется как способ убеждения и агитации в пользу рекламируемого объекта, как влияние на выбор товаров и услуг, политической партии, лидера или программы, влияние на отношение к социальной идее или проблеме. Функция рекламы – сооб- 316 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 317 щать информацию, способную изменить непосредственные побуждения субъекта. Моделируя рекламу как способ влияния на сознание и поведение субъекта, можно связать действенность рекламы с рядом характеристик: реклама обладает возможностью транслировать идеологические конструкты и даже подменять реальность; реклама осуществляет перенос социального статуса или индивидуального чувства на определенный продукт; реклама является одной из специфических форм власти, основанной на убеждении. В рамках рекламного коммуникативного процесса большую роль играет визуальная коммуникация, которая включает в себя «собственный язык» передачи информации и создания рекламного образа. Каждый вид рекламы говорит на своем особом языке, используя специфические средства. Своеобразие рекламы складывается благодаря ее стилевым особенностям. Понятие «стиль» включает в себя особенности изображения, совокупность типичных норм поведения и деятельности людей. Особенности образа жизни и стереотипов поведения – это то, что в наибольшей мере отличает представителей разных наций, социальных слоев, профессий. Самые прогрессивные технологии, мультимедиа становятся средствами рекламного творчества. «Универсальное» мультимедийное рекламное послание состоит из трех элементов: цвета, изображения и субтитра – некой смысловой триады. Цвет и изображение в рекламном образе имеют известную долю автономии, поскольку это производные искусства. Субтитр придает рекламному сообщению законченность и трактует цвет и изображение. Особенностью социокультурного пространства информационного общества является такая ситуация информационного взрыва, когда объем рекламной информации даже по узкой профессиональной сфере деятельности превышает возможности человека ее воспринимать и анализировать в полном объеме. Нарастающая сила потока информационного (в том числе рекламного) обмена между людьми породила новый тип культуры, новый тип жизненной реальности, в которой все подчинено необходимости классификации, унификации с целью наибольшей компрессии и повышения эффективности при передачи информации от человека к человеку, будь то лично или через СМИ. В социокультурном пространстве информационного общества сочетаются две противоположные тенденции. С одной стороны, глобализация информационного рынка приводит к унификации массовой информации, к тому, что общезначимые события становятся объектом повышенного внимания. С другой стороны, наблюдается противоположная тенденция: возможность диверсификации информационных услуг по региональным или содержательным признакам. Небольшие сообщества или национальные образования получают возможность развивать свою культуру, сохранять язык, формировать чувство духовного единства. 318 Материалы международной конференции Целенаправленные усилия общества и государства по развитию информационной культуры населения являются обязательными при продвижении по пути к информационному обществу. Информационная культура включает в себя больше, чем простой набор навыков технической обработки информации с помощью компьютера и телекоммуникационных средств. Информационная культура становится частью общечеловеческой культуры. Культурный (в широком смысле) человек должен уметь оценивать получаемую информацию качественно, понимать ее полезность, достоверность. Важной особенностью информационной культуры является формирование сетевой культуры. Ее проявления многолики и ведут к формированию виртуальных сообществ людей, не ограниченных пространственными рамками, странами и континентами. Таким образом, размышляя об особенностях социокультурного пространства информационного общества, зачастую имеются в виду взаимоотношения «человек-Сеть». Специфической чертой информационного общества является то, что существованию обособленных, изолированных друг от друга социокультурных миров приходит конец. Они все теснее сближаются, скрепляются множеством разнообразных контактов в единую систему мировой культуры. В целом, культура современного общества пронизана духом постмодернизма с его особым отношением к смыслу, традициям и игре, а социальные отношения как прямо так и опосредованно зависят от уровня развития информационных технологий и самой информационной культуры общества. Поэтому не должно быть однозначного отношения к возможностям Интернета и информационных технологий. В этих условиях ни одно государство не может развивать свое социокультурное пространство «независимым» путем, вне единой мировой информационной культуры человечества. Чертов Л.Ф. кандидат философских наук Санкт-Петербург Кому улыбается Мона Лиза? (О взаимном проникновении элитарного и массового в искусстве) Когда флорентийский патриций Франческо дель Джокондо заказывал портрет своей супруги известному живописцу Леонардо из Винчи, он вряд ли подозревал, какая судьба ждет это изображение. Может быть, он и отказался бы от своей затеи, если бы знал, что портрет его любимой жены со временем не только станет цениться как высшее достижение искусства, но и разойдется в тысячах репродукций, напечатанных на открытках, плакатах, блокнотах, пудреницах, футболках, мешочках, салфетках и многом другом. Такое соединение «высокого» и «низкого», причастность одновременно к 318 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 319 элитарному искусству и к массовой культуре присутствовало уже при создании ставшего столь популярным произведения. По свидетельству Вазари, Леонардо, когда писал портрет Моны Лизы, прибег к «уловке»: «он держал при ней певцов, музыкантов и постоянно шутов, поддерживавших в ней веселость»[1]. Если живая Мона Лиза улыбалась отчасти галантному живописцу, отчасти веселившим ее шутам, то подобную двусмысленность сохраняет и «загадочная» улыбка на ее портрете, адресуясь одновременно и к знатокам, и к широкой публике. В своем публичном существовании, эта улыбка, оторванная от оригинала и оставшаяся от него на множестве воспроизведений, заметно трансформируется и часто превращается в разного рода гримасы. При том, что сам Леонардо считал свое произведение неоконченным, хотя и работал над ним четыре года, репродукции этого портрета считаются готовым товаром, даже при весьма скромном качестве их печати. Однако полиграфические деформации не мешают, а только помогают снять психологические тонкости выражения и превратить портрет в эмблему и чуть ли не в условный знак «высокого искусства». Этот знак может служить, пожалуй, и символом проблемы соотношений между элитарным искусством и массовой культурой, давая повод задуматься об относительности границ между ними и об их взаимопроникновении. Уже сами понятия «элитарной» и «массовой» культуры относительны и нуждаются в уточнении. Какая элита имеется в виду? Элита социальная (власть), элита финансовая, элита интеллектуальная, элита художественная? Все это разные элиты, и даже, в определенном смысле – разные культуры. Успешный финансист или сделавший удачную карьеру чиновник не обязательно должен быть интеллектуалом, и, тем более, – художником. В свою очередь, тонкий художник может быть далеким от каких-то социальных и культурных элит. Он может затрудняться, когда приходится выражать свои мысли словами, так же как блестящий оратор может оставаться далеким от искусства. То, что в социальной элите принято как нечто подобающее высокому рангу, то с позиций художника может выглядеть, как признак очень невзыскательного вкуса. Для поэта весь «высший свет» может представляться «чернью», а массовый фольклор, наоборот, источником высокого вдохновения. Поэтому точнее говорить не о единой «элитарной культуре», а о «культуре элит» или даже – об их «культурах» – во множественном числе, – поскольку в каждой из них складывается своя шкала ценностей, норм и предпочтений. С другой стороны, «массовая культура» тоже не слишком хорошо определенное понятие. Принадлежит ли массовой культуре все то, что популярно? Если Шекспир и Чехов оказываются в числе самых кассовых драматургов, значит ли это, что их пьесы – часть массовой культуры? При всей неопределенности понятий элитарной и массовой культуры, само расслоение культуры на уровни достаточно очевидно и столь же старо, 320 Материалы международной конференции как и расслоение общества на классы и сословия. Культура жрецов, посвященных в таинства, культура аристократов, обладающих досугом для занятий искусством и философией, культура горожан, владеющих грамотой и т.д., всегда в большей или меньшей мере отличались и обособлялись от культуры менее просвещенного «большинства». Степень этого противопоставления можно отмечать по шкале градаций между культурой и природой, если согласиться, что какие-то формы культуры остаются ближе к природе, а какие-то уходят от нее все дальше и дальше. В этом отношении крестьянская культура будет очевидно «ближе к природе», чем городская, фольклор - ближе, чем «ученое» искусство, описанная М.Бахтиным народная смеховая культура с ее интерпретациями тела – ближе, чем культура монастырей, избегающая телесного и концентрирующаяся на духовном. Взаимное отгораживание разных культур проявляется, в частности, через обособление тех семиотических систем, с помощью которых в них происходит выражение смыслов. Язык жрецов носит эзотерический характер, он может быть заимствованным или реликтом древнего языка (как латынь или церковно-славянский). «Изящная словесность» аристократической культуры обособляется от «вульгарного» языка народа. «Ученое искусство» развивает системы символов и аллегорий, непонятные для непосвященных. Различение «более высокого» и «более низкого» по традиции, идущей еще от Аристотеля, распространяется и на сами искусства. «Свободные» искусства, вдохновляемые музами, долго считались занятием более достойным для элиты общества, чем искусства, требующие ручного труда, близкого труду ремесленника. Тот же Леонардо должен был отстаивать достоинство занятий живописца, сравнимых с занятиями поэта и музыканта и требующих серьезного овладения «наукой живописи»[2]. Расслоение культуры на массовую и элитарную проявляется, в частности, в дифференциации вкусов. Стремясь обособиться от всего «низкого» и «вульгарного», элитарная культура традиционно позиционирует себя как культура «высокого вкуса». Правда, «вкус» тоже трудно определить достаточно строго. В признаки этого понятия включаются два плохо сочетающиеся свойства: суждения вкуса, с одной стороны, не опираются на какие-либо достоверные знания – эмпирические или теоретические, – но, с другой стороны, они претендуют на общезначимость и обязательность. С позиций субъекта, высказывающего определенные вкусовые суждения, вкус либо есть, либо его нет; то, что не отвечает вкусовым требованиям оценивающего, он рассматривает как «безвкусицу». Рефлексия над суждениями вкуса приводит к констатации их различий, а стремление утвердить их неравноценность – к противопоставлению вкуса «хорошего» и «дурного», «более высокого» и «более низкого» и т.п. Эта дифференциация вкусов проявляется в том, на какой идеал красоты ориентируется эстетическое сознание оценивающего, что оно готово признавать красивым, а что – безобразным. Вкусовые предпо- 320 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 321 чтения исторически изменчивы и могут быть вызваны, в частности, стремлением культуры элит отгородиться от культуры масс, отделиться от нее с помощью все новых и новых стилистических новшеств и изысков художественного языка. С этой точки зрения, вся эволюция стилей – не только в новой, но и в древней истории – может предстать как результат подобного «убегания» от того, что слишком укоренилось в массовом сознании и стало банальным. Формой такого отгораживания может быть высокий эстетизм, «дендизм», вкус ко всему изящному, тонкому, искусному, понятому как «искусственное». Но, возможно и другое настроение элитарной культуры, когда она стремится, наоборот, снять свое обособление от природы и принимает призыв Ж.-Ж.Руссо: «Назад, к природе!». Движимые такими настроениями, представители элитарной культуры вводят моду на пасторали, «идут в народ», собирают фольклор, привносят его мотивы в профессиональное искусство, стилизуют его под народное и т.п. В рамках того же приближения к природе можно рассматривать и выход на пленэр художников – барбизонцев, импрессионистов и др. С другой стороны, «на площадь» выходят и плоды профессиональной деятельности художников или поэтов, обретая популярность и становясь частью уже не элитарной, а массовой культуры. Работы тех же импрессионистов, например, вначале совершенно чуждые неподготовленному восприятию, со временем становятся настолько популярными, что их репродукции начинают использоваться для украшения промышленных изделий – чашек, тарелок, сумочек и т.п., – что очевидно служит признаком их перевода на уровень массовой культуры. В отличие от элитарной, массовая культура как будто бы демократична, «всеядна» и готова поглощать все, что попадает в ее оборот, включая и плоды элитарной культуры. Однако, это не совсем так, и вопреки кажущейся всеядности, «площадная» культура, в свою очередь, производит отбор того, что может быть ею принято, отторгая все, что оказывается непонятным ее носителям. При этом она обнаруживает свойство, характерное для фольклора, которое П.Богатырев и Р.Якобсон назвали «цензурой коллектива»[3]. Это свойство состоит в том, что коллектив способен сохранить в своей культурной памяти только то, что его члены могут воспринять и передать другим. Все индивидуальное, специфическое, не усваиваемое посредниками, в коллективную память не попадает и потому фольклорным сознанием отторгается. Выйти из-под «цензуры» такого сознания в свое время дало возможность появление письменности, позволившее индивидуальному творчеству сохранять свои плоды в форме авторских произведений литературы, философии, науки и т.п. Условия для еще большего их распространения создало изобретение книгопечатания и других способов механического тиражирования оригинальных текстов. Но, с другой стороны, оно же снова сделало их зависи- 322 Материалы международной конференции мым от популярности, то есть – от все той же готовности массового сознания принять или не принять их, «просеивая» через свою цензуру. В новом своем варианте такая цензура пропускает в массовую культуру только то, что «хорошо идет»: кассовые фильмы, книги для чтения в метро, популярные мелодии, шлягеры и т.п., оставляя за своими пределами то, что у «среднего потребителя» успеха не имеет. Проходя сквозь подобный «фильтр», произведение не всегда сохраняет в целостности свою художественную форму, а его содержание нередко подвергается профанации. Поэтому популярность произведения оказывается сомнительным достоинством по меркам «высокого» вкуса. Мадонна Рафаэля, растиражированная в тысячах олеографий, путти, «сбежавшие» от нее и зажившие самостоятельной жизнью на конфетных коробках или «Мона Лиза», снявшаяся в популярном кинофильме, оказываются вовлеченными в жизнь «площадной» культуры настолько, что «высокий» вкус теперь взирает на них не без иронии и, кажется, уже готов «отдать» и их всепоглощающему китчу. Всепоглощающему, ибо, начав с маргинальных позиций, он вбирает в себя все больше и больше того, что «элитарная» культура постепенно уступает «массовой». Из «дешевого фантома прекрасного», имитирующего произведения искусства для неразвитых вкусов, китч все более разрастается в нешуточную область артефактов, которым элитарная культура отказывает в эстетической и художественной ценности, даже если они в свое время и были ее собственным порождением. Сама красота, как эстетическая ценность и, особенно, – как необходимый атрибут искусства, при этом оказывается перед угрозой быть отвергнутой «строгим вкусом» и отлученной от искусства за то, что на нее заглядывается и массовый потребитель. Сегодня с позиций сурового вкуса уже и художественные музеи могут трактоваться не как былые «обители муз», а как прозаичные места столпотворения туристов и организации их досуга. В самом деле, посещение хотя бы той же Джоконды становится аттракционом, построенным по схеме голливудского триллера. Здесь есть и мотив погони, связанный с ее поиском по рассыпанным в залах Лувра стрелкам, и мотив нетерпеливого ожидания в очереди паломников, отгороженной от остальной галереи, и мотив отречения ради встречи с главной героиней от всего остального искусства, и, наконец, апофеоз – свидание со знаменитостью, как звездой нашумевших романов и фильмов. Правда, и на этом свидании героиня сохраняет дистанцию, пряча свою улыбку за бронированным стеклом, в котором ее призрачные очертания теряются за отражением толпы туристов, снимающих всеобщую любимицу в доказательство того, что свидание с ней состоялось, и хотя бы одно мгновение она улыбалась каждому из них лично. Формы поглощения массовой культурой произведений высокого искусства могут быть самыми разными и включать в себя, например, освоение архитектурно оформленного пространства и продуктов дизайна, заполняющих предметную среду. В этой среде время от времени могут появляться 322 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 323 узнаваемые лица, перешедшие с классических полотен на рекламные баннеры, фарфоровые изделия с напечатанными на них репродукциями картин К.Моне или Г.Климта, гламурные журналы с фоторекламой от лучших студий и т.п. Целая индустрия занята созданием вещей, призванных удовлетворять желание потребителя приобрести что-нибудь, причастное популярным произведениям искусства. Реагируя на повсеместное внедрение «в жизнь» этих произведений, изувеченных тиражом и выхолощенных по смыслу, творческая элита либо становятся в оппозицию, формула которой – «пощечина общественному вкусу», либо, наоборот, пытается художественно освоить типичные формы массовой культуры, имитируя их и доводя до абсурда. Этот прием еще полвека назад освоили художники поп-арта, которые стали обыгрывать такие типичные признаки культуры потребления, как тиражированность и стандартность продуктов массового производства. У Энди Уорхола в одном ряду с мультиплицированными изображениями бутылки из-под кока-колы и банки с концентратом супа оказывается и серия из тридцати репродукций все той же «Джоконды» под характерным названием: «Тридцать лучше, чем одна». Если Леонардо видел достоинство своего искусства в том, что живопись «никогда не порождает детей, равных себе», ибо ее копии не равноценны оригиналу[4], то вооруженный новым техническим оснащением художник как будто рад знаменовать переход произведения своего предшественника в некое культурное «инобытие», в котором оно утрачивает неповторимость и отождествляется с множеством своих репродукций, столь же обезличенных, как и товары массового потребления. Прием многократного повторения по одному клише, взятый искусством из массовой культуры вначале как ее пародируемая особенность, со временем все больше превращается в особенность уже самого нового искусства. Завораживающая механичность тиражирования увлекает его настолько, что, кажется, само по себе повторение чего угодно становится самодовлеющей ценностью. Типичными произведениями на выставках, таких, как, например, «Документа» в Касселе, становятся необозримые серии монотонно повторяющихся элементов, например, перечисление чисел натурального ряда, способное занять несколько этажей выставочного помещения. При минимальном содержании и скромном качестве такие серии поражают только своим количеством. Но художнику, сделавшему неутомимость своей главной доблестью, не хватает и огромных экспозиционных территорий, чтобы обрести утерянный смысл, для выражения которого средневековому мастеру было достаточно одной миниатюры. Примечания 1. Вазари, Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих эпохи Возрождения. СПб., 1992. С.205. 324 Материалы международной конференции 2. Леонардо да Винчи. Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором // Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Минск, 2000. С.242-270. 3. Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С.369-383. 4. Леонардо да Винчи. Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором // Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Минск, 2000. С.244. Шичанина Ю.В. кандидат философских наук, доцент Ростов-на-Дону Сверхчеловек как элитарный и массовый феномен современной культуры В современной культуре идея Сверхчеловека – это одновременно мистическая интуиция, апокалипсическое предчувствие и неотвратимая перспектива технического развития; то, что должно быть, и одновременно то, чего, с человеческой точки зрения, быть не может. С принципиальной запредельностью сверхчеловеческого связаны определенные методологические сложности исследования данной темы: ограниченность человеческих средств описания и анализа. И тем не менее можно выделить деятельное и бытийное понимание сверхчеловеческого. В современной культуре обе означенные интерпретации идейно восходят к философии Ф.Ницше и оказываются несамодостаточными. Деятельное понимание Сверхчеловека связано со сверхвозможностями по преобразованию материальной вселенной, которые приобретаются на путях волевого самоутверждения и самопреодоления личности, выхода за пределы социокультурной меры. Данное понимание нашло свое выражение и продолжение в экзистенциальном направлении современной философии и в техноцентристских версиях преображения человека. Бытийное понимание сверхчеловеческого по преимуществу связано с представлениями о внутренней эволюции сознания, особой форме бытия за пределами пространственно-временных ограничений и «человеческой точки зрения». Такое понимание в ХХ веке оказалось наиболее востребованным в рамках эзотерической философии «четвертого пути», трансперсональной и гуманистической психологии. Примечательно, что в начале XXI века обессмертившая имя Ф.Ницше концепция прихода Сверхчеловека не только занимает умы адептов гуманитарного познания, но и широко распространяется в массах. В 324 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 325 элитарном ключе идея сверхчеловека как идея самопреодоления человека – преодоления в себе человеческого как слишком человеческого представлена не только самим Ницше. Интерпретаторами и продолжателями элитарной концепции сверхчеловека можно считать и представителей философии жизни, экзистенциального, экзистенциальнофеноменологического направления западной философии ХХ века, а также русского философа-эзотерика ХХ века П.Д.Успенского и др. «Человек всесильный господин вселенной, так как он сильнее себя самого», – можно резюмировать эту точку зрения. С появлением в массовом обиходе представлений о могуществе и неотвратимости техноэволюции, о принудительном характере усовершенствований, которые она вносит в человеческую природу, идея Сверхчеловека обретает новые смыслы и интерпретации, становится прикладной. Фактически, она приравнивается к осознанию собственных жизненных перспектив, становится частью процесса моделирования будущего. Конкретный, заданный из настоящего ницшеанский вопрос «Что должен делать каждый, чтобы приблизить рождение Сверхчеловека?» сменяется в условиях радикальной технокультуры прогностическими вопросами «А что будет с каждым, когда неизбежно наступит эпоха Сверхчеловека?», «А что будет, если эта вожделенная эра Сверх(Пост-) человечества наступит не для каждого?», «Чем чревато для каждого грядущее неизбежное расслоение на людей и Сверхсуществ нового поколения?» Действительные ответы – прерогатива потомков, гипотетические и возможные – уже сегодня проступают сквозь культурную ткань и философские чаяния современников. Так, герой-Супермен завоевал по всему миру такую популярность, что одного иронично-снисходительного отношения философов к этому феномену уже явно недостаточно. В популярности таких героев масс-медийной культуры как мутанты, киборги, дети-индиго (и прочие радикально усовершенствованные или видоизмененные в результате случайных или целенаправленных действий человека) можно усматривать симптом футурушока и постепенной адаптации к мысли о неизбежности преобразования человеческой природы. Cовременная культура противоречива. Такая культура принимает и новейший, пытающийся преодолеть «искушение запредельным» гуманизм (П.Куртц), и науку, которая о запредельном только и говорит; настойчиво утверждает повседневность и ищет способы прожить обычную жизнь необычным образом; секуляризирует сознание и обожествляет бессознательное; ориентируется на обыденные человеческие потребности и стремится за антропологический горизонт. Масштабно издаваемая и размещаемая на сайтах психологическая, мистико-религиозная и т.д. литература активно призывает человека к сущностной трансформации и «туризму» по иным мирам, прошлым жизням и измененным состояниям сознания. Cоциокультурные практики, благодаря высоким технологиям, стремительно умножают челове- 326 Материалы международной конференции ческие модусы и измерения реальности, способствуют их конкуренции за право реальности «истинной и достоверной». Поэтому актуализация идеи сверхчеловека в современную эпоху культурнообусловлена. Немаловажно, что современная культура – это культура по преимуществу массовая, причем не только в классическом противопоставлении культуре элитарной, а в причудливом единстве своих качественно-количественных определений. Мера данной культуры определяется главным образом через две главные составляющие массовости: рынок и технику, включая массовые средства коммуникации и т.д. Соответственно, к массовой культуре в современную эпоху может принадлежать и массово растиражированный оригинальный (элитарный по этико-эстетическим критериям) продукт, и любой другой пользующийся массовым спросом товар. Вместе с тем для массовой культуры всегда остается характерной тенденция вульгаризации и тривиализации высоких ценностей, коммерческая адаптация авторского самовыражения к потребностям и вкусам среднестатистического человека-потребителя. Можно согласиться с мнением, что массовая культура – это современная культура, а не один из ее модусов. Как нам представляется, феномен Супермена тесно связан с обыденным, повседневным человеческим сознанием, которое, по большому счету, является безрелигиозным, мирским. Мир повседневности (принимая во внимание такие его черты, как прагматичность, стереотипность, интерсубъективность, постоянная динамика непосредственных переживаний, смыслов и целей) лишь отчасти способен принять бескомпромиссный, пафосный, благородный пессимизм философии Ницше, Сартра, Камю, Ортеги-и-Гассета или мистикорелигиозное требование инобытия эзотерических учений. Кроме того, в ХХ веке восстановленное в правах земное существование и человеческая телесность обрели мощное средство к усовершенствованию – технологию. Поэтому и Супермен воплощает не иномирные устремления духа, а совершенство способностей и средств для решения насущных человеческих проблем. Здесь уместно также упомянуть отрефлексированный в рамках психоаналитического направления (Дж.Кэмбелл) архетип героя. Подвиги, свершения, смерть и возрождение героя соответствуют космогонической символике созидания Космоса из Хаоса, а индивидуальная история (рождение и странствия) воспроизводит символику инициации и обрядов перехода. Преображенный герой становится Сверхчеловеком – властелином двух миров, парадоксальным образом обеспечивающим связь посюстороннего с потусторонним, света и тьмы, нуминозности архетипа и обыденности реальности. Современный Сверхчеловек для масс – Супермен тоже архетипический супергерой, хотя и весьма своеобразный. Его оригинальная история в ХХ веке восходит к середине 30-х годов, когда Джери Сайгел (Siegel) написал историю о «человеке (из) стали» – Кларке Кенте. Джо Шустер нарисовал целую серию комиксов, где «человек (из) стали» – высокий, широкоплечий парень с «голливудской» улыбкой – постоянно спасает мир. И мир тотчас же 326 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 327 узнал своего героя. Киноиндустрия дополнила образ Супермена движением и звуком – добавила размах. Теперь обаяние супергероя без труда распространилось на массовую культуру за пределами Американского континента. Можно только удивляться, насколько жизнеспособным оказался Супермен как феномен массовой культуры. За долгие годы «человек (из) стали» получил десятки воплощений-модификаций. Самыми знаменитыми, пожалуй можно назвать Бэтмена, Робокопа, Гайвера, Киберджека, Турбомена, Фантома, Блейда, Спауна, Нео. Причем почти сразу же после экранизации «Man of Steel» феминистки получили от киноиндустрии в подарок «сестру» Супермена – Супергел, а затем кибернетическую Еву, Женщину-кошку, Ядовитый плющ, Тринити и т.п. Этот интересный факт «полового равноправия» со временем вылился в мощную культурную тенденцию, массовую реабилитацию женского героического начала в деле спасения мироздания и человечества. Очевидно также, что образ Супермена не исчерпывается сюжетным полем оригинала. К суперменам можно также добавить серийных «крепких орешков»; неподкупных «слегка крэйзи» полицейских; неотразимых суперагентов и даже защищающих людей «дневных вампиров» (Блейд). Там, где обычные люди покоряются судьбе, супергерои меняют правила. Они – аномалия обыденной жизни, но их иномерность всегда окупается. По законам жанра массовому человечеству не приходится играть главные роли в битве Добра и Зла, Света и Тьмы, «на проходной» земного мира всегда стоит Супермен. Интересно отметить, что, несмотря на архетипическое сходство, Супермен – не герой классической трагедии. Последний велик в своей борьбе за благородное, но, как правило, безнадежное дело. Его основное кредо – «вопреки». Он действует сознательно на свой страх и риск, его бунт высокополётен и глубоко абсурден, поэтому победа, как правило, добывается ценой собственной гибели. Такой герой не столько развлекает, сколько будоражит сознание, вызывая у зрителя катарсис, трагические эмоции и близкие к религиозным переживания. Финал трагедии – торжество божественного в человеческом. Супермен же не может позволить себе мученическую смерть Прометея, хотя украсть огонь у Богов – задача ему по силам. У него большие притязания, могущественные враги и коварные соперники. Но он – счастливчик. В кармане супергероя всегда оказывается «джокер», поэтому в финале – непременный «хеппи енд». Победа Супермена – это безраздельное торжество человеческого, в том числе и над божественным. Кроме того, поскольку массовое сознание тяготеет к наглядности и простоте, Супермен неминуемо приобретает знакомые черты: в нем всегда есть нечто от симпатичного охранника, парламентера-спецназовца и хорошего «парня с нашего двора». И пусть Супермен давно сменил свой синий звездный плащ на более современный «технически навороченный» костюмчик, перемены почти не затронули содержание этого образа на уровне обыденно- 328 Материалы международной конференции го сознания. Человечество, абсолютным большинством, пожелало видеть своего героя «сверхчеловеческим» по форме, но не по содержанию. Пусть Супермен бегает со скоростью света, летает и даже является сыном космической звезды. В душе его обитают вполне человеческие чувства: он влюбляется, бывает растроганным и застенчивым, помогает друзьям. В иных случаях Супермен страдает человеческими пороками и его обуревают безудержные земные страсти. Поэтому, несмотря на всю свою сверхнеуязвимость, способность к невероятным перевоплощениям и трансформациям, Супермен узнаваем и понятен каждому кинозрителю или любителю комиксов. Его человечность преодолевается лишь по части недоработок природы, и обыденное сознание воспринимает этот процесс также естественно, как прививки и закаливание организма. Справедливости ради следует отметить, что образ супергероя все время усложняется. И в этом также есть культурная примета нашего времени. Сегодня неуязвимость Супермена обеспечивается уже не только техническим оснащением костюма, но и силой сознания. Это относительно новый в интерпретации масс-медиа поворот. Таков уже герой фильма «Спаун» (2002 г.). Его супердоспехи управляются ментальным усилием, и только в соответствующем расположении духа он способен эффективно противостоять «силам Тьмы». Те же знаменитые киногерои – рыцари Джедаи (из «Звездных войн» Дж. Лукаса), несмотря на то, что управляют звездолетами и сражаются лазерными мечами, ведут себя почти как посвященные адепты. И все-таки обыденное сознание и массовая культура не заходят в своих эзотерических амбициям слишком далеко. Примером может служить самая популярная версия супермена – Нео – из кинотрилогии братьев Вачовски «Матрица» (2001–2003 гг.). Нео – не просто супермен, а Избранный. Он способен не только на невероятные трансформации цифровой реальности матрицы, но и на пророческое предвидение, осуществление Промысла судьбы. Люди верят в него и поклоняются как богу. Взамен он совершает благородные поступки, впечатляя качеством перевоплощения и исполнения каскадерских трюков. В данном варианте отчетливо просматривается архетипичность супергероя. Вместе с тем данный супергерой имеет все повадки американского Супермена из комиксов. Интересно также, что Нео сражается с другими антропоморфными героями, сверхчеловеческие способности которых даже превосходят его собственные. Однако Нео является настоящим человеком – всего лишь человеком, и в этом его основное достоинство. Так, его главная сила и главная слабость в том, что он способен глубоко любить свою подружку Тринити. Ради любви герой индивидуалистически даже делает глобальный антигуманный выбор: отказывается идти спасать остальное человечество, когда речь идет о спасении жизни любимой. Эмоция побеждает логику, ценность доминирует над доводами, а вера над разумом. Любовь творить чудеса даже в жестко запрограммированном мире цифровых технологий. В очередной раз человеческая природа Супермена побеждает бездушную реальность 328 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 329 машинной цивилизации. Очевидно, что для массового сознания человеческое всегда связано с эмоциональным, и даже Супермен мыслится как в высшей степени эмоциональное существо. Правда, супергероям открывается еще одна важная истина – эмоции не только наполняют жизнь красотой и смыслом, но и делают человека зависимым, страдающим и ранимым. Но весь пафос в том, что решающее слово остается за человеком – за его свободой выбирать между человеческой эмоциональной уязвимостью и «олимпийским спокойствием» Сверхчеловека и киборга. В целом можно сделать вывод, что образ Супермена не только отражает архетип героя, но и выражает сокровенные чаяния массового человека-современника: обретение неуязвимости, сверхвозможностей (выдающиеся таланты, внешность, сила, воля и т.д.), высокой интенсивности эмоциональной жизни. При этом супермен должен быть не абсолютно иномерным обыденному восприятию, не только сверхчеловеком, но и обычным «парнем с нашего двора», которому ничто человеческое не чуждо. При этом остается актуальной проблема межличностной коммуникации, аффектов и свободного выбора. Вместе с тем некоторая эволюция сверхчеловеческого образа в современной массовой культуре происходит по направлению «бытийного» понимания сверхчеловечности. Супермен приобретает черты посвященного адепта, духовного практика. Он побеждает не только за счет технической оснащенности, но и силы разума. Культурной приметой нашего времени можно считать также значительную востребованность на роль Супермена женщины, трансформацию традиционного женского образа. Шуб М.Л. кандидат культурологии, Челябинск Художественное пространство постмодернизма: сближение массового и элитарного О постмодернизме сказано и написано немало; его, пожалуй, можно назвать одной из самых популярных и хорошо изученных тем современной исследовательской практики. Это связано, прежде всего, с яркостью многих актуализированных в постмодернистской концепции проблем, созвучностью их настоящему времени. Постмодернизм, будучи чрезвычайно сложным явлением, предстаёт как многосоставное образование, границы которого размыты, а сущностное содержание определено не достаточно чётко. Надо отметить, что внимание учёных привлекает широкий круг вопросов, так или иначе связанных с культурой постмодернизма: постмодернистская ситуация как феномен современности, этика, эстетика, литература, живопись, кинематография, мода и даже кулинария. Находят своих авторов философские и культурологические концепции постмодернизма: проблемы коммер- 330 Материалы международной конференции циализации современной культуры, соотношения в ней традиций и новаторства, аспекты культурных конформизма и толерантности. Однако в этом достаточно освоенном исследовательском поле имеются содержательные пустоты, к одной из которых можно отнести и проблему соотношения в постмодернизме массовой и элитарной культур. Было бы неверным говорить о том, что вопрос массовой и элитарной культуры в эпоху постмодернизма изучен недостаточно. Работ, затрагивающих проблему неоднородности современной культуры немало. Однако почти все из них ограничиваются по большей части лишь констатацией факта существования массового и элитарного секторов социокультурного пространства, анализом их сущностного содержания и параметров дифференциации. Мы же в настоящей статье попытаемся рассмотреть не столько массовую и элитарную культуры в контексте современности, сколько изучить процессы их программного сближения как стратегию постмодернистского художественного творчества. Оговоримся сразу, что подобные процессы не являются беспрецедентными в истории мировой культуры. Смешение низкого и высокого, массового и элитарного осуществлялось ещё в эпоху Средневековья, в период расцвета карнавалов и общественных празднеств. Однако уникальность постмодернистской ситуации заключается в качественном обновлении механизмов осуществления подобного смешения и слияния. Ниже мы поговорим об одном из подобных механизмов, а именно – о принципе двойного кодирования. Но прежде чем мы перейдём к анализу подобных инструментов, рассмотрим, если можно так выразиться, историко-философскую платформу их появления. Благодаря стремительному расширению систем коммуникаций и транспорта, росту тиражей печатной и видеопродукции, доступности туризма, распространению телевидения, а, главное, развитию компьютерных сетей типа Интернет, «носителями» современной, и в этом смысле единой культуры, стали миллионы и миллионы людей, самых разных по национальному «менталитету», возрасту, по принадлежности к той или иной конкретной локальной и социальной культуре и, что особенно важно, по образовательному и культурному «багажу». В современном обществе художник может создавать произведения искусства в любой точке планеты. Бинарные оппозиции «Восток» – «Запад», «центр» и «провинция» качественно изменились. Культура постмодернизма перестала дифференцироваться на культурный центр и так называемую периферию (то, что в постмодернистской философии принято называть децентрацией). Ацентричность культурного пространства постмодернизма носит программный характер, как утверждал Л.Фидлер в статье «Пересекайте границы, засыпайте рвы»: «нет и не может быть ни элитарной, ни массовой культуры как таковых…Это не просто мнение отдельного человека, это установка, 330 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 331 осмысленная программа целой школы»[1]; и публикация данной работы в журнале «Playboy» практически и наглядно демонстрировала отрицание постмодернизмом аксиологической дифференциации культурного пространства. Таким образом, можно сказать, что философы постмодернизма сознательно и теоретически обоснованно провозгласили отказ от структурирования культуры на массовую и элитарную. Развитие средств коммуникации, как это было показано выше, способствовали «омассовлению» культуры, её демократизации, повышению степени доступа к ней самых разных слоёв населения. Но при этом, было бы неправильно не сказать о том, что теоретики и практики постмодернизма заявляли о некоей избранности потребителей своей «продукции» и, соответственно, о глубокой интеллектуальной основе своих произведений. В связи с этим уместнее вести речь не о том, что постмодернизм свёл всё содержание современной культуры к её массовым формам, низвёл её до уровня обывателя, и, однако, не о том, что постмодернистские произведения концептуальны и доступны лишь высокопрофессиональному ценителю художественных ценностей. Вернее было бы назвать постмодернизм особой стратегией, направленной на сближение (если не объединение) двух начал в культуре и двух её потребителей (причём не заметно для обоих). И способом осуществления этой задачи стал так называемый принцип двойного кодирования. Понимание культуры как «культуры корневища» (подробнее о «культуре корневища» см. в работе Ж.Делёза и Ф.Гваттари «Ризома») изменило представление человека о собственном выборе в области культуры. Новый тип культуры (названный философами «культурой корневища») стал для потребителя культурных ценностей своего рода «шведским столом», где каждый имеет возможность «брать с тарелки» (то есть выбирать из ассортимента художественных произведений) все, что захочет, и гурман и невзыскательный человек смогут найти себе «блюдо» по вкусу. В этой несложной метафоре заключается смысл важного принципа постмодернизма, проявившегося и в литературе, и в искусстве, – принципа двойного кодирования, или, как его назвал Ч.Дженкс, принципа «парадоксального дуализма»[2]. Сама постмодернистская поэтика, её интертекстуальная и интерпретирующая ориентация стали мощными катализаторами зарождения двуязыковой зашифровки любого создаваемого произведения. Усилия художников (в широком смысле этого слова) стали направляться на повышение «читательской» активности воспринимающего, на актуализацию его интерпретативных способностей и, в конечном итоге, на адаптацию любого произведения ко вкусам и интеллектуальным ресурсам любого реципиента. Понимание феномена двойного кодирования в постмодернистской культуре весьма неоднозначно и неоднородно. Ряд исследователей под 332 Материалы международной конференции двойным кодированием понимают сочетание метафор, сложный ряд аллюзий, сокрытых под слоем авторского замысла. Так, например, по мнению Р.Барта, под кодированием вообще, и под постмодернистским в частности, следует понимать «ассоциативные поля, определённые типы уже виденного, уже читанного, уже деланного»[3]. В этом смысле код приобретает смысловую нагрузку сложной «двойной» метафоры. В то же время другие авторы (например, И.Ильин) воспринимают двойной код как особую характеристику постмодернистского отношения к проблеме собственного смысла. В рамках данной точки зрения он оказывается стилистическим проявлением «познавательного сомнения», эпистемологической неуверенности, самокомпенсация которых осуществляется с помощью двойного кодирования через совмещение собственного смысла повествования и иронико-игрового смысла интерпретации[4]. На наш взгляд, подобные подходы к проблеме двойного кодирования, безусловно, имеют большое значение для понимания сущности кода культурного текста: символическая природа и компенсаторная функция являются важнейшими характеристиками постмодернистского кода. Однако они не раскрывают сущностной связи процесса зашифровки и дублирования смысла с процессом художественного творчества. Проще говоря, они не предоставляют ответа на вопрос: «как двойное кодирование проявляется в искусстве, в художественном пространстве?», «как оно соотносится с реципиентами культуры?». Ответы на эти вопросы даёт подход к двойному кодированию, сформулированный Ч.Дженксом и Т.Д’аном. Исследователи не отрицают и не критикуют вышеизложенные транскрипции кода, а лишь переносят смысловой акцент понятия «двойного кодирования» из плоскости общефилософских размышлений в сферу его практического воплощения, акцентируя внимание на способности кода диффузионировать массовое и элитарное в культуре. Ч.Дженкс, например, под двойным кодированием понимал «присущее постмодернизму постоянное пародическое сопоставление двух (или более) «текстуальных миров», т.е. различных способов семиотического кодирования эстетических систем»[5]. Т.Д’ан особо подчёркивает тот факт, что, с одной стороны, используя тематический материал и технику популярной, массовой культуры, произведения постмодернизма обладают рекламной привлекательностью предмета массового потребления для всех людей, в том числе и не слишком художественно просвещённых. С другой стороны, пародийным осмыслением более ранних произведений, иронической трактовкой их сюжетов и приёмов они апеллируют к самой искушённой аудитории[6]. Вопрос разрешения противоречия двух пластов культуры средствами постмодернистского двойного кода был поставлен уже упоминавшимся нами Л.Фидлером в статье «Пересекайте границы, засыпайте рвы», в которой 332 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 333 писатель называется «двойным агентом», ориентированным как на элитарный, так и на профанный вкусы»[7]. У. Эко обладателей разных уровней философской, культурной, эстетической подготовки называет «наивными и критическими зрителями». Первые являются «заранее уготованной жертвой собственной стратегии высказывания» и пользуются произведением как «семантической машиной»; вторые представляют собой искушенного читателя, который готов участвовать в игре, предложенной автором, и сознательно направляются в расставленные для него ловушки»[8]. Философ считает, что идеальное произведение постмодернизма должно каким-то образом оказаться «над схваткой культуры элитарной – с массовой, то есть растворить одну в другой»[9]. В двойном кодировании, по нашему убеждению, обнаруживаются истоки амбивалентности философского постмодернизма, заинтересованного в порождении значений, но ставящего их в зависимость от реакции аудитории. Двойная ориентированность текста вводится из расчёта именно на таких реципиентов, которые, с одной стороны, способны оценить иронию, «сделанность» произведения, отследить в нем интертекстуальные коды, а с другой, – имеют возможность развлекаться при восприятии текста и одновременно получать новое знание. Для того чтобы такой контакт стал возможен, чтобы текст был «прочитан» адресатом, постмодернизм и вырабатывает определенные принципы организации сообщения, одним из которых является принцип двойного кодирования. Таким образом, принцип двойного кодирования, проявляющийся в культивировании не одного, центрального, а двух или более равноправных смысловых акцентов, положил начало ситуации диффузии между высоким и массовым искусством и ещё раз свидетельствовал о становлении новой, плюралистической эстетической парадигмы. По мысли Р.Вентури, выраженной в манифесте «Сложность и противоречивость архитектуры», «многокодовость постмодернистского искусства может быть интерпретирована как разрыв с обязательным для классического и модернистского художественного творчества единством и как выражение жизненных ожиданий современного человека, который не только постоянно сталкивается с многообразием и разнородностью, но стремится при этом с лёгкостью профессионала ориентировать в нём»[10]. А Э.Дербшир так определил задачу постмодерниста-художника: «Необходимо создавать сооружения, которые говорят языком форм, понятным для своих пользователей и делать это так, чтобы сказать то, что они захотят слушать»[11]. Примечание. 1. Фидлер Л. Пересекайте рвы, засыпайте границы // Современная западная культурология: самоубийство дискурса. М., 1993 С. С.41 334 Материалы международной конференции 2. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985. С.13. 3. Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С.11. 4. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М ., 1996. С.77. 5. Дженкс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985. С.24. 6. Erickson J. The Fate of the object. From Modern object to Postmodern sign in performance art and poetry. Michigan, 1998. P.96-97 7. Фидлер Л. Пересекайте рвы, засыпайте границы // Современная западная культурология: самоубийство дискурса. М., 1993. С.32. 8. Эко У. Открытое произведение. М., 1998 С.103. 9. Там же. С.55 10. Вентури Р. Сложность и противоречивость архитектуры. М., 2001. С.49 11. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985, С.3. Яковлева А.А. Владивосток Феномен новизны как основание отождествления и различения массовой культуры и массовой коммуникации «Массовая коммуникация и массовая культура: тождество и различия» – предложенная в качестве темы для обсуждения формулировка довольно провокационна. Очевидность того, что данные феномены находятся в отношениях своеобразного «посредничества» – одно является средством для другого, массовая коммуникация является средством трансляции массовой культуры – заставляет недоумевать по поводу поиска оснований для сравнения. Таким образом поставленная задача предполагает различные способы её решения, например, установить тождественность, сделав акцент на «массовости», то есть отсутствии личностного начала, либо указать на внешнее различие – как было отмечено выше, представив одно как средство (посредник) другого. Однако не менее интересной может быть попытка совместить очевидные альтернативы, т.е. выявить различие между данными феноменами именно на основании предварительно установленного тождества. Коммуникация и культура. Массовая коммуникация и массовая культура представляют собой достаточно конкретные (хотя и не всегда легко определяемые) формы проявления социальных феноменов – коммуникации и культуры. Несомненно, коммуникация как факт человеческого бытия есть часть культуры в широком смысле, и, в то же время, включая в себя сферы науки, искусства, массмедиа, морали, религии, культура сама есть многообразие всевозможных видов коммуникации. Кратко онтологический смысл культуры можно выразить следующим образом: культурное есть «предназначенное к пониманию»[1], это мир, кото- 334 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 335 рый что-то говорит человеку, поэтому «в операциональном отношении вполне оправданно понимать культуру как коммуникативную систему»[2]. Коммуникация представляет собой способ со-общения, создание единого смыслового контекста. Техническая сторона коммуникации – донесение предназначенного к пониманию (средство коммуникации выступает медиумом, передающим сообщение), и в данном случае обозначение рассматриваемых феноменов как коммуникативных является основой для выявления их тождественности. Массовая коммуникация и массовая культура. По определению Дж.Томпсона массовая коммуникация есть «институционализированное производство и общее распространение символических материалов посредством фиксирования и передачи информации или символического содержания»[3]; по мнению отечественных исследователей, это разновидность социальной коммуникации, осуществляемой «на уровне общества в целом, в отличие от таких видов социальной коммуникации, как внутриинституциональная (на уровне социальных институтов, организаций), меж- и внутригрупповая (на уровне групп различного типа) и интерперсональная коммуникация (интеракция)»[4]. К концу XIX века в Западной Европе складывается новый тип посттрадиционной индустриальной культуры, духовно-культурное пространство к этому времени становится экономически релевантным. Появление и усовершенствование средств массовой коммуникации (под субъектами таковой понимаются «институционально организованные и использующие технические средства отправители посланий… К средствам массовой коммуникации относятся пресса, электронные средств массовой коммуникации – радио и телевидение, а также кинематограф»[5]) позволило выявить новые потенциальные возможности духовно-культурного пространства и превратить его из отстающего статичного «младшего брата» экономической и социально-политической сферы в обладающий собственной динамикой фактор, в значительной степени определяющий развитие экономики, политики и социума в целом. Таким образом, массовая коммуникация и массовая культура – вполне исторические (контекстуальные) феномены: развитие науки и техники способствовали возникновению средств массовой коммуникации, которые, в свою очередь, явились условием возможности распространения такой формы культуры как массовая в ситуации индустриального производства, рыночной экономики, урбанизации и демократизации. Начиная с момента, когда коммуникация становится базовой структурой общественной жизни, превращается в систему массовой коммуникации, культура обнаруживает свою новую форму – форму массовой культуры. Феномен новизны: тождество. Ввиду многозначности рассматриваемых феноменов необходимо указать, что они означают в рамках данной работы. Массовую культуру следует понимать как систему порождения и трансляции социального опыта[6]. Под массовой коммуникацией понимается способ 336 Материалы международной конференции организации трансляции (процесса распространения сообщений) на уровне общества в целом, осуществляемый институционально организованным отправителем, удалённым от адресата. Понимаемые как «каналы связи» в структуре коммуникации и рассматриваемые в конкретном историческом контексте, массовая коммуникация и массовая культура тождественны по основанию новизны сообщаемого (транслируемого). Контекстуальность рассматриваемых феноменов означает необходимость учитывать особенность исторической ситуации времени их появления, т.е. времени изменения вектора развития общества, смены ориентации на прошлое и традицию ориентацией на современность и инновацию. Если в культуре традиционного общества «позиция новизны была принципиально принижена – сводилась большей частью к перекомпозиции заданных смысловых элементов»[7], то одной из особенностей массовой культуры оказывается сосредоточенность на новизне, акцентуация ускоренного ритма социального времени. В отношении ритма следует отметить наличие феномена «насильственного устаревания» как способа интенсифицировать процесс производства[8]: одним из способов интенсифицировать и увеличить объём потребления продуктов духовно-культурной сферы является возможность посредством СМИ не только поднять рейтинг какого-либо товара, но также и «состарить» (т.е. сделать немодным) его. Это ещё больше ускоряет процесс обновления, становится неким «механизмом забвения» в массовой культуре, «условием, без которого нет нового»[9]. Технически массовая коммуникация осуществляется посредством массмедиа, под которыми понимаются «все общественные учреждения, использующие технические средства для распространения сообщений»[10]. В ситуации «модерна», сосредоточенности социальной жизни на современности, ускорение социального времени и концентрация социальных процессов отразились на массмедиа: безусловным требованием стала необходимость реагирования посредством непрерывно сменяющихся потоков транслируемых сообщений, отсутствие немедленной реакции маркирует «несовременность» и грозит потерей аудитории. Массовая коммуникация как способ «удалённой» трансляции не может позволить себе нечто не-новое, что допустимо, например, при коммуникации лицом-к-лицу, когда сообщается новое не о некоем положении дел, событиях, совершающихся в окружающем мире, а о собственном состоянии респондента. (Стоит обратить внимание на следующее обстоятельство: как таковое сообщение подразумевает несение чего-то нового, иначе «коммуникативный акт утрачивает свой культурный облик и становится формой принуждения или сигналом к запуску некой программы действий»[11]; однако в отношении массовой культуры и массовой коммуникации можно утверждать, что транслируемый контент довольно часто принимает форму именно принуждения – достаточно указать на рекламу). Феномен новизны: различие. Различие между рассматриваемыми феноменами выводится из тождественности их как коммуникативных систем, транс- 336 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 337 лирующих новое: различие обнаруживается при определении условий появления нового в отношении каждого из феноменов. Если для массовой коммуникации условием появления нового будет преимущественно инорефернция, то массовая культура в этом отношении самореферентна. Данные понятия употребляются здесь в отличном, нежели в теории систем (тот или иной вид системной референции, лежащей в основе производимых системой операций), смысле: они означают принцип появления в коммуникации нового посредством отсылки (фр. référence – ссылка) вовне или же на «самое себя». В массмедиа новое появляется при условии инореференции – обращения вовне, к событиям, происходящим в окружающем мире. Таким образом понимаемая инореференция является фундирующим, но не единственным условием появления нового в массмедиа: таким условием может являться и отсылка к предыдущим трансляциям тех же массмедиа, упоминаниям какойлибо информации, то есть самореференция, ссылка на себя же, на свои собственные комментарии к событиям. Существует также механизм «конструирования социальных проблем», при котором происходит искусственная проблематизация той или иной социальной ситуации средствами массовой коммуникации ввиду так называемой ситуации отсутствия событийности[12]. Однако такие механизмы массмедиа не представляет собой определяющего фактора в отношении появления нового. В случае с массовой культурой перспектива в ней смещается к самореференции. Массовая культура представляет собой превращённую форму культуры: она есть новообразование посттрадиционного общества, восполняющее создавшуюся в результате утраты традиционных связей и отношений пустоту, обеспечивающее производство, хранение и трансляцию программ деятельности, поведения и общения. В системе, представляющей собой превращённую форму, «продукты процесса выступают как его условия, встраиваются в его начало в виде предваряющих “моделей”, “программ”»[13]. Образование нового в массовой культуре представляет собой круговое движение: на уровне превращенной формы «продукты системы определяются, по сути дела, тавтологически, ими же самими»[14]. Воспроизводство культуры с опорой на собственные силы, за счёт этнических и демографических различий, дифференциации и взаимопроникновения форм и видов, «разницы потенциалов» народной и профессиональной культуры и др. позволяет говорить о её самореферентности как условия появления качественно новых изменений. В противоположность этому однородность, гомогенность массовой культуры, доминирование «основного течения» (мэйнстрим) при отсутствии паритета форм и стилей указывает на отсутствие в ней инокачественного резерва для собственного развития. То новое, которое появляется в массовой культуре посредством инореференции, низводится в ней до соответствующего уровня и качества (омассовление), инореференция, таким образом, представляет собой вынужденный и «нежелательный» механизм появления качественно нового в массовой культуре, 338 Материалы международной конференции что позволяет констатировать принципиальный консерватизм массовой культуры. Условием появления нового в массовой культуре будет «превращённая» самореферентность, представляющая собой механизм создания нового «из себя», новое при этом – лишь перегруппировка уже имеющихся внутренних смысловых элементов. В отличие от культуры традиционного общества с аналогичным отношением к позиции новизны, в массовой культуре работают только «короткие истории», сменяющие друг друга во временном потоке. Одним из значений нового является отрицание повторяемости в ряде предшествующих событий. В коммуникации, формой которой является массовая культура, новое является таковым постольку, поскольку обладает смыслом в качестве того, что «подсоединилось, встроилось во временную последовательность событий… Смысл – это то, что имеет смысл по отношению к прошлым операциям системы или может иметь смысл по отношению к будущим»[15]. Не обладая качественной новизной, появляющееся в массовой культуре новое позволяет ей воспроизводить саму себя за счёт преходящих, бесконечно сменяющих друг друга «коротких историй». Резюмируя, можно сказать следующее: как формы коммуникации массовая культура и массовая коммуникация тождественны по основанию необходимой для обеих новизны транслируемого; различны же они в самом способе получения этого нового посредством либо самореференции (изнутри себя же), либо инореференции (как отсылки вовне). Примечания 1. Ячин С.Е. Человек в последовательности событий жертвы, дара и обмена. Владивосток, 2001. С.82. 2. Там же. С.279. 3. Цит. по: Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора социологических наук (22.00.04) / Электронный ресурс: http://mediart.ru/content/view/57/642 4. Дъякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая коммуникация // Социальная философия: Словарь. М., 2003. С.224. 5. Там же. 6. Биричевская О.Ю. Природа и социальные функции массой культуры. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора философских наук (09.00.11) / Электронный ресурс: http://vak.ed.gov.ru/announcements/filosof/BirichevskayaOYu.doc 7. Ячин С.Е. Человек в последовательности событий жертвы, дара и обмена. Владивосток, 2001. С.80. 8. См. об этом: Подорога В.А. Быть возвышенным сегодня – это быть немодным / Электронный ресурс: http://magazines.russ.ru/km/2003/3/fil.html 338 Горизонты культуры: от массовой до элитарной 339 9. См. об этом: Подорога В.А. Грамматика ускорения / Электронный ресурс: http://exlibris.ng.ru/koncep/2003-03-13/1 podoroga.html 10. Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005. С.9. 11. Ячин С.Е. Человек в последовательности событий жертвы, дара и обмена. Владивосток, 2001. С.79 12. О концепции конструирования социальных проблем см.: Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации. Казань, 2004. - 200 с. Основной акцент делается на конкуренции между социальными проблемами за место в «повестке дня», устанавливаемой средствами массовой коммуникации. В рамках же данной работы интерес представляет сам способ наполнения транслируемого содержания новым материалом. 13. Мамардашвили М.К. Превращённые формы. О необходимости иррациональных выражений // Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992. С.279. 14. Там же. 15. Антоновский А.Ю. Медиа коммуникации как средства конструирования и познания реальности / Журнал «Эпистемология и философия науки» / Электронный ресурс: http://journal.iph.ras.ru/media.html 340 Содержание Абрамов П.Д. Смысл игры…………………………………………………...…5 Авксентьевская М.В. «Массовость» и «элитарность» в эстетике М.К.Мамардашвили……………………………………………...10 Акопян К.З. Шлягеризация, шоуизация и эксгибиционизация в современной культуре…………………………….15 Баркова Э.В. Классика в структуре современного культурного пространства……………………………………………………21 Беккер М. Шиллер о выражении человеческой индивидуальности в контексте эстетики и ее отношения к массовой культуре……………...27 Белоцерковский О.В. Массовое и элитарное музыкальное искусство на арт-рынке………………………………………33 Беляева Е.В. Элитарная мораль в массовом обществе…………………….37 Борисов С.В. Дискурсивный потенциал наивного философствования: «символический обмен»…………………..43 Буйдина И.Ф. Имидж в магическом круге игры……………………………47 Букина Н.В. Культурный код в элитарной и массовой культуре………...53 Булгаков А.Б. Внедрение компьютерных технологий в массовую культуру: победа мирового искусства или поражение?........58 Бурмистров С.Л. Неоведантистская философия культуры: Сурендранатх Дасгупта………………………………………………………..62 Вашко О.А. Знак в архитектуре и способы архитектурной коммуникации в постмодернизме……………………………………………68 Вильчинская Л.З. К вопросу об особенностях массового сознания в условиях глобализации……………………………..74 Водопьянова Н.А. Столкновение культур в современной рекламе………80 Волкова Н.Г. Риск как социокультурный феномен………………………...84 Воронович И.Н. Проблема самоактуализации личности в массовой культуре……………………………………………………………90 Восканян М. Игра в современной Интернет-культуре: от элитарного к массовому……………………………………………………95 Голик Н.В. Интеллектуальная элита: к истории вопроса ………………101 Гришаева Т.А. Эстетический аспект моды…………………………………109 Данилссон Э. Человек эпохи Постмодерна в скандинавской культуре…………………………………………………...114 340 341 Дементьева Е.В. Синтез «массового» и «элитарного» аспектов искусства в творчестве Л.Ноно………………………………….121 Дробышева Е.Э. «Модель», распятая между массовым и элитарным………………………………………………………131 Ижикова Н.В. Художественное образование и эстетическое воспитание в деле развития трудовой культуры…........135 Кетова Т.Н. Альтернативы справедливости в поле природных способностей…………………………………………….139 Кнэхт Н.П. «Образ культуры» как возможность построения методологической картины-карты слежения в исследованиях прошлой и современной (элитарной и массовой) культуры………………………………………….143 Кривко М.А. Гламурный дискурс в современной российской массовой культуре………………………..….149 Куклинский И.В. Отношение Человека и Абсолютного в философии Жоржа Батая…………………………………………………..153 Лебедева А.В. «Театр ужаса» или образы страха в традиции современного визуального искусства………………………..160 Лейбель Е.В. Фридрих Ницше. Миф по ту сторону элиты и масс………165 Любимова Т.Б. Псевдо и контрэлиты……………………………………….169 Махлина С.Т. Парадоксы современной массовой художественной культуры……………………………………….174 Михалевич Б.А. Искусство в эстетическом поле. Субстанциализм /…линиями Авангарда/………………………………….182 Мозжухина Т.В. Массовое и элитарное в культуре постмодернизма………………………………………………….190 Назарова О.Ю. Постмарксистский анализ кинематографа как сердцевины визуальности современной культуры в философии Фредрика Джеймисона………………………………………197 Николаева Е.В. Элитарное vs. Элитное……………………………………..207 Никонова С.Б. Конец модернистского бунта в искусстве: коммерция и террор…………………………………………………………..213 Овруцкий А.В. Массовое и элитарное в контексте потребления………..220 Патлач А.И. «Герменевтический опыт» как основание эстетической концепции Х.Г.Гадамера………………….224 Прозерский В.В. Эстетика жизненного мира................................................230 342 Рыбчак А.В. Суррогаты и авангард: психоделия или абсурд?..................235 Сергеева О.В. Домашняя библиотека сегодня: массовое и элитарное в книгособирательстве и чтении современного горожанина………………………………………..242 Сидоров А.М. Идентичность в обществе потребления…………………...249 Слесарева И.В. Молодежная клубная культура: противостояние элитарного и массового…………………………………..255 Соколова Н.Л. Популярное искусство и «конец» эстетического опыта: взгляд с позиций неопрагматизма………………………………………….260 Суворов Н.Н. Элитарное и массовое: любовь и ненависть………………266 Тарасов А.Н. Переоценка ценностей в художественной культуре постмодернизма……………………………..271 Трофимова Е.А. Образование взрослых в горизонте массовой культуры…………………………………………….275 Усовская Э.А. Поколение «Х» и постмодернистское сознание…………..281 Устюгова Е.Н. «Потерянный рай», или человек в пространстве «между»………………………………………285 Федорова К.Е. Современные медиа-арт практики: Диснейлэнд или высокое искусство?............................................................290 Федотова Н.Г. Культура масс-медиа (концептуальный очерк)…………296 Фуртай Ф.В. Интеллектуал в массовой культуре: маргинал или творец новой эстетики?.........................................................303 Цимошка Д.А. Фигура масс в эпоху исчезновения………………………..307 Черникова В.Е. Современная культура как способ отражения социокультурной реальности……………………………………………….312 Чертов Л.Ф. Кому улыбается Мона Лиза? (О взаимном проникновении элитарного и массового в искусстве)……………………………………………………..318 Шичанина Ю.В. Сверхчеловек как элитарный и массовый феномен современной культуры……………………………………………………….324 Шуб М.Л. Художественное пространство постмодернизма: сближение массового и элитарного…………………………………………329 Яковлева А.А. Феномен новизны как основание отождествления и различения массовой культуры и массовой коммуникации................334 342 Подписано в печать 07.2008. Формат 60х84 1/16 Гарнитура Таймс. Объем п.л. Тираж 100 экз. Зак. Отпечатано в Лаборатории оперативной печати Факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. 199034, Санкт-Петербург, В.О., 1-я линия, д.26.