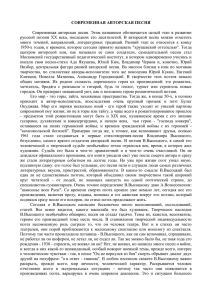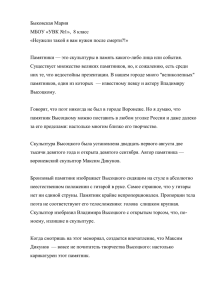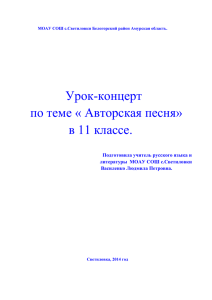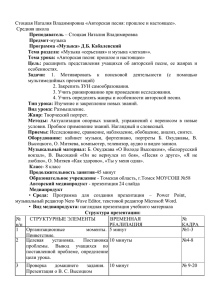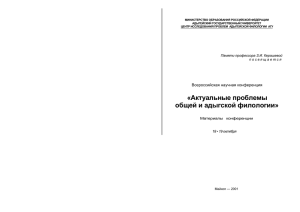Уральский государственный педагогический университет
advertisement
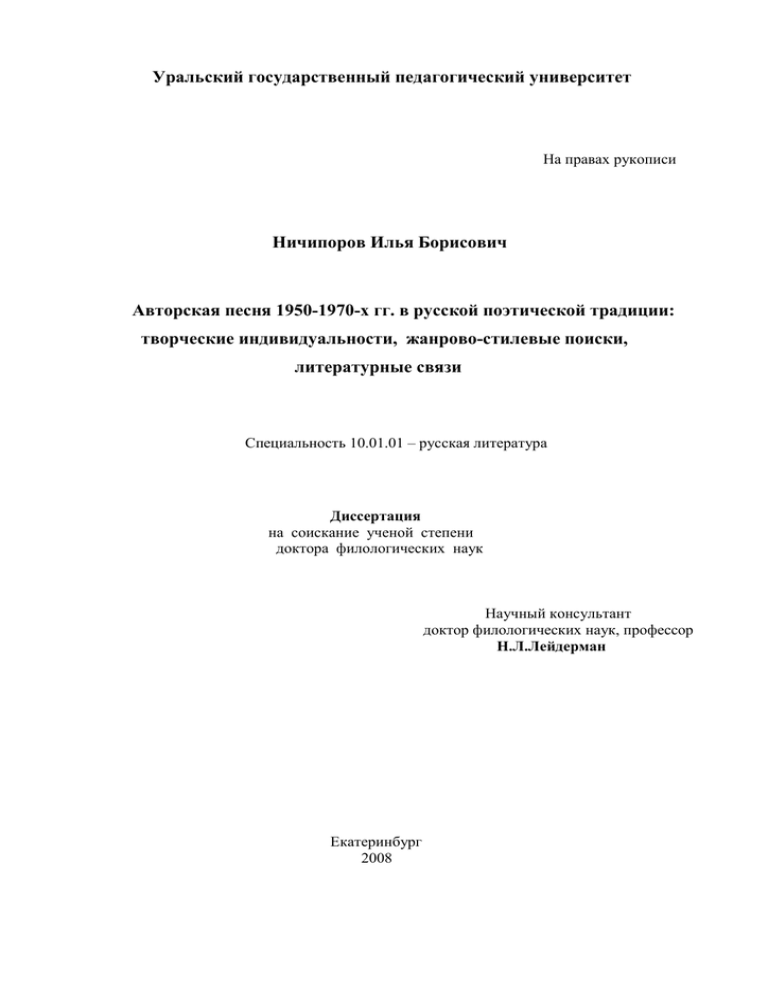
Уральский государственный педагогический университет На правах рукописи Ничипоров Илья Борисович Авторская песня 1950-1970-х гг. в русской поэтической традиции: творческие индивидуальности, жанрово-стилевые поиски, литературные связи Специальность 10.01.01 – русская литература Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук Научный консультант доктор филологических наук, профессор Н.Л.Лейдерман Екатеринбург 2008 2 Оглавление Введение. Авторская песня: теоретические и историко-литературные аспекты изучения………………………………………………………………………………………. 4 Глава 1. Лирико-романтическое направление в авторской песне…………………… 37 I. «Зачем на земле этой вечной живу?..». Булат Окуджава………………………….… 37 1. Грани поэтической философии…………………………………………………… 37 а) Песни-притчи Окуджавы…………………………………………………………37 б) В диалоге с классикой. Тютчевские истоки образа Вселенной в поэзии Окуджавы………………………………………………………………………….44 2. Город как поэтическая модель мира и основа автобиографического мифа………50 а) Поэтические портреты городов в лирике Окуджавы…………………………..50 б) Расширяя русло традиции. «Московский текст» в русской поэзии XX в.: М.Цветаева и Б.Окуджава………………………………………………………61 II. «Штопаем раны разлуки серою ниткой дорог…». Юрий Визбор…………………… 88 1. Типология жанровых форм в песенной поэзии Визбора……..………………… 88 2. Песенно-поэтическая антропология. Люди трудных профессий в стихах-песнях Ю.Визбора и В.Высоцкого………………………………………………………… 115 3. Педагогический потенциал песен Визбора………………………………………..126 4. Проза поэта-певца………………..………………………………………………….131 5. «Новый Визбор»: песенно-поэтическое творчество Олега Митяева (авторская песня на современном этапе)…………………………………………..135 III. «Страна Дельфиния». Романтический мир поэзии Новеллы Матвеевой…………148 IV. «Скорбь мыслящего интеллигента». Элегическая поэзия Евгения Клячкина……158 Предварительные итоги…………………………………………………………………… 168 Глава 2. От лирики к трагедийному песенному эпосу………………………………… 172 I.«Отдыха нет на войне…»: фронтовая и исповедальная поэзия Евгения Аграновича..………………………………………………………………….172 II. Диалог эпох и культур в песенном творчестве Александра Городницкого…………182 1. Русская история в стихах и песнях: поэзия Городницкого………………………182 2. «Северный текст» в песенной поэзии Городницкого…………………………….195 3. Пушкин и его эпоха в стихах-песнях Городницкого……………………………..205 4. На рубеже веков: творчество Городницкого 1990-х гг. ……………………....….214 3 III. «Болит у меня Россия…». История и современность в песенной поэзии Александра Дольского……………………………………………………………….226 Предварительные итоги……………………………………………………………………238 Глава 3. Трагедийно-сатирическое направление в авторской песне…………………241 I. У истоков авторской песни. Война и мир в балладах Михаила Анчарова……..…241 II. «На сгибе бытия»: Владимир Высоцкий…………………………………………...253 1. Онтологические основания поэтического мира Высоцкого……………………253 а) Лирическая исповедь в поэзии Высоцкого……………………………….……253 б) «Я стою, как пред вечною загадкою…». Взыскание рая в песенной поэзии Высоцкого……………………………………………………………………..…267 2. Грани исторического опыта. Военные баллады Высоцкого…………………….277 3. В диалоге с классикой и современностью………………………………………..286 а) «О времени и о себе». Лирические «автобиографии» В.Маяковского и В.Высоцкого…………………………………………………………………...286 б) В.Шукшин и В.Высоцкий: параллели художественных миров………….…..295 III. «Песня об Отчем Доме». Александр Галич………………………………………309 1. Трагедийно-сатирическое осмысление современности. Образ советского обывателя в песенной поэзии Галича…………………………………………...309 2. Лиро-эпический масштаб видения мира. Тема памяти в поэзии А.Ахматовой и А.Галича………………………………………………….……………………..322 3. Открытие большой поэтической формы. Пушкинские «обертоны» в песенной поэме Галича «Размышления о бегунах на длинные дистанции (Поэма о Сталине)»………………………………………………………..………333 IV. «Снятие страха смехом». Юлий Ким……………………………………………..339 1. Сатирические стихи-песни Кима (поэтика жанровых форм)…...….…………….339 2. Художественное пространство и время в песенно-драматической поэме Кима «Московские кухни»………………………………………………………………352 V. Трагедийно-сатирическая линия в перспективе развития бардовской поэзии. Стихи-песни Игоря Талькова…………………………………………..……………357 Предварительные итоги…………………………………………………………………372 Заключение………………………………………………………………………………375 Библиография……………………………………………………………………………386 4 Введение. Авторская песня: теоретические и историко-литературные аспекты изучения Идея синтезирующего взаимообогащения искусства слова и музыки, живописного, пластического искусств явилась одной из ключевых в художественном сознании XX века. Глубоко осмысленная в теоретических построениях и творческой практике Серебряного века, данная тенденция и в последующие десятилетия литературного развития в значительной мере предопределила процессы обновления жанрово-родовой системы литературы, стимулировала возникновение характерных для постклассической эпохи синтетических жанровых образований. Как писал еще А.Белый в статье «Будущее искусство» (1910), «это стремление к синтезу выражается отнюдь не в уничтожении граней, разъединяющих две смежные формы искусства; стремление к синтезу выражается в попытках расположить эти формы вокруг одной из форм, принятой за центр…».1 Явление авторской песни стало одним из магистральных в русской поэтической культуре второй половины XX столетия и в полноте выразило духовные, социальноисторические грани мироощущения срединных десятилетий века. При очевидной синтетической природе, обусловленной взаимопроникновением поэтического слова, музыки, исполнительского мастерства, авторская песня в своих вершинных художественных проявлениях была в первую очередь искусством слова, литературным феноменом, «новым руслом»2 в отечественной поэтической традиции. В качестве исходной теоретической и методологической основы нашего исследования мы принимаем развернутое определение авторской песни, предложенное в монографии И.А.Соколовой:3 «Авторская песня…– это тип песни, который сформировался в среде интеллигенции в годы так называемой оттепели и отчетливо противопоставил себя песням других типов. В этом виде творчества один человек сочетает в себе (как правило) автора мелодии, автора стихов, исполнителя и аккомпаниатора. Доминантой при этом является стихотворный текст, ему подчинены и музыкальная сторона, и манера исполнения. В качестве дополнительных значимых характеристик выступают такие, как личностное начало, собственная оригинальная традиция, эстетика, стилистика, поэтика авторской песни». В этом емком определении выделим ряд принципиальных моментов. 1 Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.С.142. Новиков Вл.И. Авторская песня как литературный факт // Авторская песня. М., 2002. (Школа классики). С.5. 3 Соколова И.А. Авторская песня: от фольклора к поэзии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002.С.52. 2 5 Во-первых, указание на социально-историческую, литературную и культурную обусловленность явления бардовской поэзии. Во-вторых, проведение линий разграничения авторской песни с типологически смежными явлениями песенной поэзии – такими, например, как рок-поэзия, массовая и эстрадная песня. В-третьих, фиксация синтетического характера бардовского творчества и одновременно четкое обозначение «формы, принятой за центр» (А.Белый) – словесного искусства, поэзии. В-четвертых, тезис о специфических чертах поэтики и языка бардовских текстов, порожденных не только неповторимой творческой индивидуальностью художника, но и типологическими особенностями бытования и адресации этой поэзии. Как явление отечественной поэзии, авторская песня, в немалой степени оплодотворенная атмосферой относительного раскрепощения «оттепельной» эпохи, обрела свои отчетливые очертания в основном к концу 1950-х – первой половине 1960-х годов в творчестве М.Анчарова, Б.Окуджавы, Ю.Визбора, Н.Матвеевой и др. В последующие десятилетия – в песенно-поэтическом творчестве В.Высоцкого, А.Галича и др. – под воздействием как собственно эстетических, так и социокультурных факторов, это направление поэзии претерпело значительную содержательную, жанрово-стилевую эволюцию, которая во многом была продиктована движением к более широкому, подчас трагедийно-сатирическому освоению истории и современности. Целесообразность рассмотрения развития классической бардовской поэзии прежде всего в рамках 19501970-х гг., когда это направление достигло наибольших художественных высот, научно мотивируется и ключевой ролью авторской песни в литературном процессе этих десятилетий, «закономерностью ее возникновения и подлинного расцвета именно в названный период, когда она органически встраивается в обусловленное самой жизнью движение литературы, в частности, поэзии».4 Широкое распространение бардовской поэзии благодаря многочисленным концертным выступлениям, фестивалям авторской песни, аудиозаписям происходило на фоне часто негласного официального запрета на полноценную публикацию произведений поэтовбардов, которые вольно или невольно оказывались пропитанными антидогматичным духом неподцензурного искусства. Подобное «полулегальное» существование авторской песни впоследствии вызвало объективные трудности в ее научном изучении, связанные в большинстве случаев со сложностями текстологического характера. Практически до 4 Зайцев В.А. Авторская песня: ее восприятие и перспективы изучения на современном этапе // Филологические науки.2005.№2.С.77-85. 6 1980-х гг. в Советском Союзе масштабного научного осмысления авторской песни как художественного явления не предпринималось. Опережающую роль сыграли в этом смысле публикации в русской эмигрантской печати 60-70-х гг. и в по сути «самиздатской» газете «Менестрель» с конца 70-х. В эмигрантских интервью А.Галича, в «тамиздатских» статьях и рецензиях Р.Гуля, Я.Горбова, В.Некрасова, Ю.Алешковского, В.Аксенова, С.Довлатова, Ю.Мальцева, М.Бен-Цадока и др., при всех издержках, связанных с отсутствием авторитетных изданий бардов, с распространенным преобладанием общественно-политических оценок над эстетической рефлексией, все же намечались важные подступы к будущим исследованиям авторской песни, и прежде всего творчества В.Высоцкого и Б.Окуджавы. Введенные в научный оборот в основном во второй половине 1990-х гг. благодаря главным образом републикациям в выпусках альманаха «Мир Высоцкого» (1997 – 2002), эти работы стали не только важным историческим источником, но и подспорьем для современной научной мысли. С середины и конца 1980-х гг. существенно активизируется собственно литературоведческое изучение авторской песни как части русской поэтической традиции, прокладываются пути к целостному прочтению произведений ведущих поэтов-бардов – в монографиях и статьях Б.А.Савченко, Ю.А.Андреева, Л.А.Аннинского, Вл.И.Новикова, В.А.Зайцева, С.И.Кормилова, А.В.Скобелева и С.М.Шаулова и др., а также в целом ряде постановочных по проблематике студенческих дипломных работ этого времени, посвященных в основном творчеству В.Высоцкого.5 В 1990-е и 2000-е годы исследование авторской песни приобретает еще более широкие масштабы и новые организационные формы. Предпринимаются успешные попытки научных, комментированных, основанных на выверенных текстологических концепциях изданий произведений В.Высоцкого, Б.Окуджавы, А.Галича, М.Анчарова, Ю.Кима и др. Значительную роль в исследовательском освоении данной проблематики сыграли специализированные периодические издания – журнал «Вагант-Москва» и альманах «Мир Высоцкого», а также тематические сборники, посвященные творчеству В.Высоцкого, Б.Окуджавы и А.Галича. Изучение песенной поэзии постепенно входит и в сферу академической науки. В новейших историко-литературных исследованиях второй половины XX века В.А.Зайцева,6 Н.Л.Лейдермана и М.Н.Липовецкого7 появляются специальные разделы, посвященные творчеству В.Высоцкого, Б.Окуджавы, А.Галича. На 5 Кулагин А.В. Студенческое высоцковедение // Кулагин А.В. Высоцкий и другие. Сб. статей. М., 2002.С.163-173. 6 Зайцев В.А. Русская поэзия XX века: 1940-1990-е годы. Учеб. пособие. М., МГУ, 2001. 7 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: В 3-х кн. Учеб. пособие. М., Эдиториал УРСС, 2001. 7 филологическом факультете МГУ им.М.В.Ломоносова с середины 90-х гг. по творчеству различных поэтов-бардов и теоретическому осмыслению истоков авторской песни были защищены диссертации А.В.Кулагина, С.С.Бойко, И.А.Соколовой, С.В.Свиридова, Е.И.Жуковой. В 1999 г. здесь были проведены и научные чтения, посвященные памяти Б.Окуджавы и нашедшие отражение в специальном сборнике.8 В этом же году в Институте русской литературы РАН (Пушкинский дом) защищена кандидатская диссертация по творчеству В.Высоцкого.9 Показательная динамика в изучении авторской песни в широком культурном и литературном контексте прослеживается на примере сборников трудов международных научных конференций по русской литературе XX века в МГУ в 2000-2004 гг., представляющих своеобразный «срез» современного литературоведения.10 В 2000 г. – две публикации о творчестве В.Высоцкого (А.В.Кулагин, Е.И.Жукова); в 2002 г. – уже пять работ, причем в основном сопоставительного характера: о Б.Окуджаве как «наследнике Серебряного века» (А.П.Авраменко), о военной теме в творчестве Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Галича (В.А.Зайцев), об эволюции творчества Б.Окуджавы и текстологических проблемах его изучения (С.С.Бойко, А.Е.Крылов), о творческом диалоге В.Маяковского и В.Высоцкого (Е.И.Жукова); в 2004 г. – еще более широкий круг работ, включающих в свою орбиту и творчество мало изучавшихся прежде поэтов-бардов: об общих проблемах изучения авторской песни (В.А.Зайцев), о сопоставлении поэзии А.Галича и Б.Пастернака (Т.А.Потапова), о жанровых исканиях Е.Клячкина (И.Б.Ничипоров) и различных аспектах изучения творчества В.Высоцкого (Г.А.Шпилевая, Е.И.Жукова, А.Е.Крылов). По мере расширения горизонтов филологического осмысления авторской песни все более очевидной становится необходимость опоры на теоретическую проработку соответствующего терминологического аппарата и генезиса данного явления, изучения всего многообразия творческих индивидуальностей поэтов-бардов, не ограничивающегося узким рядом основных имен, и создания жанрово-стилевой типологии бардовской поэзии. Первостепенную значимость приобретает в этой связи и осознание принципиальной нетождественности 8 общекультурологического и собственно литературоведческого «Свой поэтический материк…». Научные чтения, посвященные 75-летию со дня рождения Булата Окуджавы. М., 1999. 9 Шилина О.Ю. Поэзия Владимира Высоцкого. Нравственно-психологический аспект. Канд. дис. СПб., Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), 1999. 10 Русская литература XX века: итоги и перспективы: Материалы Международной научн. конф., Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, 24-25 ноября 2000 / Ред.-сост. С.И.Кормилов. М., МАКС Пресс, 2000; Традиции русской классики XX века и современность: Материалы научн. конф. Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова. 14-15 ноября 2002 г. / Ред-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2002; Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Международной научн. конф.: 10-11 ноября 2004 г. / Ред.-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2004. 8 подходов к осмыслению авторской песни, невыводимости эстетической ценности творчества поэта-барда из степени его зрительской популярности или представленности на фестивалях и слетах. В накопленном в основном за два последних десятилетия научном опыте изучения авторской песни созданы значительные предпосылки для более или менее полного решения обозначенных проблем. Осмысление этого опыта позволит выявить и пробелы в освоении данного материала, создающие почву для предстоящего исследования. Достаточно основательно разработан на сегодняшний день вопрос о терминологическом объеме понятия авторской песни. В названной выше монографии И.А.Соколовой в отдельной главе, с опорой на многочисленные публикации в прессе, начиная с 50-60-х гг., скрупулезно воссоздана история возникновения данного (в некоторой степени условного) термина, проведено точное разграничение эстетического своеобразия авторской песни и особенностей песни «самодеятельной», «студенческой», «туристской» и др. Вместе с тем дискуссионным остается в науке вопрос о позиционировании авторской песни в системе литературных жанров. Так, И.А.Соколова предлагает такое категориальное словоупотребление, как «жанр авторской песни»,11 оговаривая при этом, что данная структура открыта для вхождения в нее новых, оригинальных форм, отсутствующих в традиционном песенном жанре (например, песнирассказы, -очерки, -репортажи, -памфлеты, -фельетоны, -думы, -эссе, -сказки, -сценки, -поэмы, -монологи, -диалоги).12 Нам представляется, что намеченный здесь жанровый уровень изучения бардовской поэзии является наиболее продуктивным для исследования индивидуальной художественной картины мира в творчестве каждого из поэтов-певцов. Однако внесенное И.А.Соколовой уточнение об «открытости» жанровой структуры песенной поэзии заставляет признать терминологически более точными суждения А.В.Кулагина и Вл.И.Новикова об авторской песне как наджанровом поэтическом явлении.13 Серьезное теоретическое обоснование получила и синтетическая природа авторской песни. В.А.Зайцевым было предложено емкое обобщение многих наблюдений над эстетической спецификой бардовской поэзии, являющей «взаимодействие, синтез разных видов искусств на основе словесного искусства, поэзии. Это – звучащее песенное слово, звучащая, как правило, в исполнении самих ее создателей поэзия, опирающаяся на 11 Соколова И.А. Указ.соч. С.36. Там же. С.37. 13 Кулагин А.В. В поисках жанра. Новые книги об авторской песне // Новое литературное обозрение. 2004.№2. (вып.66).С.325-345; Новиков Вл.И. Указ.соч. С.9. 12 9 давнюю историко-литературную традицию».14 Вектор исследований в этой области предельно точно обозначен Вл.И.Новиковым: «Рассмотрение авторской песни как сугубо литературного явления, как факта русской поэзии XX века».15 Разумеется, несомненная обоснованность литературоведческого подхода к данному предмету никоим образом не исключает важности уже начинающих появляться музыковедческих, театроведческих, лингвистических и др. исследований авторской песни, которые способны во многом уточнить и расширить собственно литературоведческие выводы.16 Показательно, что суждения исследователей о приоритете именно словесной составляющей над прочими компонентами песенной поэзии подкрепляются высказываниями самих бардов. Их творческая самоидентификация в литературном и культурном пространстве представляется тем более значимой, что практически все авторы данного ряда выступали в литературе (не только в поэзии, но и в прозе, драматургии) и независимо от исполнения своих стихов-песен. Так, Ю.Визбор, неоднократно подчеркивавший первостепенную значимость «точного поэтического образа» в авторской песне, определял ее как «песню литературную, несмотря на все ее и музыкальные удачи. Эта песня стоит на фундаменте литературы, и лучшие бардовские песни – это и лучшие поэты».17 Сходную мысль высказал и Б.Окуджава, в частности, в интервью в декабре 1984 г., назвав себя «не композитором-профессионалом» и подчеркнув, что «для барда главное – поэтическая основа».18 В 1966 г. в дискуссии на страницах газеты «Неделя» М.Анчаров назвал авторскую песню «формой устной поэзии»; А.Галич отметил необходимость ее восприятия «как явления литературного», высказав убеждение, что «лучшие из наших песен прежде всего интересны стихами, правда, существующими в неразрывной связи с мелодией», а Ю.Ким наметил интересное и пока еще научно недостаточно разработанное понимание внутренней иерархии и направлений взаимовлияния между различными компонентами песенно-поэтического искусства: «Мы имеем дело с поэзией, потому что и сюжет, и рифма, и ритм, и мелодия служат прежде всего выявлению смысла. Однако это особая, песенная поэзия, образ которой одновременно музыкальный и словесный».19 С этой точки зрения эстетически несостоятельными представляются суждения критиков авторской песни, как правило не учитывающих особенностей взаимодействия поэзии с 14 Зайцев В.А. Авторская песня: ее восприятие и перспективы изучения на современном этапе // Филологические науки.2005.№2.С.77. 15 Новиков Вл.И. Указ.соч. С.11. 16 Краткий обзор междисциплинарных исследований авторской песни см. ниже. 17 Визбор Ю.И. Сочинения. В 3 т. Т.3: Очерки. Записные книжки. Воспоминания. М., Локид-Пресс, 2001.С.358, 357. 18 Булат Окуджава: "Я исповедуюсь перед своим поколением». Беседу вели С. Перминов и С. Гриненко // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.II. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1998.С.468-471. 19 Песня – единая и многоликая / Репортаж с пресс-конференции вели А.Асаркан и Ан.Макаров // Неделя. 1966.№1.С.20-21. 10 музыкой в художественном целом данного явления (А.Кушнер, Д.Самойлов, В.Шаламов, В.Кожинов20). В рефлексии поэтов-бардов о характере собственного творческого процесса часто фиксируются уникальные случаи художественного симбиоза словесной и мелодических составляющих. Полагая, что в авторской песне «несамостоятельная музыка может поддерживать самостоятельные слова и делать песню», Н.Матвеева выявляет и относительную автономию этих компонентов, приводит многие примеры того, как прежние мелодии могли находить «приют» в новых поэтических текстах.21 А В.Высоцкий, видевший главную творческую задачу в шлифовке поэтического слова («Больше всего я, конечно, работаю со стихом»), признавался даже в сознательном упрощении мелодического рисунка ради выдвижения на первый план именно словесной образности – «чтобы мелодия не мешала восприятию текста, тому главному, что я хочу сказать». Представляет интерес и обобщающая характеристика поэтом авторской песни в связи с восприятием им песенной лирики Б.Окуджавы: «Это даже не песня, это стихи, положенные на ритмическую основу. Когда-то, очень давно, я услышал, как Б.Окуджава поет свои стихи, и увидел, что стихотворные строки, которые я раньше читал глазами, работают намного сильнее, когда он исполняет их с гитарой».22 При этом восприятие соотношения мелодии и стихотворного текста во взаимных оценках даже внутри самой бардовской среды могло быть весьма различным, хотя мысль о самоценности и относительной эстетической автономии поэзии в составе авторской песни оказывается в сущности неизменной. Это просматривается и в признании А.Городницкого о своем впечатлении от мелодий и стихов раннего Высоцкого, с указанием на явное преимущество именно последних в степени художественной оригинальности: «На первых порах нарочито надрывная манера его исполнения… примитивные мелодии создавали впечатление чего-то вторичного, узнаваемого. Но стихи… Я помню, как поразили меня… своей удивительной поэтической точностью строки одной из его «блатных» песен: «Казалось мне, кругом – сплошная ночь, тем более, что так оно и было…»».23 В связи с осмыслением синтетической природы авторской песни в литературоведении осознается потребность отграничения данного явления от явлений типологически 20 См. об этом: Соколова И.А. Указ.соч. С.32-33. Беседы с Новеллой Матвеевой. Интервью вел М.Аскин // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.IV. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2000.С.428; «Робинзонада одинокой гитары». (Беседа с Новеллой Матвеевой о ее песнях) // Матвеева Н.Н., Киуру И.С. Мелодия для гитары / Сост. М.Нодель. М., Аргус, 1998.С.387. 22 Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актер. М., Прогресс, 1989.С.115, 118, 117. 23 Городницкий А. И жить еще надежде… М., Вагриус, 2001.С.351. 21 11 смежных – в частности, рок-поэзии, для текстов которой, как отмечает С.В.Свиридов,24 также характерно единство музыки, слова, исполнительской пластики. Углубленное исследование процессов как диалогического соприкосновения, так и в немалой степени конфронтации этих двух значительных направлений в поэзии еще впереди, но в качестве важной посылки подобного исследования целесообразно воспринять суждение Р.Ш.Абельской о том, что если для авторской песни характерна опора на жанровостилевые традиции русского фольклора и литературы, на национальную традицию музицирования, то рок-поэзия ориентирована прежде всего на западные песеннофольклорные образцы.25 Дискуссионным в плане общей научной идентификации авторской песни остается и вопрос о границах существования и развития этого явления в литературе. Новые эстетические качества и формы общественного бытования бардовской поэзии в 80-е и особенно в 90-е гг. вызывают отчасти обоснованные суждения о естественном самозавершении этого феномена в середине – конце 1980-х гг. (А.Е.Крылов и др.). С другой стороны, представляются продуктивными исследовательские интенции все же нащупать изменившиеся эстетические параметры «новой» бардовской поэзии, способной, как показано в концептуальной по постановке проблемы статье Б.Б.Жукова,26 и в современных социокультурных условиях продолжать и трансформировать классические традиции авторской песни, которая все более заметно переходит в ситуации «нарастающей социальной неоднородности российского общества» в разряд «элитарного» искусства, востребованного прежде всего в среде интеллигенции. В плане прогностического анализа потенциального места авторской песни в системе литературных рядов и в общественно-культурном сознании представляется небезосновательным предположение Вл.И.Новикова о том, что «вольный бунтарский дух бардовской поэзии еще может быть востребован обществом и культурой. Быть может, взаимодействие авторской песни с новыми формами коммуникации и со смежными художественными явлениями обогатит гитарную поэзию, не лишив ее художественного своеобразия».27 Постановочным аспектом в литературоведческом изучении как авторской песни в целом, так и творчества отдельных поэтов-бардов, является вопрос о генезисе данного 24 Свиридов С.В. Рок-искусство и проблема синтетического текста // Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сб. науч. тр. Тверь, ТГУ, 2002. Вып.6. С.5-32. 25 Абельская Р.Ш. Поэтика Булата Окуджавы: истоки творческой индивидуальности. Автореф. канд. дисс. Екатеринбург, УрГУ, 2003.С.18. 26 Жуков Б.Б. Современное состояние авторской песни как отражение изменений в национальном менталитете // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.380-389. 27 Новиков Вл.И. Указ.соч. С.11. 12 явления, актуальный при рассмотрении всех уровней художественного содержания и формы. Научное исследование этой проблематики отчасти было намечено уже в одной из первых монографий об авторской песне, где ставился вопрос о ее связях с традициями романса и «студенческих» песен.28 Однако впервые масштабное освещение истоков бардовской поэзии осуществлено в книге И.А.Соколовой, где этому вопросу посвящена отдельная глава. С опорой на многочисленные фольклорные источники и репрезентативный круг произведений поэтов-бардов различных поколений и стилевых ориентаций, автор работы последовательно рассматривает как преемственные, так и эстетически полемичные связи авторской песни с традиционным фольклором, в частности с народной лирической песней. Наиболее подробно эти связи выявляются на примере песенной лирики Б.Окуджавы, где велика роль фольклорных образов, народнопоэтического изображения природного мира, близких к фольклорной поэтике лексико-синтаксических особенностей – от традиционных эпитетов до различных типов повторов и параллелизмов. Далее внимание уделено сложному соотношению авторской песни с традициями бытового романса и лирической песни 1930-40-х гг. Как показывает И.А.Соколова, «поворот в сторону личности», обозначившийся в советской песне 50-х гг., оказался созвучным «зарождавшейся как раз в то время авторской песне».29 Устанавливается и влияние на жанровую систему авторской песни в целом и, в частности, на ряд произведений Б.Окуджавы, А.Галича многоплановой романсовой традиции, включая бытовой (городской), «жестокий», а также салонный романс, связанный с творческой деятельностью А.Вертинского. Восприятие этой фигуры в качестве предтечи бардовской поэзии позволяет распознать глубинную связь самой эстетики авторской песни с художественными экспериментами Серебряного века. Активное внедрение Вертинским театрального начала в песенную поэзию стимулировало развитие жанра песни-роли в творчестве многих бардов – от Ю.Визбора и М.Анчарова до А.Галича и В.Высоцкого. В качестве важных истоков авторской песни анализируются И.А.Соколовой и творчество известных поэтов-песенников 30-40-х гг. (М.Исаковский, А.Фатьянов и др.), и такое синтетическое явление, как «театр песни», представленное именами Л.Орловой, М.Бернеса, Л.Утесова, К.Шульженко, Л.Руслановой. Примечательно, что и в среде самих поэтов-бардов возникало осознание этой генетической связи: как писал А.Городницкий, 28 Андреев Ю.А. Наша авторская… История, теория и современное состояние самодеятельной песни. М., 1991.С.63 и др. 29 Соколова И.А. Указ.соч. С.86, 87. 13 имея в виду Б.Окуджаву и других авторов 60-х гг., «их предтечей в военные годы был Марк Бернес, который среди грохота бомб и снарядов «ревущих сороковых» впервые открыл для нас… задушевную интонацию…».30 Доказательно прояснены в работе И.А.Соколовой и связи авторской песни с «нетрадиционным» фольклором: с неофициальной культурой дворовых, блатных, лагерных песен, типологически близких бардовской поэзии демократизмом, развитым личностным началом и неподцезурным духом. В виде одной из иллюстраций подобного сопряжения могут быть рассмотрены случаи пародийного использования жанровых элементов блатной песни в раннем творчестве В.Высоцкого. В качестве непосредственной творческой «колыбели» для целого ряда бардов показаны и «кружковые» песни в двух своих разновидностях – песни студенческие и «кухонные» – «песни компании, интеллигентного круга людей».31 Проведенный анализ этих традиций, особенно активизировавшихся в послевоенные и «оттепельные» годы, позволяет убедительно выявить их присутствие и оригинальную трансформацию в стихах-песнях Б.Окуджавы и Ю.Кукина, А.Городницкого и Ю.Визбора, В.Высоцкого и Ю.Кима… Предложенное И.А.Соколовой системное теоретическое описание многоразличных истоков бардовской поэзии несомненно нуждается в историко-литературном обосновании и уточнении, с опорой уже на индивидуальные художественные миры поэтов-бардов. Пока подобное масштабное исследование проведено в отношении творчества Б.Окуджавы – в диссертации Р.Ш.Абельской,32 выводы которой могут иметь методологическое значение как для осмысления эстетики бардовской поэзии вообще, так и для изучения творчества конкретных авторов. Рассматривая в качестве истоков окуджавской поэтики фольклорные и полуфольклорные поэтико-музыкальные жанры (советская песня, бытовой романс, городской фольклор, блатная песня, жанры традиционного фольклора и др.), выявляя поля взаимодействия фольклорной и литературной составляющих данной поэтики, грани между высокой поэзией и ее фольклорным, «площадным» переигрыванием, Р.Ш.Абельская формулирует суть культурной роли Б.Окуджавы-поэта, смысл которой – в своеобразной медиации: между высокой поэзией и низовым фольклором, между различными литературными и культурными эпохами. Нам представляется, что подобная медиация, а также синтез различных жанровых прообразов (песенных, поэтических, 30 Городницкий А. И жить еще надежде… М., Вагриус, 2001.С.33. Соколова И.А. Указ.соч. С.143. 32 Абельская Р.Ш. Поэтика Булата Окуджавы: истоки творческой индивидуальности. Автореф. канд. дисс. Екатеринбург, УрГУ, 2003. 31 14 фольклорных) могут быть осознаны как типологические константы искусства авторской песни в целом. Не менее значимо, что в результате многоплановых наблюдений над образным миром, жанровой системой, стилистикой, метроритмическим уровнем поэзии Окуджавы автор работы устанавливает, что элементы «песенности», черты музыкальной поэтики присутствуют не только в стихах-песнях, но и в обычной лирике Окуджавы, вовсе не предназначавшейся для песенного исполнения. Этот глубоко аргументированный в работе вывод дает одно из оснований для разговора об эстетической общности текстов поэтов-бардов, которая не сводится лишь к факту песенного озвучивания поэтических произведений. Данный тезис подкрепляется также в исследовании Р.Ш.Абельской изучением структуры стиха в песенной поэзии и суждением о том, что «специфика песенных стихов не может быть описана в рамках только силлабо-тонической теории стихосложения».33 Актуальным и далеко не в полной мере осмысленным остается в работах об авторской песне вопрос о ее внутренней типологии и жанровой системе. В ряде аналитических выступлений самих поэтов-бардов, обращенных к постижению эстетики авторской песни, создавались первые предпосылки для внутренней жанровостилевой дифференциации данного поэтического явления. Ю.Визбор в заметке «Нераздельность музыки, текста и исполнения» (1967) выделил ключевые как проблемнотематические, так и жанровые направления развития бардовской поэзии в творчестве конкретных авторов: «Творчество поэтов-певцов включает в себя воспоминания военных лет Булата Окуджавы, сатирические зарисовки Александра Галича, романтические песнисказки Новеллы Матвеевой, мудрые исповеди Юрия Кукина, песни-настроения Евгения Клячкина, гражданские песни Александра Дулова, антивоенные песни Владимира Высоцкого, лирику Ады Якушевой…».34 Здесь намечается важнейшее и для современного исследования авторской песни рассмотрение сложного, менявшегося во времени соотношения между двумя ее содержательными и стилевыми доминантами – лирико-романтической, исповедально-элегической – и балладно-трагедийной, сатирической, основанной на разработанной персонажной сфере и драматургичной сюжетной динамике. Подобная дифференциация просматривается и в суждениях А.Городницкого о творчестве различных бардов: «В отличие от лирических песенных 33 34 Абельская Р.Ш. Указ.соч. С.19. Визбор Ю.И. Сочинения. В 3 т. Т.3. С.351. 15 монологов Б.Окуджавы, песни А.Галича, почти всегда персонифицированные, имели острый драматургический театральный сюжет…».35 Начальные попытки научной типологии бардовской поэзии стали предприниматься уже в первых работах, посвященных этому материалу. Так, в монографии Ю.А.Андреева предлагается выделение «первого ряда» среди поющих поэтов, в который включается главным образом творчество Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Галича и отчасти некоторых других авторов – тех, «кто задал еще в 50-70-е годы эталонный уровень авторской песни».36 Целостной типологии явления здесь пока не создается, но в качестве ее предпосылки разграничиваются «лирическая ветвь» авторской песни, ассоциирующаяся прежде всего с песенной поэзией Б.Окуджавы; «феномен публицистической песни», связанный с сатирическим творчеством А.Галича, а также особое направление «женской лирики в авторской песне» (Н.Матвеева, А.Якушева, В.Долина и др.). Немалое значение для построения типологии авторской песни имеют критические очерки Л.А.Аннинского, объединенные позднее в книге «Барды».37 Осуществляя в целом продуктивный синтез мемуарно-автобиографического и научно-литературоведческого элементов, критик создает галерею портретов бардов разных поколений, творчество которых, наиболее значительное в эстетическом плане, ярко воплощало магистральные тенденции как в авторской песне, так и в поэтическом развитии второй половины XX в. в целом. Пути к созданию типологии прокладываются здесь прежде всего на основе разнообразного генезиса авторской песни: от «туристской», «костровой» песни (творчество Ю.Визбора, А.Городницкого); от традиций блатной песни (поэзия В.Высоцкого); от наследия городского романса (стихи-песни Б.Окуджавы). Очевидная недостаточность генетического критерия, не способного исчерпать многообразия конкретной творческой индивидуальности, отчасти восполняется в работе Л.А.Аннинского выявлением важнейших черт лирического «я», образных и стилевых доминант в стихах-песнях разных авторов. Так, особенно значимы с этой точки зрения психологические и социально-исторические характеристики лирических героев поэзии Ю.Визбора («романтик послевоенного поколения, мальчик оттепельных лет»38) и Ю.Кима («заводной нрав человека, яростно докапывающегося до истины»39); суждения о специфике 35 романтики в песнях Н.Матвеевой, Городницкий А. И жить еще надежде… С.351. Андреев Ю.А. Указ.соч. С.91. 37 Аннинский Л.А. Барды. М., 1999. 38 Там же. С.40. 39 Там же. С.122. 36 бросивших «вызов казенному 16 коллективизму»,40 о проблемно-тематических пластах творчества М.Анчарова («послевоенная Россия во всей ее скудости, щедрости, злобе, великодушии, дури, доверчивости»41) и поэта-«историка» А.Городницкого… Ряд важнейших стратегических задач в исследовании авторской песни, в том числе в сравнительно-типологическом и контекстуальном аспектах, поставлен в работах Вл.И.Новикова «Авторская песня как литературный факт» и «По гамбургскому счету (Поющие поэты в контексте большой литературы)».42 Здесь выявлено различное соотношение литературной и музыкальной составляющих в творчестве разных авторов; выделены некоторые важнейшие жанровые формы бардовской поэзии (баллады, монологи, диалоги, песенные поэмы и др.); предложена градация между менявшимися поколениями поэтов; впервые в поле литературоведческого исследования введено несколько десятков имен авторов, творчество которых с точки зрения собственно художественной ценности пока еще никак не осмыслено. В типологическом плане выдвинута небезынтересная гипотеза о «ленинградской» и «московской» школах бардовской поэзии, причем при рассмотрении творчества ленинградских бардов (А.Городницкий, Е.Клячкин, А.Дольский, Ю.Кукин) возникают меткие наблюдения над навеянными «культурной «аурой» Петербурга-Ленинграда» чертами общности в художническом мироощущении, образности их поэзии: со «строгим стилем в песенном стихе… благородной сдержанностью чувств и ощущением причастности к традиции».43 Важно, что данные особенности песенной поэзии вписываются исследователем в широкий литературный контекст, соотносятся, в частности, с традициями «петербургсколенинградской «письменной» шестидесятнической поэзии, с творчеством А.Кушнера, И.Бродского, В.Сосноры…».44 Вообще сформулированная Вл.И.Новиковым задача преодоления искусственной «изоляции авторской песни от общего контекста современной поэзии»,45 пока еще присутствующей в литературоведческом сознании, кажется нам одной из наиболее значительных. Малоизученным остается вопрос и о жанровой системе бардовской поэзии, складывавшейся на стыке литературной, песенной и фольклорной традиций. Чаще всего движение к построению жанровой типологии осуществлялось в рамках исследования творчества одного автора. Показательна, например, монография Н.М.Рудник,46 где на 40 Аннинский Л.А. Указ. соч. С.65. Там же. С.88. 42 Новиков Вл.И. Указ.соч. С.5-12; 371-408. 43 Новиков Вл.И. Указ.соч. С.375, 380. 44 Там же.С.380. 45 Там же.С.372. 46 Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С.Высоцкого. Курск, 1995. 41 17 материале творчества В.Высоцкого подробно изучен жанр литературной баллады, прослежена его эволюция и намечена внутрижанровая типология. Проанализированы здесь и циклические жанровые формы, с выделением таких разновидностей, как «циклыкомедии», «циклы-трагедии», а также циклы поэмообразной структуры. Значительный шаг в осмыслении жанровой типологии авторской песни был предпринят в работе Л.А.Левиной,47 представляющей серию более или менее автономных очерков о различных жанровых образованиях, ставших в том числе и результатом художественного переосмысления древних фольклорных жанров. Речь идет здесь о балладе, песенной новеллистике, утопических и антиутопических тенденциях, о жанрах песни-письма, песни-репортажа, фельетона, исторической песни, песенной поэмы, цикла, о трансформации басенной, анекдотической и притчевой традиций. Новаторски поставлен вопрос о влиянии элементов театрального и кинематографического искусств на жанровое мышление некоторых поэтов-бардов. При очевидной продуктивности предложенного типологического подхода изолированное рассмотрение различных жанров, недостаточное привлечение материала творчества конкретных бардов не позволяют в рамках данного исследования прояснить различные системные соотношения между жанрами как в отдельных поэтических мирах, так и в авторской песне в целом. Нерешенной остается и задача по установлению корреляции между общей жанрово-стилевой типологией бардовской поэзии и иерархией жанров в творчестве одного поэта-певца. Литературоведению предстоит также исследование путей и факторов (как собственно эстетических, так и экстралитературных) эволюции жанрово-родовой системы песенной поэзии. Прочной основой будущей типологии авторской песни должен стать учет накопленного в литературоведческой науке опыта по изучению творчества отдельных бардов. В 2001 г. в издательстве «Вагант-Москва» вышел справочник «Пятьдесят российских бардов»,48 остающийся пока единственным энциклопедическим источником по данной проблематике. В издании предложены краткие очерки творческого пути ведущих поэтовбардов, сопровождаемые библиографическими списками и дискографией. Само установление круга этих имен может быть отчасти дискуссионным, но факт подобной каталогизации дает обширный материал для дальнейших, уже собственно литературоведческих изысканий. 47 48 Левина Л.А. Грани звучащего слова (эстетика и поэтика авторской песни). Монография. М., 2002. Пятьдесят российских бардов. Справочник. Сост. Р.Шипов. М., 2001. 18 На сегодняшний день в литературоведении намечено изучение творчества поэтов – основателей авторской песни – М.Анчарова и Ю.Визбора. В относительно кратких и в основном описательных работах И.А.Соколовой,49 Вс.Ревича,50 Л.А.Левиной51 присутствуют во многом предварительные наблюдения над жанровым составом, основными мотивами и некоторыми образами, значимыми для творчества этих художников. Однако обстоятельного исследования их творческой индивидуальности, роли в становлении авторской песни пока не предпринималось. В центр исследовательского внимания до сих пор были выдвинуты главным образом три фигуры – В.Высоцкого, Б.Окуджавы и (в меньшей степени) А.Галича. Научное обоснование выделения подобного «микроконтекста» в бардовской поэзии было выдвинуто Вл.И.Новиковым52 и конкретизировано в обзоре конкретных перспектив сопоставительного изучения наследия трех крупнейших бардов. Наиболее значительными направлениями были названы исследование соотношений между лирическим и ролевыми «я» в их стихах-песнях, анализ жанровых доминант, принципов организации сюжета и персонажной сферы, а также прояснение сложного взаимовлияния стиха и прозы в их творчестве. В качестве актуального поставлен вопрос о специфике «музыкальности» и театрального начала в поэзии названных авторов. Нам представляется, что при всей неоспоримой важности изучения данного контекста, которая обусловлена прежде всего тем, что и В.Высоцкий, и Б.Окуджава, и А.Галич воплотили в своем творчестве ведущие тенденции бардовской поэзии в целом, – все же узкая сосредоточенность исследователей лишь на этих трех фигурах, которая доминирует, например, в выпусках альманаха «Мир Высоцкого», существенно обедняет общую картину бардовской поэзии, не способствует объективной оценке реального места различных авторов в этом поэтическом направлении. Ведь более широкий литературоведческий анализ бардовской поэзии показывает, что, например, творчество А.Городницкого по художественному уровню, масштабности и глубине в освоении жизненного материала в целом не уступает поэзии А.Галича, а лирическая романтика песенной поэзии Н.Матвеевой или Е.Клячкина оказывается по степени эстетической значимости вполне сопоставимой с поэзией Б.Окуджавы… Вместе с тем опыт, приобретенный литературоведением в исследовании наследия трех крупных 49 Соколова И.А. Вначале был Анчаров; И Визбор – первый // Соколова И.А. Указ.соч. С.154-177; 177-193. Ревич Вс. Несколько слов о песнях одного художника, который заполнял ими паузы между рисованием картин и сочинением повестей // Анчаров М.Л. Сочинения: Песни. Стихотворения. Интервью. Роман. М., Локид-Пресс, 2001. С.5-14. 51 Левина Л.А. Лунные тропы Юрия Визбора // Левина Л.А. Указ. соч. С.113-126. 52 Новиков Вл.И. Окуджава – Высоцкий – Галич. Проект исследования // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.233-240. 50 19 бардов, может и должен быть экстраполирован на изучение творчества и иных представителей данного поэтического направления. Наибольшее число различных по формату и уровню исследований обращено на данный момент к творчеству В.Высоцкого. В 1980-е и начале 90-х гг. появляются новаторские по осознанию перспектив последующего осмысления творчества поэта-певца статьи Ю.Ф.Карякина,53 С.И.Кормилова,54 Н.А.Крымовой,55 В.И.Толстых56 и др. В 1990 и 1994 гг. в Воронеже и Орле57 издаются специальные тематические сборники, где в работах Л.К.Долгополова, О.А.Бердниковой, Е.Г.Мущенко, Б.С.Дыхановой, Г.А.Шпилевой, Н.В.Фединой, Л.Я.Томенчук, И.П.Буксы, В.П.Изотова и др. предлагаются подходы к интерпретации проблемно-тематического уровня поэзии Высоцкого, ставится вопрос о рецепции поэтом-певцом классических, в частности пушкинской и блоковской, традиций, о соотношении лирического и ролевых героев, о музыкальных особенностях и стилевых константах его поэзии. Важным этапом в развитии высоцковедения становятся книги Вл.И.Новикова,58 Н.М.Рудник59 и особенно А.В.Скобелева и С.М.Шаулова.60 В последней из названных монографий впервые предпринята попытка целостного научного описания поэтической системы Высоцкого: проанализированы выразившаяся здесь концепция мира и человека, пространственно-временная система, фольклорные истоки образности, черты театральности художественного мышления. Анализ онтологических, духовно- нравственных оснований лирики поэта с разной степенью научной глубины был развит в позднейшей книге свящ. М.Ходанова,61 в диссертационных исследованиях С.В.Свиридова,62 Е.И.Солнышкиной63 и др. Ключевой для углубления системного научного изучения наследия Высоцкого стала концепция творческой эволюции поэта-певца, предложенная в монографии и докторской диссертации А.В.Кулагина.64 Глубоко аргументированное представление о четырех фазах 53 Карякин Ю.Ф. О песнях Владимира Высоцкого // Литературное обозрение. 1981.№7. С.94-99. Кормилов С.И. Песни Владимира Высоцкого о войне, дружбе и любви // Русская речь. 1983.№3. С.41-48. 55 Крымова Н.А. Мы вместе с ним посмеемся // Дружба народов. 1985.№8. С.242-254. 56 Толстых В.И. В зеркале творчества (В.Высоцкий как явление культуры) // Вопросы философии. 1986.№7. С.112-124. 57 В.Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж, 1990; Высоцковедение и высоцковидение. Сб. научных статей. Орел, 1994. 58 Новиков Вл.И. В Союзе писателей не состоял… : Писатель Владимир Высоцкий. М., 1991. 59 Рудник Н.М. Указ.соч. 60 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: мир и слово. 2-е изд., испр и доп. Уфа, 2001. (1-е изд. – 1991 г.). 61 Ходанов М., свящ. «Спасите наши души…». О христианском осмыслении поэзии В.Высоцкого, И.Талькова, Б.Окуджавы и А.Галича. М., 2000. 62 Свиридов С.В. Структура художественного пространства в поэзии В.С.Высоцкого. Канд. дисс. М., МГУ, 2003. 63 Солнышкина Е.И. Проблема свободы в поэтическом творчестве В.С.Высоцкого. Автореф. канд. дисс. Ставрополь, СГУ, 2004. 64 Кулагин А.В. Поэзия В.С.Высоцкого. Творческая эволюция. М., 1997. 54 20 художнического развития Высоцкого (1961-64 гг.; 1964-71 гг.; 1971-74 гг.; 1975-80 гг.) осознается сегодня как надежная методологическая база дальнейших исследований. Значимой предпосылкой для создания будущей научной биографии поэта стала книга Вл.И.Новикова в серии «ЖЗЛ».65 Привлечению значительных исследовательских сил к изучению как творчества данного автора, так и бардовской поэзии в целом, способствовало регулярное издание Музеем В.С.Высоцкого в Москве выпусков альманаха «Мир Высоцкого» в 1997 – 2002 гг. Художественная картина мира Высоцкого получила в этих трудах многостороннюю интерпретацию. В собственно литературоведческом плане здесь существенны исследования хронотопа, жанровой системы и персонажного мира его поэзии, черты ролевой лирики, фольклорные традиции, проблемы генезиса и литературных связей, а также часто новаторские интерпретации отдельных произведений – «Романа о девочках» (А.В.Кулагин), «Охоты на волков» (Е.Г.Колченкова), «Райских яблок» (С.В.Свиридов), «Памятника» (В.А.Зайцев) и мн. др. Существенную значимость имела и регулярная публикация в альманахе «тамиздатских» и иных, недоступных прежде работ о Высоцком и авторской песне. Органичное развитие и продолжение многие высоцковедческие исследовательские сюжеты получили в самарском и московском сборниках 2001 и 2003 гг.66 В первом особенно выделяются работы С.М.Шаулова об экзистенциальных аспектах лирики Высоцкого; В.П.Скобелева о сказовом элементе в его песенной поэзии и А.Е.Крылова о творческом обращении поэта к наследию А.Грина – это направление в исследовании литературных связей авторской песни видится особенно перспективным с учетом сознательной ориентации некоторых бардов (М.Анчарова, Н.Матвеевой и др.) на образный мир гриновской романтики. В сборнике 2003 г. постановочный характер имеет статья Ю.Б.Орлицкого об особом типе прозиметрии в текстах В.Высоцкого и А.Галича.67 Выявление функций прозаических компонентов в песенно-поэтических текстах, включая авторские импровизационные комментарии, объемные прозаические названия многих песен, подзаголовки, посвящения, эпиграфы, прозаические фрагменты-вставки внутри песенных текстов и др., – весомо для уяснения типологических черт поэтики авторской 65 Новиков Вл.И. Высоцкий. М., 2002. (Сер. ЖЗЛ: Сер. биогр; вып. 829). Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры XX века. Сб. статей. Под ред. В.П.Скобелева, И.Л.Фишгойта. Самара, 2001; Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003. 67 Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в песнях Галича и Высоцкого: авторское вступление как компонент художественного целого песни // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века… С.140-150. 66 21 песни.68 Также в сборнике важны исследования фантастических образов в поэзии Высоцкого (В.П.Изотов), некоторых жанровых и тематических аспектов (М.Н.Капрусова, С.И.Кормилов, Е.И.Солнышкина и др.). Параллельно и отчасти с творческой ориентацией на достижения высоцковедения свою динамику в 1990-2000-е гг. имело литературоведческое осмысление поэзии Б.Окуджавы и А.Галича. В диссертационных исследованиях С.С.Бойко (1999)69 и Р.Ш.Абельской (2003)70 песенное творчество Окуджавы предстает как целостная художественная система: у Р.Ш.Абельской – в аспекте генезиса и литературных связей, у С.С.Бойко – в основном с точки зрения соотношения между элементами поэтики (образный, звуковой, метрический, лексико-семантический уровни) и особенностей диалога с литературной традицией. Важными вехами в освоении данной проблематики стали и тематические научные сборники, изданные в 1999,71 2002,72 200473 гг., а также носящие в большей степени мемуарно-эссеистский характер публикации материалов переделкинских конференций.74 В составленном на основе научных чтений в МГУ окуджавском сборнике 1999 г. предлагаются пути к целостной интерпретации основных мотивов и образов лирики Окуджавы (В.А.Зайцев, И.М.Дубровина, С.С.Бойко), осмысление места в ней фольклорной традиции (И.А.Соколова). Новаторский характер носят размышления Х.Г.Короглы о преемственности поэзии и исполнительской манеры Окуджавы по отношению к творчеству народных поэтов-певцов Древнего Востока. Социокультурные контексты творчества поэта 60-х гг. рассмотрены С.С.Лесневским, емко определившим окуджавскую поэзию как «спетую мифологию поколения и времени».75 Источниковедческую и текстологическую направленность имеют материалы Л.А.Шилова о звукозаписях поэта, а также А.Е.Крылова и В.Ш.Юровского, представивших 68 Рассмотрение эпиграфа как «интертекстуального знака» в авторской песне приводит в одной из новейших работ к важному уточнению эстетической специфики бардовской поэзии, характеризующейся особым типом бытования в культуре: «Бардовская песня – явление интертекстуальное: авторы цитируют, перепевают, пародируют, дополняют друг друга. Эпиграф же делает эти связи более явными, изначально настраивая слушателя на взаимодействие, диалог между песнями» (Абросимова Е.А. Специфика эпиграфа в бардовской песне // Художественный текст и языковая личность: Материалы IV Всероссийской научн. конф. (27-28 октября 2005 г.) / Под ред. проф. Н.С.Болотновой. Томск, ЦНТИ, 2005.С.230, 233). 69 Бойко С.С. Поэзия Булата Окуджавы как целостная художественная система. Канд. дисс. М., МГУ, 1999. 70 Абельская Р.Ш. Указ. соч. 71 «Свой поэтический материк…». Научные чтения, посвященные 75-летию со дня рождения Булата Окуджавы. М., 1999. 72 Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. 73 Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. М., Булат, 2004. 74 Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры XX века. Материалы Первой междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рожд. Булата Окуджавы. 19-21 ноября 1999 г., Переделкино. М.: Соль, 2001. 75 Лесневский С.С. Шансонье России // «Свой поэтический материк…». С.48. 22 библиографический список изданий Окуджавы, работ и отзывов о нем и его творчестве за период 1997-1998 гг. В сборнике 2002 г., вышедшем как приложение к альманаху «Мир Высоцкого», творчество Окуджавы рассматривается многоаспектно. Это и контекст авторской песни, связанный с военной темой (В.А.Зайцев) и польскими мотивами (С.В.Вдовин), и интерпретация мало осмысленного пока материала ранней лирики (О.М.Розенблюм), анализ важнейших образов и концептов – в частности, концепта души (К.А.Агабекова, Е.В.Купчик). Специфическим для песенной поэзии словесно-музыкальным средствам выразительности посвящены работы Е.Р.Кузнецовой и М.В.Каманкиной. О жанровых проблемах творчества Окуджавы и о характере бытования его текстов в пародийном дискурсе 60-х гг. идет речь соответственно в статьях Л.А.Левиной и Вл.И.Новикова. Феномен «эпической прозы лирического поэта» оказался в центре внимания В.П.Скобелева и Н.М.Солнцевой. Некоторое сокращение собственно литературоведческой части за счет публикации мемуарных и архивных материалов произошло в окуджавском сборнике 2004 г. Из литературоведческих работ особенно перспективна статья А.В.Кулагина, где обозначаются контуры не изученной еще проблемы творческих связей Высоцкого и Окуджавы. Один из ключей к изучению стилистики стихов-песен Окуджавы дает работа Л.Г.Фризмана о «безответных вопросах» как особом выразительном средстве в его поэтическом мире. Внимание сразу трех исследователей – Л.С.Труса, С.В.Веселкова, М.А.Александровой – оказалось сосредоточенным на интерпретации романа «Свидание с Бонапартом». Существенным достоинством сборников 2002 и 2004 гг. стали и ценные библиографические материалы. В некотором роде симптоматичный «срез» современных исследований как наследия Б.Окуджавы, так и бардовской поэзии в целом, представлен в трех статьях 2002 г. о творчестве Окуджавы:76 Н.А.Богомолова о проблеме соотношения произведений поэтапевца с массовой культурой; М.О.Чудаковой о связях его лирики с литературным контекстом 1930-50-х гг.; О.А.Клинга о мифологеме пути в лирике Окуджавы и в этой связи – о влиянии блоковской традиции. Каждое из этих разноплановых исследований указывает на назревшую необходимость рассмотрения феномена песенной поэзии в широком – как синхронном, так и диахронном – историко-литературном контексте. 76 Богомолов Н.А. Булат Окуджава и массовая культура; Чудакова М.О. Возвращение лирики; Клинг О.А. «…Дальняя дорога дана тебе судьбой…»: Мифологема пути в лирике Булата Окуджавы // Вопросы литературы. 2002.№3 (май-июнь). С.3-14, 15-41, 42-57. 23 Ряд серьезных исследовательских усилий был направлен в последнее десятилетие и на изучение песенно-поэтического творчества А.Галича. В появившихся в начале 1990-х гг. монографиях С.Б.Рассадина и Л.Г.Фризмана77 пока еще в достаточно общем виде осмыслялись ключевые особенности творческой индивидуальности поэта – как «скрупулезного, дотошного бытописателя нашей действительности»,78 вскрывшего «абсурдность… привычного быта» и одновременно глубинную для существующего в условиях тоталитаризма национального сознания «тоску по неискривленности».79 Достаточно основательно рассматривались в этих работах военная, лагерная темы галичевской поэзии, а также сквозная в его стихах-песнях рефлексия о поэтах и поэзии («Гусарская песня», «Цыганский романс», «Салонный романс», «Возвращение на Итаку», «Снова август» и др.). Л.Г.Фризман уделил значительное внимание художественному своеобразию сатиры Галича, проследив ее эволюцию, начиная с самых ранних произведений; влияние традиций М.Зощенко; речевые средства сатирического изображения; особенности персонажного мира. В обобщающем ракурсе представлено творчество Галича и в научно-популярном очерке Вл.И.Новикова, где воссоздается парадоксальная логика пути поэта – «самого старшего по возрасту классика»80 авторской песни – от работы в Оперно-драматической студии К.С.Станиславского до позднейшего эмигрантского изгнания. Здесь также предпринята попытка соотнести основные проблемно-тематические уровни поэзии Галича с контекстом творчества Высоцкого и Окуджавы, постановочными являются и суждения исследователя о своеобразном «академическом стиле», впервые привнесенном Галичем в бардовскую поэзию: «Он внес в практику жанра навыки и приемы историкофилологической работы с сюжетом и словом, строгую выверенность стихового построения, осознанность интонационного жеста… Галич в большей степени, чем Окуджава и Высоцкий, апеллирует к разуму читателя-слушателя, но это не лишает его песен эмоционального напряжения».81 В очерке Вл.И.Новикова намечены значимые направления рассмотрения гражданских и исторических мотивов, темы творчества, культурологических аспектов в поэзии этого автора. 77 Рассадин С.Б. Я выбираю свободу (Александр Галич). М., 1990; Фризман Л.Г. «С чем рифмуется слово истина…». О поэзии А.Галича. М.,1992. 78 Рассадин С.Б. Указ. соч. С.16. 79 Там же. С.28. 80 Новиков Вл. И. Александр Галич // Авторская песня. М., 2002. С.121. 81 Новиков Вл.И. Александр Галич. С.138, 144. 24 Расширение диапазона исследовательских подходов к творчеству Галича отразилось в трех тематических сборниках 1991, 2001 и 2003 гг.82 В самом раннем из них особенно выделяется междисциплинарный подход к поэзии Галича, предполагающий комплексное рассмотрение текстов стихов и их музыкального оформления, специфики авторского исполнения. Так, в статьях И.Грековой, В.Фрумкина рассматривается глубокая смысловая значимость характерной для Галича «резкой, необработанной, подчеркнуто антивокальной манеры исполнения».83 На примере различных произведений показано, как именно их содержание определяло особенности песенного исполнения, которое «тяготеет то к поэтической декламации, то к свободной (в смысле ритма и высоты) обыденной речи».84 В этих же статьях, а также в вошедших в сборник работах Л.Венцова, Е.Эткинда, А.Синявского речь идет о развитом театральном начале как в самих галичевских песнях, так и в их авторском исполнении: отмечается драматургичность структуры многих, ориентированных на персонажное «многоголосье» произведений Галича, выявляются жанровые признаки «песен-спектаклей», «песен-сценариев», «песен-сценок» и песенных поэм как «сложных сценических композиций, сцепленных параллельным развитием сюжетных линий».85 В позднейших сборниках 2001 и 2003 гг. жанровый подход к описанию всего многообразия песенной поэзии Галича вновь обнаружил свою продуктивность: в работах о жанре «страшной баллады» в творчестве Галича и Высоцкого (Л.А.Левина), о поэтике и содержательных разновидностях циклических единств (С.В.Свиридов, В.Я.Малкина, Ю.В.Доманский), о сопряженности театрального начала с жанровой типологией галичевской поэзии (И.А.Соколова), об исканиях поэта в жанре лиро-эпической поэмы (В.А.Зайцев). В вошедших в сборники статьях очевидно усиление исследовательского интереса к контекстуальному рассмотрению творчества Галича, а также к частным проблемам его поэтики и текстологии: в работах А.В.Кулагина о функциях эпиграфов, Л.Г.Фризмана об особенностях строфической организации текстов Галича, А.Е.Крылова о проблемах датировки его стихов-песен и др. Последним из названных исследователей подготовлен 82 в последние годы целый ряд статей, посвященных в основном Заклинание Добра и Зла: Александр Галич – о его творчестве, жизни и судьбе рассказывают статьи и воспоминания друзей и современников, документы, а также истории и стихи, которые сочинил он сам / Сост., авт. предисл. Н.Г.Крейтнер. М., 1991; Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001; Галич: Новые статьи и материалы. М., ЮПАПС, 2003. 83 Фрумкин В. Не только слово: вслушиваясь в Галича // Заклинание Добра и Зла… С.218. 84 Там же. С.232. 85 Венцов Л. Поэзия А.Галича // Заклинание Добра и Зла… С.55, 64. 25 текстологическим аспектам творчества Галича,86 а также в 2001 и 2003 гг. выпущено два специальных исследования о Галиче.87 В книге А.Е.Крылова «Галич – «соавтор»» впервые в литературоведении рассмотрены особенности работы поэта совместно с иными авторами. Особенно значимы наблюдения над тем, как в «переделывании» Галичем произведений других бардов, отвечавшем его творческой потребности в «редактуре чужого текста», проявились грани его собственной художнической, языковой индивидуальности. Связаны с этим и изучение эпиграфов к произведениям поэта, выявление проницаемых границ между эпиграфом и заголовочным комплексом, а также типов смысловых и художественных связей эпиграфа и основного текста, когда, к примеру, «песня начинала свое существование с одним эпиграфом, а в дальнейшем получала совсем иной…».88 В книге же «Не квасом земля полита…» рассмотрение темы спиртного, пьянства – сквозной в произведениях Галича – позволяет с нетривиальной точки зрения взглянуть на характер постижения поэтом национального бытия и сознания. Итак, немалый исследовательский опыт в изучении творчества каждого из трех крупнейших бардов становится серьезной предпосылкой для широкого осмысления авторской песни не только в собственно «бардовском», но и в общепоэтическом и общелитературном контекстах. Отмечая назревшую необходимость «глубокого постижения авторской песни как ключевой области русской поэзии XX века»,89 А.В.Кулагин при разговоре об исследованиях творчества Б.Окуджавы и А.Галича следующим образом обозначил возможную литературоведческую перспективу: «Исследование творчества двух этих бардов… набирает силу, и на этом фоне заметно, что чуть подуставшее высоцковедение в каких-то моментах делает холостые обороты… Залог «выравнивания»… – в исследовательском погружении каждой из этих фигур в контекст эпохи, в контекст литературы и авторской песни».90 Изучение авторской песни в аспекте литературных связей, хотя и осуществляется пока в основном лишь в связи с творчеством Б.Окуджавы, В.Высоцкого и А.Галича, все же характеризуется достаточным разнообразием исследовательских подходов. В 86 Крылов А.Е. Как это все было на самом деле // Вопросы литературы. 1999. Вып.6. С.279-286; Он же. О трех «антипосвящениях» Александра Галича // Континент. №105. 2000. Июль-сентябрь. С.313-343; Он же. «Снова август» // Вопросы литературы. 2001. Вып.1. С.298-311. 87 Крылов А.Е. Галич – «соавтор». М., 2001; Он же. Не квасом земля полита…: Примечания к «человеческой трагедии» Александра Галича. Углич, 2003. 88 Крылов А.Е. Галич – «соавтор». С.43. 89 Кулагин А.В. Барды и филологи (Авторская песня в исследованиях последних лет) // Новое литературное обозрение. 2002. №2. (вып.54). С.354. 90 Кулагин А.В. В поисках жанра. Новые книги об авторской песне // Новое литературное обозрение. 2004.№2. (вып.66).С.338. 26 осмыслении этой проблематики наметился ряд ключевых направлений: соотнесение бардовской поэзии с синхронным ей литературным контекстом, с традициями классики и Серебряного века, с типологически родственными явлениями песенной поэзии (в первую очередь рок-поэзией), а также выявление творческих связей, взаимовлияний внутри самого бардовского контекста. Контуры проблемы соотношения авторской песни с русской поэтической традицией были обозначены в специальном разделе монографии И.А.Соколовой.91 Здесь, в частности, обращается внимание на то, что «приобщенность к книжной культуре» была одной из коренных черт художественного сознания поэтов-бардов и проявлялась не только на уровне образных, мотивных перекличек, но и в многочисленных примерах сочинения такими авторами, как Е.Клячкин, А.Дулов, А.Суханов, А.Мирзаян и др., песен на стихи известных поэтов-классиков и современников. Намечена перспектива дальнейшего изучения роли реминисценций из классической поэзии в творчестве поэтовбардов, особенно в произведениях А.Галича, В.Высоцкого и др. На сопоставлении творчества трех ведущих поэтов-певцов построено диссертационное сочинение Д.Н.Курилова.92 При несомненной необходимости исследования данного рода связей, оно, вследствие узости избранного контекста, не способно стать надежным основанием для типологии авторской песни, хотя суждения автора работы о двух направлениях в бардовской поэзии – «балладном», тяготеющем к эпосу и драме, и «эмоционально-созерцательном», опирающемся на лирическое начало, – являются в целом верными и нуждаются в последующем историко-литературном обосновании и развитии. Небезынтересная попытка сопоставительного анализа песенного творчества Б.Окуджавы, А.Городницкого, А.Галича и В.Высоцкого с точки зрения исторических мотивов, отразившихся в их произведениях, предпринята в статье С.С.Бойко,93 уже изначально примечательной фактом расширения круга рассматриваемых авторов. Значительный вклад в осмысление жизни авторской песни в «большом историческом времени» внесла и книга как публиковавшихся ранее, так и новых статей В.А.Зайцева.94 Помимо разделов, посвященных одному из авторов (о военной теме в поэзии Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Галича, о жанровых тенденциях в поэзии А.Галича и т.д.), в книге достаточно силен пласт контекстуальных исследований. Среди последних особенно выделяется новаторская по постановке проблемы работа о влиянии французского 91 Соколова И.А. Авторская песня и русская поэтическая традиция // Соколова И.А. Указ. соч. С.236-254. Курилов Д.Н. Авторская песня как жанр русской поэзии советской эпохи (60-70-е годы). Канд. дисс. М., Лит. институт им. М.Горького, 1999. 93 Бойко С.С. «Непоправимое родство столетий…» // Вагант-Москва. 1996.№10-12. С.45-66. 94 Зайцев В.А. Окуджава. Высоцкий. Галич: Поэтика, жанры, традиции. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003. 92 27 шансона, и в частности антивоенных песен Ива Монтана, на творчество отечественных бардов. Вырисовывается и синхронный для поэтов-бардов литературный контекст: отдельные разделы посвящены многоплановым связям поэзии Б.Окуджавы и В.Высоцкого с творчеством поэтов-современников (Н.Заболоцкий, Д.Самойлов, Б.Ахмадудина, А.Вознесенский, И.Бродский). Широкая литературная перспектива обозревается и в соотнесении «Памятника» В.Высоцкого с соответствующей жанровой традицией в русской лирике ХVIII-XX вв. Актуальный и пока малоисследованный вопрос о преемственных связях авторской песни с традициями Серебряного века рассмотрен В.А.Зайцевым на материале цикла А.Галича «Читая Блока», где явлен оригинальный опыт поэта-певца в переосмыслении блоковских образов и мифологем. Важным залогом будущего научного позиционирования авторской песни в общепоэтическом контексте являются исследования литературных связей на примере творчества отдельных бардов. Наиболее подробно разработано в этом плане творчество В.Высоцкого. В специально посвященной указанной проблеме книге А.В.Кулагина95 четко отрефлектирована основная задача: поставить творчество поэта-певца в «не только бардовский ряд, но и ряд литературный».96 Что касается первого ряда, то здесь примечателен раздел о творческих связях В.Высоцкого и М.Анчарова, стоявшего у истоков авторской песни. Это сопоставление позволяет выявить особенности историкокультурного фона эпохи, а также своеобразие творческой памяти Высоцкого, для которой были существенны образные, слуховые ассоциации. В рассмотрении же более широкого спектра литературных связей первостепенное место занимает в данной работе исследование многогранной «пушкинианы» Высоцкого: это и разнообразные пушкинские подтексты стихов-песен барда, и параллели с любовной лирикой Пушкина (например, в стихотворении «Люблю тебя сейчас…»), и анализ «антисказки» «Лукоморья больше нет…» и др. Плодотворными становятся здесь и сопоставление «фантастического реализма» ряда произведений Высоцкого с традициями Гоголя и Достоевского, и анализ в разделе «Два Тезея» творческих параллелей между Высоцким и И.Бродским на уровне мифопоэтической образности. При очевидной ценности предложенных в книге наблюдений, здесь все же не преодолены «этюдность», некоторая отрывочность в подходе к материалу, не позволяющие пока выстроить целостной системы творческих диалогов Высоцкого с предшественниками. 95 96 Кулагин А.В. Высоцкий и другие. Сб. статей. М., 2002. Там же. С.3. 28 Также в отдельных работах А.В.Кулагина,97 Вл.И.Новикова,98 Н.К.Неждановой99 пунктирно прочерчены некоторые линии важнейшего и требующего дальнейших изысканий сопоставления творчества В.Маяковского и В.Высоцкого. Аспект литературных связей разнопланово представлен и в специальных высоцковедческих сборниках. Так, среди томов альманаха «Мир Высоцкого» особенно выделяются с этой точки зрения третий (часть 2), пятый и шестой выпуски. Здесь предприняты значительные исследовательские усилия для изучения и собственно бардовского контекста в работах о Ю.Визборе, Н.Матвеевой, А.Вертинском, Б.Окуджаве, М.Щербакове, А.Галиче (Т.Н.Масальцева, Г.Г.Хазагеров, Е.В.Купчик, Е.Я.Лианская, Е.А.Тарлышева и др.); и связей с рок-поэзией100 в статьях о посвящениях А.Макаревича, диалоге А.Башлачева с традицией Высоцкого (Ю.В.Доманский, Н.Н.Клюева и др.), а также синхронных и диахронных литературных взаимодействий. В связи с последней проблематикой выделяются сопоставительные работы, соотносящие творчество поэта с некрасовскими традициями (Г.Л.Королькова), с лиро-эпической поэзией Н.Гумилева (О.Лолэр, Д.В.Соколова), а также с творчеством таких современников, как А.Вампилов, И.Бродский, Н.Рубцов (Дж.Смит, Н.М.Рудник, Л.Л.Иванова, Е.М.Четина). Не исключая общей концептуальной значимости этих работ, отметим все же нередко случайный, научно не вполне мотивированный выбор ракурсов сопоставительного анализа, теряющего по этой причине в своей ценности, что заметно, например, в таких заголовках статей, как «Солнце и луна в поэзии Визбора, Высоцкого и Городницкого» или «Парабола и парадигма в творчестве Высоцкого, Окуджавы, Щербакова» и др. Углубление подхода к этой проблематике наметилось в сборниках статей о Высоцком начала 2000-х гг.101 В сборнике 2001 г. это более или менее удачные сопоставления наследия поэта с творчеством С.Есенина и И.Бродского (В.Ю.Чибриков, М.А.Перепелкин), а в сборнике 2003 г. к числу первостепенно значимых работ могут быть отнесены исследования граней творческого диалога В.Высоцкого и А.Галича (Н.А.Богомолов, А.А.Евтюгина, И.Г.Гончаренко и др.), основных параметров хронотопа, речевого пространства, а также поэтической фоники авторской песни (О.В.Сахарова, 97 Кулагин А.В. Об одной аллегории в лирике В.Маяковского и В.Высоцкого // К 100-летию со дня рождения В.В.Маяковского: Лит. чтения. Коломна, 1994. С.19. 98 Новиков Вл.И. В.Маяковский и В.Высоцкий // Знамя. 1993. №7. С.200-204. 99 Нежданова Н.К. В.Маяковский и В.Высоцкий: параллели художественных миров // Наука и образование Зауралья. Курган. 1999. №1-2. С.219-221. 100 Этой проблеме посвящен сб.: Владимир Высоцкий и русский рок. Сб. научных трудов. Тверь, 2001. 101 Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры XX века. Сб. статей. Под ред. В.П.Скобелева, И.Л.Фишгойта. Самара, 2001; Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003. 29 М.Л.Рогацкина). Относительно новой стала и постановка проблемы соотнесения творчества поэта с эстетикой постмодернизма (С.Ю.Толоконникова). Значительно меньший, но все же содержательный опыт контекстуального анализа наработан в связи с изучением творчества Б.Окуджавы и А.Галича. Рассмотрение целостной системы литературных контекстов поэтического мира Окуджавы впервые было предпринято в диссертации С.С.Бойко,102 где главным образом в связи с проблемой интертекстуальности полно выявлены пушкинский пласт, а также параллели с поэзией М.Лермонтова, А.Блока, Б.Пастернака, О.Мандельштама. Продуктивное развитие и обогащение данного направления предложено в исследовании Р.Ш.Абельской.103 Картина «литературных взаимодействий» здесь существенно расширяется: это и окуджавский образ «тихого» Пушкина – «поэта «тихого» добра и «тайной свободы», а также творца волшебного мира детских сказок»,104 и рецепция мотивов «гусарской» лирики Д.Давыдова, романсового строя и разговорной лексики стихов И.Мятлева и Л.Трефолева, и творческие диалоги с А.Блоком и Б.Пастернаком на уровне «романсовых», музыкальных приемов организации поэтического текста; с В.Маяковским – на почве обращения к ритмам и языку улицы; с такими поэтамисовременниками, как Б.Ахмадулина, Д.Самойлов, Ю.Левитанский. Ценность этих наблюдений – не только в объемности историко-литературной панорамы, не только в выявлении специфики и генезиса «сплава романтического и сентименталистских мироощущений» в поэзии Окуджавы, но и в методологическом обосновании системных закономерностей его взаимодействия с литературной традицией: «В поэтической классике его привлекали не столько магистральные ее пути, сколько «боковые ответвления» и «тихие тропинки»».105 В исследованиях творчества А.Галича подобной целостной концепции литературных связей пока не предложено, однако некоторые предпосылки к ее созданию в отдельных работах возникают. В сборнике 2001 г. «маленькие поэмы» Галича представлены на фоне активного развития жанра лиро-эпической поэмы в 1960-70-е гг. (В.А.Зайцев), а в обстоятельной статье С.В.Свиридова о поэтическом цикле «Литераторские мостки»106 на уровне системы образов, лейтмотивов, концептов «слова-памяти», «слова-памятника», разных типов интертекстуальных связей (прямое, скрытое, косвенное цитирование) 102 Бойко С.С. Поэзия Булата Окуджавы как целостная художественная система… Абельская Р.Ш. Указ. соч. 104 Там же. С.11. 105 Там же. С.11. 106 Свиридов С.В. «Литераторские мостки». Жанр. Слово. Интертекст // Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001. С.99-128. 103 30 выявлены направления диалога автора цикла с «текстами» поэзии и судеб А.Ахматовой, О.Мандельштама, Б.Пастернака. В сборнике о Галиче 2003 г. обсуждение круга литературных связей выглядит более масштабным, хотя в целом остается пока на стадии накопления материала для будущих системных обобщений. Здесь устанавливаются подчас неожиданные параллели поэзии Галича с традицией гражданской лирики декабристов – в частности, на примере «Петербургского романса» (Л.Г.Фризман), с жанровой традицией романтической «страшной баллады» (Ю.С.Карпухина). Грани диалога Галича с русскими поэтами XX века высвечиваются в работах С.В.Свиридова о параллелизме некоторых мотивов и образов в поэзии Галича и Маяковского, а также о возникающей здесь глубинной общности трагедийных отношений поэта с историческим временем; Н.И.Пименова, предложившего в связи с «Александрийскими песнями» сопоставительное рассмотрение лирических героев поэзии Блока и Галича; О.О.Архипочкиной о посвященных Пастернаку произведениях Галича как содержательной и художественной общности.107 Таким образом, анализ существующих контекстуальных исследований авторской песни указывает, с одной стороны, на заметные литературоведческие достижения в этом направлении, но с другой – на очевидную неравномерность в изучении литературных связей творчества даже крупнейших поэтов-бардов и явные лакуны в сопоставительном осмыслении как менее изученных художественных миров, так и авторской песни в целом. Важным подспорьем, а возможно, и определенным уточнением результатов литературоведческого изучения синтетического феномена бардовской поэзии становятся пока весьма немногочисленные междисциплинарные исследования, в которых авторская песня, творчество отдельных ее представителей осмысляется с позиций семиотики, лингвистики, музыковедения, театроведения, культурологии и социологии. Авторская песня как «целостная, динамично развивающаяся семиотическая система» оригинально рассмотрена в статье В.А.Кофановой.108 С семиотической точки зрения анализируются невербальные символы, неотъемлемые атрибуты исполнения бардовской песни, определяющие стратегию творческого поведения поэта-певца и выполняющие важную контактоустанавливающую функцию: обыденная одежда, соответствующая 107 См. позднейшую работу по данной проблеме: Потапова Т.А. Б.Л.Пастернак в творческом сознании А.Галича // Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Международной научн. конф.: 10-11 ноября 2004 г. / Ред.-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2004. С.170-173. 108 Кофанова В.А. Авторская песня как семиотическая система // Язык и текст в пространстве культуры: Сб. статей научно-методич. семинара «Textus». Вып.9. СПб.- Ставрополь, 2003.С.144-149. 31 исполнению «песни в свитере», гитара как «многофункциональный знак»,109 отсутствие поставленного голоса, а также особые знаки организации пространства творческого и личностного общения – кухня, студенческий или туристический поход и т.д. Расценивая саму фигуру поющего со сцены поэта в качестве «сложного вербального знака»,110 автор работы не без оснований усматривает в содержащих автокомментарии устных выступлениях бардов выработку метаязыка, системы самоописания бардовской поэзии. Достаточно разнопланово представлены и лингвистические подходы к изучению бардовской поэзии. Особенно перспективными видятся исследования, рассматривающие язык авторской песни в соотнесенности с общеязыковыми тенденциями эпохи. Так, в работе О.А.Семенюк выявлены различные формы влияния произведений бардовской поэзии как неподцензурного искусства на крайне идеологизированное языковое сознание 1960-80-х гг.: «Произведения авторской песни служили элементом своеобразной стены, которая сдерживала давление идеологизированных текстов на общество и личность… Исполнители, благодаря высокому личному авторитету и возможности «вводить» свои тексты в общий коммуникационный поток не только в традиционном для литературы печатном варианте, но и в звуковом, имели более эффективную возможность иронизировать и над социальной действительностью, и над советским языком».111 Частным проявлением обозначенного влияния стала фразеология, чрезвычайно развитая в бардовских текстах и составившая мощную альтернативу официозной стилистике: «Авторская песня передала в дискурс советского периода крылатые выражения, которые стали выполнять для личности и общества роль своеобразных лозунгов и призывов… Фразеология авторской песни способствовала формированию более независимой личности… становилась базой особенного философского восприятия действительности».112 В современной лингвистике тексты поэтов-бардов исследуются как с точки зрения общих закономерностей авторского идиостиля,113 так и в аспектах лексической 109 семантики (Е.А.Сполохова, В.П.Изотов114 и др.), фразеологии Кофанова В.А. Указ. соч. С.148. Там же. С.147. 111 Семенюк О.А. Авторская песня и русский язык периода 60-80-х годов XX века // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.197. 112 Семенюк О.А. Указ. соч. С.199, 201-202. 113 Евтюгина А.А. Прецедентные тексты в поэзии В.Высоцкого (к проблеме идиостиля). Автореф. канд. дисс. Екатеринбург, 1995. 114 Сполохова Е.А. Ассоциативно-семантические поля истины, правды и лжи в поэзии Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.158-178; Изотов В.П. Филологический комментарий к творчеству В.С.Высоцкого. Проект // Там же. С.179-198. 110 32 (С.Г.Шулежкова, А.В.Прокофьева115 и др.), социолингвистики (Л.В.Кац116 и др.), лингвокультурологии (А.А.Евтюгина, И.Г.Гончаренко117 и др.). Хотя пока подобные исследования обращены в большинстве случаев лишь к творчеству В.Высоцкого. В свете синтетической природы искусства авторской песни и разнонаправленности творческих дарований самих бардов, часто соединявших, например, литературную деятельность с актерской, особенно актуальными становятся музыковедческие и театроведческие исследования. В музыковедческом плане пока лишь намечена плодотворная перспектива рассмотрения синергии музыки и поэтического слова в произведениях бардов. Так, в работе М.В.Каманкиной118 убедительно устанавливаются корреляции между литературными и музыкальными жанрами в творчестве Б.Окуджавы (вальс, марш, романс и др.), что дает основания на новом уровне анализировать ритмические и иные особенности этих синтетических текстов. Кроме того, песенность анализируется как ключевое свойство многих произведений поэта, проявляющееся на уровне построения образной системы, поэтического синтаксиса, на основе чего делается убедительный вывод о том, что музыка у Окуджавы выступает как «чуткий и гибкий партнер поэтического слова».119 Созвучны этому исследованию и работы Е.Р.Кузнецовой, представившей мелодичность как доминанту поэтики стихов-песен Б.Окуджавы,120 а в другой статье – уже на материале поэзии В.Высоцкого121 – проследившей конкретные пути взаимодействия музыкального и поэтического начал на уровнях сюжетосложения, общей композиции и жанрового своеобразия произведений, где «музыкальный элемент делает ощутимыми гармонию и неповторимость лирического стиха».122 Особенно примечательна в этой работе и гипотеза о связи генезиса песенной поэзии середины века с символистскими эстетическими теориями: «Звук, его музыкальность и многообразие как средство выразительной речи 115 Шулежкова С.Г. Крылатые выражения В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.216-225; Прокофьева А.В. О сюжетно-композиционных функциях фразеологических единиц // Там же. С.208-215. 116 Кац Л.В. О некоторых социокультурных и социолингвистических аспектах языка В.С.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.144-157. 117 Евтюгина А.А., Гончаренко И.Г. «Я был душой дурного общества». Опыт лингвокоммуникативного анализа стихотворения // Там же. С.244-255. 118 Каманкина М.В. Песенный стиль Б.Окуджавы как образец авторской песни // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.225-243. 119 Там же. С.243. 120 Кузнецова Е.Р. Мелодичность как тематическая и структурная доминанта поэтики Б.Ш.Окуджавы // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии… С.98-111. 121 Кузнецова Е.Р. Слово и музыка в парадигме стихового пространства. Музыкальность лирики В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.256263. 122 Кузнецова Е.Р. Слово и музыка… С.263. 33 стал постигаться еще символистами в начале XX века вместе с ритмом, тембром и мелодикой».123 Актуальность театроведческих исследований авторской песни, как видится, может быть двоякой. С одной стороны, анализ комплекса особенностей сценического поведения поэта-певца в сопряженности с разноуровневым рассмотрением самих художественных текстов. Этот аспект научно практически не изучен, а осмысляется пока лишь на уровне отдельных эмпирических наблюдений – например, предложенное Л.А.Аннинским глубоко содержательное сопоставление исполнительских и даже речевых манер Ю.Визбора и М.Анчарова124 в соотнесении не только с их индивидуальными поэтическими мирами, но и с теми различными стилевыми тенденциями в авторской песне, которые они наиболее ярко воплощают. Иная, гораздо более отрефлектированная грань этой проблемы – влияние актерского опыта художника на образный мир и поэтику его литературных произведений. Особенно глубоко эта проблема разработана в связи с творчеством В.Высоцкого, прежде всего в сопряженности с гамлетовской темой.125 Систематизирована и методология такого рода исследования, которое остается актуальным и применительно к творчеству иных бардовактеров (А.Галич, Ю.Ким, Ю.Визбор и др.). В работе М.Н.Капрусовой126 выделены и взаимно соотнесены три уровня рассмотрения проблемы: воздействие на мироощущение лирического героя «черт характера, мировоззрения, настроения играемого персонажа»;127 интерес, внимание поэта-актера к общему контексту творчества автора играемой пьесы; присутствие в поэтическом тексте «отсылок не только к характеру играемого персонажа, не только к тексту роли, но и к декорациям, реквизиту, сценографии спектакля».128 Полноценное исследование феномена авторской песни невозможно и без уяснения социокультурных факторов его появления, развития и широкого распространения в общественной среде. В работах С.П.Распутиной, Б.Б.Жукова129 развитие и эволюция бардовского движения связываются с широким кругом явлений общественного бытия и сознания второй 123 Кузнецова Е.Р. Указ. соч. С.257. Аннинский Л.А. Барды. М., 1999. С.84-86. 125 Юткевич С. Гамлет с Таганской площади // Шекспировские чтения-1978. М., 1981. С.82-89; Бачелис Т. Гамлет-Высоцкий // Вопросы театра. Вып.11. М., 1987. С.123-142; Кулагин А.В. Поэзия В.С.Высоцкого… С.122-160 и др. 126 Капрусова М.Н. Влияние профессии актера на мироощущение и литературное творчество В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.398-419. 127 Там же. С.402. 128 Там же. С.405. 129 Распутина С.П. Социальная мотивация советского бардовского движения. Философско-социологический аспект // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.375379; Жуков Б.Б. Современное состояние авторской песни как отражение изменений в национальном менталитете // Там же. С.380-389. 124 34 половины XX века, с серьезными изменениями в национальной ментальности. С.П.Распутина рассматривает широко распространившиеся в 1960-е гг. не только в СССР, но и в странах Западной Европы и США песенные движения как «выражение социальной активности» и основу широкомасштабной «консолидации людей» (французские шансонье, американские песни протеста, рок-движение и др.). Эти процессы зачастую становятся проявлением протестной реакции по отношению к диктату «идеологизированной продукции массовой культуры»: «Дегуманизационные тенденции вызывают протест у наиболее мобильной части общества – молодых интеллектуалов, что приводит к спонтанному возникновению «гуманистического противовеса», частными случаями которого и выступали бардовское движение, шансон и рок-движение».130 Видя в бардовском творчестве определенное проявление «контркультуры», автор работы предлагает в целом убедительную социокультурную мотивацию эволюции авторской песни от раннего, лирико-романтического периода к поздней фазе, ознаменованной усилением социально-критической направленности: «Контркультурность бардовского движения вначале была не осознана его субъектами. Осознание принадлежности к контркультуре произойдет лишь на втором этапе его истории – в конце 60-х – начале 70-х годов, и главным образом – благодаря личности и творчеству В.С.Высоцкого. В исходной же точке актуализации (конец 50-х – начало 60-х годов) оно являлось лишь спонтанным разрешением противоречий в представлениях о месте и роли человека в системе общественных отношений».131 В иных значимых с данной точки зрения работах авторская песня рассматривается как важный источник исторического знания,132 а также в ракурсе «шестидесятнической» идеологии133. Представляют интерес и исследования особенностей общественного бытования, в частности на уровне газетно-журнальных заголовков, полных или измененных цитат, крылатых выражений из произведений поэтов-бардов.134 Таким образом, в литературоведческой науке накоплен серьезный опыт в изучении авторской песни. Обоснована необходимость ее восприятия именно как поэтического, литературного явления, что не исключает важности и междисциплинарных подходов; в 130 Распутина С.П. Указ. соч. С.377. Там же. 132 Богоявленский Б.Д., Митрофанов К.Г. Авторская песня как исторический источник // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.515-524. 133 Страшнов С.Л. Феномен Высоцкого в социокультурных контекстах 50-60-х годов // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.22-29. 134 Крылов А.Е. Бытование и трансформация крылатых выражений Высоцкого в газетно-журнальных заголовках. На примере песен для кинофильма «Вертикаль» // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.IV. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2000. С.217-228; Он же. Высоцкий – о нашей жизни на рубеже веков // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.273-286. 131 35 целом убедительно выявлен генезис этого феномена, предприняты отдельные шаги к прояснению его типологии, жанровой системы, литературных контекстов; с большей или меньшей основательностью исследовано в основном творчество трех крупных бардов – В.Высоцкого, Б.Окуджавы и А.Галича. Вместе с тем творческие индивидуальности иных поэтов-певцов еще не стали предметом системного научного изучения, пока не предложено целостной жанрово-стилевой типологии бардовской поэзии, остается и значительный пласт неисследованных литературных связей. Названные факторы обусловили актуальность данного исследования. Цели, задачи и структура диссертации Стратегической целью работы является рассмотрение авторской песни как явления русской поэзии 1950-70-х гг. в трехмерном историко-литературном измерении: изучение синхронных закономерностей развития и типологии бардовской поэзии в качестве эстетической общности; осмысление данного феномена в аспекте как литературных традиций, так и последующей перспективы его эволюции. Выбор хронологических рамок исследования мотивирован сложившимися в научной традиции представлениями именно о 1950-1970-х гг. как классическом периоде развития авторской песни. Отбор писательских имен для подробного изучения обусловлен в первую очередь степенью эстетической, литературной значимости данного художественного мира, уровень же детализации в его рассмотрении определяется мерой изученности этого явления и тем, насколько показательно оно позволяет представить магистральные тенденции анализируемого поэтического направления. Методология. В работе комбинируются типологический, историко-генетический и системно-структурный методы исследования. Методологической основой диссертации послужили прежде всего труды по теории лирики как рода литературы, концепции лирических жанров в литературе и фольклоре, работы о взаимодействии стиха и прозы, об эстетической специфике и внутренней дифференциации песенной поэзии (Г.Н.Поспелов, В.Е.Хализев, Л.Я.Гинзбург, Л.Г.Фризман, Ю.Б.Орлицкий, С.С.Бойко, С.В.Свиридов и др.) Стратегическая цель исследования определяет и обозначенные в подзаголовке к работе ее конкретные задачи: • рассмотрение творческих индивидуальностей наиболее значимых поэтовбардов во взаимодействии личностного и исторически характерного начал; • описание многообразных художественных тематических пластов в авторской песне; картин мира и проблемно- 36 • выявление жанровых тенденций и доминант как в творчестве отдельных авторов, так и в различных направлениях бардовской поэзии в целом; • установление различных типов соотношения между лирическим героем и песенными персонажами в произведениях бардов; • исследование социально-психологического многообразия и структуры персонажного мира в авторской песне; • изучение способов организации речевого пространства и системы средств художественной выразительности в песенной поэзии; • построение литературоведческой типологии авторской песни; • разработка ряда важнейших для интерпретации бардовской поэзии литературных контекстов. Поставленные задачи решаются в трех главах диссертации, представляющих различные эстетические направления в авторской песне, взаимодействовавшие как в синхронном плане, так и в аспекте эволюции данного поэтического явления. В первой главе рассматриваются художественные системы авторов, создавших лирико-романтическое направление бардовской поэзии. Отдельные разделы посвящены творчеству Б.Окуджавы, Ю.Визбора, Н.Матвеевой, Е.Клячкина. Частные аспекты исследования в разделах о Б.Окуджаве и Ю.Визборе уточняются в специальных подразделах. Во второй главе – «От лирики к трагедийному песенному эпосу» – осмысляется творчество поэтов, эволюционировавших от лирико-романтической картины мира к масштабному лиро-эпическому освоению действительности, что отразилось на уровне жанровой системы. Разделы главы обращены к творчеству Е.Аграновича, А.Городницкого и А.Дольского. Во втором из разделов выделяются конкретизирующие подразделы. Третья глава представляет трагедийно-сатирическое направление авторской песни, связанное с усилением социально-критической тенденции и с особыми доминантами самостоятельных на проблемно-тематическом, разделах анализируются жанрово-стилевом художественные миры уровнях. В М.Анчарова, В.Высоцкого, А.Галича, Ю.Кима, И.Талькова. Второй, третий и четвертый из названных разделов делятся на подразделы. Каждая глава завершается краткими предварительными итогами, суммирующими наблюдения над конкретным жанрово-стилевым направлением и создающими основания для общего Заключения. 37 Глава 1. Лирико-романтическое направление в авторской песне I. «Зачем на земле этой вечной живу?..». Булат Окуджава 1. Грани поэтической философии а) П е с н и – п р и т ч и О к у д ж а в ы Разнообразие жанрового репертуара песенной лирики Булата Шалвовича Окуджавы (1924 – 1997) обусловлено как творческой индивидуальностью поэта-певца, так и типологическими свойствами авторской песни – синтетического песенно-поэтического и исполнительского мининовеллами, искусства. Наряду историческими с элегиями, «сказаниями», лиризованными «романными» «сценками», песнями-судьбами, песнями-портретами – особую весомость приобретают у Окуджавы и иносказательные песни-притчи, заключающие масштабные нравственно-философские, исторические обобщения: по определению С.С.Аверинцева, жанрообразующим фактором притчи является «тяготение к глубинной премудрости религиозного или моралистического порядка».135 В авторской песне притча утрачивает свой изначальный прямой дидактизм: в произведениях В.Высоцкого, А.Галича, Б.Окуджавы она приобретает символическую глубину и многозначность, вступая в свободное взаимодействие с элементами иных жанровых образований.136 У Окуджавы одним из продуктивных жанровых источников для притчевых обобщений стали излюбленные поэтом городские – элегические и «сюжетные» зарисовки. Так, в ранней песне «Полночный троллейбус» (1957) пространственно-временная перспектива городской зарисовки соединяет предметную достоверность с притчевой расширительной условностью: «Полночный троллейбус, по улице мчи, // верши по бульварам круженье…».137 Рождающиеся в атмосфере непринужденной беседы со слушательской аудиторией («Как много, представьте себе, доброты…») притчевые образы троллейбусакорабля, пассажиров-матросов, животворной водной стихии формируют характерный для жанра притчи целостный метафорический ряд (ср. евангельские притчи о Царствии 135 Аверинцев С.С. Притча // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С.305. Левина Л.А. Грани звучащего слова... С.210-227. 137 Здесь и далее тексты Б.Окуджавы приведены по изд.: Окуджава Б.Ш. Стихотворения. СПб., Академический проект, 2001. 136 38 Небесном, подобном сокровищу, купцу, неводу, сеятелю и т.д. – Мф. 13) и раскрывают преображенное бытие мира и лирического «я» в единении с одушевленным мирозданием: Полночный троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает, и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. В цикле «арбатских» песен Окуджавы притчевое расширение образного ряда городских реалий проявляется в символически значимом смещении реальных пропорций в картине мира. В «Арбатском дворике» (1959) «тот двор с человечьей душой» – «в мешке вещевом и заплечном лежит в уголке небольшой», а в «Песенке об Арбате» (1959) изображение пространства родной улицы пронизано мощным эмоциональном зарядом («и радость моя, и моя беда») и размыкается в метафизическую беспредельность: «Никогда до конца не пройти тебя!». Как и в евангельских притчевых эпизодах (например, о пяти хлебах и двух рыбах – Мф. 14, 17-21), в поэтических притчах Окуджавы обыденное претворяется в чудесное и надвременное, а лирическое «я» трансформируется в архетипический образ путника, прозревающего в родном Арбате и «арбатском дворянстве» («Надпись на камне», 1982) немеркнущие ценности бытия. В «Песенке о белых дворниках» (1964) мечта о «рае на арбатском дворе» проступает в соединении исторической определенности образа «белых дворников наших, в трех войнах израненных» и притчевого звучания этой городской сценки, выводящей на осмысление вечных, таинственных ритмов земного пути: Мы метлами пестрыми взмахиваем, годы стряхиваем, да только всего, что накоплено, нам не стереть… Актуализация жанровых элементов притчи сопряжена у Окуджавы и с повышенной художественной значимостью обобщенных персонифицированных образов Надежды, Веры, Любви, Музыки, Души и др.,138 которые в имплицитной форме обладают нравственно-дидактическим смыслом, заключая в себе квинтэссенцию духовной программы лирического «я». Из городских песен показательна в этом плане «Песенка о ночной Москве» (1963). В драматичном развитии лиро-эпической темы лихолетья войн и исторических потрясений проступают поначалу единичные, подобные «неясному голосу труб», музыкальные ассоциации, которые уже к концу первой строфы оформляются в 138 Абельская Р.Ш. «Под управлением Любви» // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.424-429; Агабекова К.А. Концепт душа в индивидуально-авторской языковой картине мира Б.Ш.Окуджавы // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. С. 112-127. 39 персонифицированный притчевый образ, являющий таинственно-«случайную» мелодическую гармонию бытия, что живет в мире и в «года разлук, в года сражений»: Мелодия, как дождь случайный, гремит; и бродит меж людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви… В иных поэтических притчах, основанных на подобных персонифицированных образах, происходит намеренное абстрагирование от конкретных пространственно-временных ориентиров, что усиливает универсализующий ракурс их нравственно-философского содержания. Так, в центре стихотворения «Три сестры» (1959) – персонифицированные образы Веры, Надежды, Любви, являющие для лирического «я» первоначала его личностной экзистенции: «Вот стоят у постели моей кредиторы // молчаливые: Вера, Надежда, Любовь». Троекратное обращение героя к Вере, «матери Надежде», Любови трансформирует эмоционально насыщенный «бытовой» эпизод в притчевый диалог о таящих просветленную гармонию глубинных основах бытия, что особенно заметно в «покаянном голосе» Любови: Протяну я Любови ладони пустые, покаянный услышу я голос ее: – Не грусти, не печалуйся, память не стынет, я себя раздарила во имя твое. Но какие бы руки тебя ни ласкали, как бы пламень тебя ни сжигал неземной, в троекратном размере болтливость людская за тебя расплатилась… Ты чист предо мной! На место традиционной притчевой морали выдвигается здесь прозрение лирическим «я» духовных ориентиров собственного пути: «Три сестры, три жены, три судьи милосердных // открывают бессрочный кредит для меня…». Обобщенный образ Надежды становится ядром притчевого повествования в стихотворениях «Замок надежды» (1962), «Я вновь повстречался с Надеждой…» (1976). В первом этот образ воплощается в зримой, материальной картине мира, которая развертывается в подчеркнуто «прозаическом», незатейливом отрывистом рассказе героя: «Я строил замок надежды. Строил-строил. // Глину месил. Холодные камни носил…». Сюжетный эскиз, как бы небрежно набросанный отдельными мазками, раскрывает личность лирического «я» – романтика, знающего, однако, тяжелую цену жизненным радостям. Мотивы превозмогания груза «холодных камней» и скепсиса окружающего мира («Прилетали белые сороки – смеялись»), устроения «здания» бытия и собственной души на прочном фундаменте духовных оснований, вопреки лютым испытаниям времени – приобретают глубокий притчевый смысл, вступая в невольную перекличку с 40 евангельской притчей о доме на камне и доме на песке (Мф. 7, 24-27): «Коронованный всеми празднествами, всеми боями, // строю-строю. Задубела моя броня…». Во втором же стихотворении образ Надежды окрашивается в интимно-лирические тона, ассоциируясь с возвышенным женским началом: Я вновь повстречался с Надеждой – приятная Встреча. Она проживает все там же – то я был далече… Вместе с тем обобщенная форма «мы» придает поэтическим раздумьям общечеловеческий, притчевый масштаб, подкрепляющийся как архетипическим для творчества Окуджавы образом дальних странствий, так и пересечением с содержанием притчи о блудном сыне, возвращающемся к забытой родной стихии. Повествовательная динамика соединяется здесь с лирической исповедью, а в жанровом плане осуществляется симбиоз любовного послания и притчи, возвещающей о драматичных законах земного пути и гибельных последствиях «разлуки» с Надеждой: Когда бы любовь и надежду связать воедино, Какая бы (трудно поверить) возникла картина! Какие бы нас миновали напрасные муки, И только прекрасные муки глядели б с чела… Лирические песни Окуджавы возвращали в общественное сознание и лексикон тоталитарной эпохи вытесненные категории Души, Любви, Надежды, Вечности, высветляли в «интерьере» притчевого повествования их смысловые глубины. В «Песенке о моей душе» (1957-1961) в зримом воплощении неожиданно предстает персонифицированный образ души: «Что такое душа? Человечек задумчивый // всем наукам печальным и горьким обученный…». Подобное нетривиальное уподобление становится зерном лирического «сюжета» и реализует основное художественное, нравственно-дидактическое «задание» притчи: представить метафизическое через наглядное, приблизить читателя-слушателя к ощущению таинственных основ жизни. Но тонкая образная ткань окуджавской притчи, приоткрывая грани непостижимого общения лирического «я» с душой-«человечком», ускользает от однозначных моралистических толкований: Он томится, он хочет со мной поделиться, очень важное слово готово пролиться – как пушинка дрожит на печальной губе… Но – он сам по себе, а я сам по себе… Мир поэтических притч Окуджавы облекается подчас и в жанровую форму сказочной мининовеллы, «населенной» условными отражают грани сознания лирического «я». фантастическими персонажами, которые 41 В «Чудесном вальсе» (1961) любовное послание прорастает из сюжетного эпизода и достигает масштаба «романного» обобщения пройденного жизненного пути («Целый век играет музыка. Затянулся наш пикник. // Тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают») благодаря параллелизму со сказочными образами: А музыкант играет вальс. И он не видит ничего. Он стоит, к стволу березовому прислонясь плечами. И березовые ветки вместо пальцев у него, а глаза его березовые строги и печальны. Окрашенная в сказочные тона притча о любви музыканта и его превращении в березу, сосну выявляет мистическую органику всего сущего, согласующую ритмы человеческой и природной жизни, и позволяет через музыкальные лейтмотивы ощутить онтологическую значимость поворотов судьбы: «Целый век играет музыка. Затянулся наш роман. // Он затянулся в узелок, горит он – не сгорает…». Сказочные персонажи поэтических притч Окуджавы – подчас внешне чудаковатые романтики, ставящие душевные ценности выше потребностей повседневного существования. Это как будто сошедший со страниц известной сказки Андерсена герой стихотворения «Бумажный солдатик» (1959), явивший своей судьбой неизбывный драматизм высоких сердечных порывов: «Он переделать мир хотел, // чтоб был счастливым каждый, // а сам на ниточке висел: // ведь был солдат бумажный…». А в стихотворении «Голубой человек» (1967) движение персонажа к тому, чтобы ощутить космическую беспредельность мироздания, передано, как и в «Бумажном солдатике», незатейливой динамичной сценкой, где формы живой устной разговорной речи свободно сочетаются с возвышенным образным планом. Притчевое обобщение о жаждущей бесконечности человеческой душе запечатлелось Окуджавой в сказочном романтическом ореоле: Вот – ни крыши и ни лестниц. Он у неба на виду. Ты куда, куда, несчастный?! Говорит: – Домой иду… – Вот растаяло и небо – мирозданья тишь да мрак, ничего почти не видно, и земля-то вся – с кулак… В стихотворении же «Над глубиной бездонных вод…» (1987) на фоне космической перспективы предстает условный притчевый герой – «пушкарь», ведущий «райскую канонаду… над атлантической громадой». Сказочный персонаж окуджавских притч – «маленький», незаметный человек, возвышенные устремления которого способны, впрочем, преобразить мировое целое, привнести в него дух высшей гармонии. В этом – 42 своеобразный ответ барда, «властителя чувств»139 целых поколений, на дегуманизирующие вызовы современности. В данном стихотворении повествование о глубоко символичной миссии пушкаря сменяется лирическим монологом – от лица не только поэта-певца, но и внимающей ему человеческой общности – монологом, в надысторическом масштабе которого откристаллизовывается нравственно-философский концентрат притчи: Гордись, пушкарь, своей судьбой – Глашатай света и свободы, – Покуда спорят меж собой Внизу эпохи и народы. Пока твой свет с собой зовет, Пока чисты твои одежды… Ведь что мы без твоих щедрот, Без покаянья и надежды? Иносказательные возможности поэтических притч Окуджавы вели и к постижению вечных ритмов человеческого бытия: такие стихотворения, как «Голубой шарик» (1957), «Когда мы уходим…» (1959), «В земные страсти вовлеченный…» (1989), могут быть названы своеобразными «романными» притчами-судьбами. В притчевой миниатюре «Голубой шарик» важно сопряжение далеких временных и пространственных планов в целостном поэтическом образе, высвечивающем и бедность, и значительность земного бытия: Девочка плачет: шарик улетел. Ее утешают, а шарик летит. <…> Плачет старушка: мало пожила… А шарик вернулся, а он голубой. В параллелизме быстротечной жизни и «летящего шарика» раскрывается планетарный масштаб художественной мысли, интуитивно соотносящей циклы движения Вселенной с масштабом человеческого века. Язык окуджавской притчи – это язык лаконичной бытовой зарисовки, житейского рассказа о чем-то, казалось, понятном и знакомом – и вместе с тем рассказа, содержащего колоссальный лирический заряд и широкие горизонты художественного обобщения. На взаимопроникновении единичного и вечного основан притчевый образ и в стихотворении «Когда мы уходим…» (1959), где в иносказательном свете увидена аксиология неизменных жизненных циклов: Когда мы уходим (хоть в дождь, хоть в сушь), у ворот стоят наши матери – первооткрыватели наших душ, как материков открыватели. 139 Новиков Вл.И. Булат Окуджава // Авторская песня. М., 2002. С.18. 43 А в притчевой зарисовке «В земные страсти вовлеченный…» (1989) условность образной сферы, антиномичность художественной мысли и композиции передают таинственное предстояние человека перед лицом вечности, когда крик отчаяния перекрывается слабым шепотом надежды: В земные страсти вовлеченный, я знаю, что из тьмы на свет шагнет однажды ангел черный и крикнет, что спасенья нет. Но, простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белый прошепчет, что надежда есть. Жанровые элементы притчи в поэзии Окуджавы могут быть не только сопряженными со сказочно-романтической стилистикой, но и прорастать из конкретного социальноисторического образного плана. Широкий притчевый исторический и культурфилософский смысл реализуется в стихотворении «Сталин Пушкина листал…» (70-е гг.). Сюжетная зарисовка чтения Вождем Пушкина в попытке уяснить, «чем он покорял народ, // если тот из тьмы и света // гимны светлые поет // в честь погибшего поэта?» высвечивает архетипическую для русской культуры ситуацию поединка Поэта и Власти за владение душами людей; антитезу узкоисторической сферы господства Вождя – и вечности, которая открывается «вольному духу поэта»; рационализма – и «непрозрачного магического кристалла» искусства и «души стихотворца». Притчевая надвременная реальность спроецирована на историческую действительность XX века и обретает в этой проекции смысловую емкость. «Анекдотическое» повествование140 синтезировано здесь с окрашенной в трагикомические тона несобственно-прямой речью Сталина («Может, он – шпион английский, // если с Байроном дружил?») и активным – то патетическим, то утонченноироничным – авторским словом: Все он мог: и то, и это, расстрелять, загнать в тюрьму, только вольный дух поэта неподвластен был ему… Итак, песенно-поэтические притчи занимают одно из ключевых мест в жанровой системе лирики Б.Окуджавы. Вступая в активное взаимодействие с иными жанровыми образованиями – от городских, бытовых сюжетных зарисовок, сказочных сценок до элегий, – эти притчи предстают в богатстве жанрово-тематических модификаций, 140 См. в комментарии к стихотворению (В.Н.Сажин): «Парафраз популярных анекдотов о Сталине и Пушкине, в финале которых обязательно появляется Берия» (Окуджава Б.Ш. Указ.соч. С.648). 44 композиционно-стилевых решений. Свободные от прямого дидактизма, окрашенные преимущественно в мягкие, лирические тона, притчи Окуджавы несли слушательской аудитории скрытый педагогический потенциал, основанный на преодолении шаблонных лозунгов ради раскрытия личностного опыта поэта-певца. б) В д и а л о г е с к л а с с и к о й. Тютчевские истоки образа Вселенной в поэзии Окуджавы Связи поэзии Ф.И.Тютчева с художественной культурой XX века многоплановы. Философичность лирики, чувствование «таинственной основы всякой жизни – природной и человеческой» (В.С.Соловьев141), космизм художественного мироощущения, осмысление душевной жизни во вселенском масштабе были «востребованы» творческой практикой Серебряного века,142 которая в свою очередь оказала решающее воздействие на последующий литературный опыт столетия.143 Поэтический образ Вселенной, ночной бесконечности, таинственной водной стихии возникает в стихотворениях Тютчева 1820-30-х гг.: «Летний вечер», «Видение», «О чем ты воешь, ветр ночной…», «День и ночь» и др. На первый план выступает здесь художественное прозрение ритмов бытия «живой колесницы мирозданья», мистически связанных с жизнью «души ночной». В космической бесконечности исподволь обнаруживается и присутствие хаотических сил, бездны «с своими страхами и мглами», до времени таящейся под тонким дневным покровом («День и ночь»). Мировой «гул непостижимый» обретает у Тютчева, как впоследствии в «песенках» Окуджавы, музыкальное воплощение: «Музыки дальной слышны восклицанья, // Соседний ключ слышнее говорит…».144 Как и в поэзии Тютчева, у раннего Окуджавы образ ночного мира становится поэтической моделью Вселенной. Животворящая водная стихия в стихотворениях «Полночный троллейбус» (1957), «Нева Петровна, возле вас – все львы…» (1957), 141 Соловьев В.С. Поэзия Ф.И.Тютчева // Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М.,1991.С.474. 142 Авраменко А.П. Обретение трагедии (А.Блок и Е.Баратынский, Ф.Тютчев) // Авраменко А.П. А.Блок и русские поэты ХIХ века. М.,1990.С.174-212. 143 Авраменко А.П. Наследник Серебряного века (традиции классики XX века в творчестве Булата Окуджавы) // Традиции русской классики XX века и современность: Материалы научн. конф. Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова. 14-15 ноября 2002 г. / Ред-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2002.С.14-23. 144 Тексты произведений Ф.И.Тютчева приведены по изд.: Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., Правда, 1988. 45 «Песенке об Арбате» (1959) воплощает родственную человеку бесконечность мироздания, в которой он интуитивно угадывает отражение своего пути: «И я, бывало, к тем глазам нагнусь // и отражусь в их океане синем…». Если в «космической» поэзии Тютчева доминирует торжественно-риторическая стилистика, то у Окуджавы планетарный образ бесконечности прорастает часто на почве городских зарисовок, со свойственной им конкретикой изобразительного ряда, с тональностью негромкого задушевного рассказа: «Ночь белая. Ее бесшумен шаг. // Лишь дворники кружатся по планете // и о планету метлами шуршат». У Окуджавы развивается и усиливается, в сопоставлении с Тютчевым, звуковое, музыкальное оформление образа Вселенной (ср. у Тютчева: «Певучесть есть в морских волнах…»), увиденной в его лирике в иносказательном обличии «острова музыкального», в гармонии обращенных к каждому «оркестров Земли» («Когда затихают оркестры Земли…», 1967, «Мерзляковский переулок…», 1991 и др.): Этот остров музыкальный, то счастливый, то печальный, возвышается в тиши. Этот остров неизбежный – словно знак твоей надежды, словно флаг моей души. Существенной для обоих поэтов была творческая интуиция и о соотношении душевной жизни человека со вселенскими ритмами. В художественном целом тютчевской поэзии утверждается диалектика автономности души и ее бытийной причастности общемировому опыту («Душа моя, Элизиум теней…», «Как океан объемлет шар земной…»), всеединство микро- и макрокосма: «Все во мне, и я во всем!»… Вселенская антиномия Космоса и Хаоса, Дня и Ночи спроецирована здесь на мир души, где под покровами мысли, осознанного начала скрывается «ночной мир» подсознания, его «наследья родового» («Святая ночь на небосклон взошла…»).145 По мысли С.С. Бойко, «пантеистические мотивы: одушевление природы, перетекание человека в природу и природы в человека, многочисленные олицетворения и метафоры, выражающие веру в диалог природы с душой»,146 – сближают песенно-поэтический мир Окуджавы с тютчевской традицией. Подобное взаимоперетекание проявилось у обоих поэтов в наложении портретных и пейзажных образов. Показательный пример у Тютчева – образ «волшебной, страстной ночи» очей в стихотворении «Я очи знал…»; у Окуджавы – «тютчевская» рифма в стихотворении «Человек стремится в простоту…» (1965) знаменует образное сближение души и мировых стихий, большой и малой Вселенной: «Но во глубине его очей // будто бы во глубине ночей…». В произведениях обоих поэтов экстатические состояния души 145 146 Гинзбург Л.Я. Поэзия мысли // Гинзбург Л.Я. О лирике. М.,1997.С.50-119. Бойко С.С. За каплями Датского короля. Пути исканий Булата Окуджавы // Вопр.лит.1998.сент.- окт.С.9. 46 ассоциируются с мировой бездонностью, что с очевидностью проявилось в тютчевской любовной лирике, в стихотворении Окуджавы «Два великих слова» (1962), где «жар» любовного чувства запечатлен во вполне «тютчевском» образном ряду – человека«песчинки», затерянного в бесконечности мироздания; «качнувшегося мира», «стужи, пламени и бездны»: И когда пропал в краю вечных зим, песчинка словно, эти два великих слова прокричали песнь твою. Мир качнулся. Но опять в стуже, пламени и бездне эти две великих песни так слились, что не разнять. Вселенская перспектива художественного познания душевной жизни и человеческой судьбы сближает двух поэтов. Поэзии Окуджавы знакома тютчевская антиномия «мыслящего тростника» и мировой беспредельности («Певучесть есть в морских волнах…»). Но если у Тютчева возникает зачастую разлад в отношениях души с «общим хором» бытия («Душа не то поет, что море…»), то в лирике Окуджавы сильнее оказывается тяга ощутить их гармоничное равнозвучие. В стихотворении «Когда затихают оркестры Земли…» (1967) диалогическое соприкосновение «шарманки» и мировых «оркестров» сводит воедино индивидуальное, исторически-конкретное с общемировым и вечным: Представьте себе: от ворот до ворот, в ночи наши жесткие души тревожа, по Сивцеву вражку проходит шарманка, когда затихают оркестры Земли. Живая причастность тютчевской традиции проявилась у Окуджавы в онтологизации изображения человеческой судьбы,147 нередко облеченного, как и у Тютчева, в форму поэтической притчи. Если в окуджавских стихотворениях 1950-1960-х гг. сопряженность жизни человека и таинственного вращения «шарика голубого» предстает нередко в сказочно-романтическом ореоле («Голубой шарик», 1957, «Голубой человек», 1967), то в более поздних вещах осуществлено художественное открытие вселенской бесконечности в сфере личной и исторической памяти («Звездочет», 1988), явлено балансирование мировых сил Космоса и Хаоса в судьбе лирического «я» («В земные страсти вовлеченный…», 1989). Тютчевский космизм преломляется у Окуджавы и в интимной лирике – как в стихотворении «Два тревожных силуэта…» (1992), где тепло человеческой привязанности согревает 147 «необжитое мирозданье… тихую звездную толчею…». Эткинд Е.Г. Там, внутри: О русской поэзии XX века. СПб.,1997. С.14. 47 Окуджавский «шар земной» – «тихий», «грустный», максимально приближенный к реалиям повседневности. Тютчевское поэтическое открытие Вселенной наследуется Окуджавой, но вводится в дискурс простой беседы, доверительного рассказа о повседневном, личностно пережитом и многократно виденном: И, залитый морями голубыми, расколотый кружится шар земной… …а мальчики торгуют голубями по-прежнему. На площади Сенной. («Магическое «два»…») Образ Вселенной обретает у Тютчева и Окуджавы трагедийное звучание, будучи связанным с интуициями о катастрофическом состоянии мира. В стихотворении Тютчева «Последний катаклизм», образной системе стихотворений «О чем ты воешь, ветр ночной?..», «День и ночь», «Святая ночь на небосклон взошла…» раскрывается сложная художественная диалектика бытия Вселенной на пороге рокового «последнего часа» природы, истории – и ее потаенной, мудрой Божественной гармонии. Сам модус видения мироздания на краю бездны усиливает экзистенциальное напряжение поэтической мысли и нередко сближает художественные миры Тютчева и Окуджавы: Когда пробьет последний час природы, Состав частей разрушится земных: Все зримое опять покроют воды, И Божий лик изобразится в них!.. («Последний катаклизм») Для Окуджавы – поэта, который выразил вселенский катастрофизм мироощущения личности XX столетия, хранимый в глубинах культурной памяти опыт Тютчева был в этом плане существенным. Еще в ранней лирике поэта-певца возникает не только вселяющий надежду в свете космических открытий диалог «земного, некрупного народа» с «бездной черной» мироздания («Разговор по душам», 1959), но и онтологический ракурс изображения катаклизмов истории, обостренное чувство вселенского масштаба исторических потрясений: «Какое б новое сраженье ни покачнуло шар земной» («Сентиментальный марш», 1957), «Горит и кружится планета, // Над нашей родиною дым» («Белорусский вокзал»). Тютчевский мотив «порогового», «пограничного» состояния Вселенной на грани Космоса и Хаоса, времени и вечности развит и в лирической миниатюре «Пока еще жизнь не погасла…», и в известной песне «Молитва» (1963): Господи мой Боже, зеленоглазый мой! Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой, пока ей еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу… И не забудь про меня. 48 Образ мира, зависшего над бездной вечности, ощущение малости земных страстей перед лицом Высшей силы («Господи, твоя власть!») окрашены в «Молитве» трагедийным миропереживанием лирического «я» – верящего «тростника», ощущающего себя причастным как непостижимой бесконечности, так и определенному социальноисторическому опыту: «Я знаю: ты все умеешь, я верую в мудрость твою, // как верит солдат убитый, что он проживает в раю…». В век катастроф, когда дыхание вселенских потрясений сквозит порой в кровоточащей исторической, фронтовой памяти, в самой повседневной жизни – «под пятой ли обелиска», «в гастрономе ли арбатском» («Всему времечко свое: лить дождю, Земле вращаться…», 1982), важнейшим для лирического героя песенной поэзии Окуджавы становится взыскание мудрой гармонии Космоса, явленной в живой, очеловеченной ипостаси: Над глубиной бездонных вод, над атлантической громадой взлетает солнечный восход, рожденный райской канонадой. <…> Гордись, пушкарь, своей судьбой – глашатай света и свободы, – покуда спорят меж собой внизу эпохи и народы. («Над глубиной бездонных вод…», 1987) В стилистике окуджавской философской, притчевой поэзии значима модальность прямого, проникнутого лирической нежностью обращения героя к «грустной планете», «шарику голубому», терпящему нелегкие испытания под бременем всемирной истории («Ах ты, шарик, голубой…», 1957-1961). В стихотворении «Земля изрыта вкривь и вкось…» (1960-1961) это обращение перерастает во взволнованный, но не теряющий простоты и непринужденности диалог героя с Землей, в динамике которого раскрывается вселенская, надмирная перспектива видения земных сует: Земля изрыта вкривь и вкось. Ее, сквозь выстрелы и пенье, я спрашиваю: «Как терпенье? Хватает? Не оборвалось – выслушивать все наши бредни о том, кто первый, кто последний?» Она мне шепчет горячо: «Я вас жалею, дурачье. Пока вы топчетесь в крови, пока друг другу глотки рвете, я вся в тревоге и в заботе. Изнемогаю от любви…». 49 Таким образом, опыт Тютчева в художественном постижении Вселенной в ее как просветленной, так и «ночной», сокрытой ипостасях, в таинственной связи ритмов мирового бытия с душевной жизнью – стал неотъемлемой составляющей культурного «кода» XX столетия, самобытно проявившегося в песенной поэзии Булата Окуджавы. В его лирике многоплановый образ Вселенной соотнесен и с историческими потрясениями эпохи войн и революций, и с раскрытием повседневного мироощущения современника, и с глубинами внутреннего бытия лирического «я». При существенных стилевых различиях Тютчева и Окуджавы в создании образа мировой бесконечности важной для обоих поэтов была тяга распознать в недрах «хаоса ночного», расслышать в «понятном сердцу языке» Вселенной музыку потаенной, родственной «мыслящему» и «верящему» «тростнику» гармонии. 50 2. Город как поэтическая модель мира и основа автобиографического мифа а) П о э т и ч е с к и е п о р т р е т ы г о р о д о в в л и р и к е О к у д ж а в ы Портреты городов – один из важнейших пластов художественного мира Б. Окуджавы. Это жанровое образование, сложившееся еще в эпоху Серебряного века – в стихах и циклах В. Брюсова, А. Блока, М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама и др., – стало значительным открытием в поэтической культуре XX столетия. Разноплановые по «географии» (от Тбилиси, Москвы, до Иерусалима, Парижа, Варшавы и т. д.), жанровым признакам, философскому, социально-историческому содержанию, стилистике – в песенной поэзии Окуджавы они оказались сквозными: от «песенок» конца 1950 – середины 1960-х годов, где они особенно многочисленны, – до итоговых стихотворений. Сам поэт в одном из поздних интервью так определил генезис своих «городских» песен: «На меня, между прочим, повлиял Ив Монтан, который пел о Париже, и песни были очень теплые, очень личные. Мне захотелось и о Москве написать что-то похожее… Первая московская песня «На Тверском бульваре» появилась в 1956 году. Появилась сразу как песня – и стихи, и мелодия. Помню, как осенью мы стояли поздно вечером с приятелями у метро «Краснопресненская», и я им напел… А потом довольно быстро сложился целый цикл песен о Москве: «Ленька Королев», «Полночный троллейбус», «Московский муравей», «Часовые любви», «Арбат беру с собой» – все в 1957 году».148 Город запечатлелся у Окуджавы как многосложный психологический комплекс, как модель целостности мира, вместилище душевных переживаний лирического героя и его современников, в качестве прообраза всечеловеческого единства, средоточия личной и исторической памяти. В силу этого есть основания рассматривать данного рода «портреты» как художественную, смысловую и жанровую общность. Своеобразным ядром этой общности стал в поэзии Окуджавы «арбатский текст», полно раскрывшийся в стихотворениях 1950–1960-х годов.149 «Музыка арбатского двора» ознаменовала особый подход к созданию портрета Москвы – не парадной, официальной столицы, но вбирающей в себя душевный мир горожан, берегущей память о нелегких испытаниях исторической судьбы. В таких стихотворениях, как «Арбатский дворик» (1959), «Песенка об Арбате» (1959), «На арбатском дворе – и веселье и смех…» (1963), 148 Всему времечко свое / Беседовал М.Нодель // Моя Москва. 1993. № 1-3 (янв. – март). С. 4-6. О глубинной связи бытия арбатского «Китежа» с ритмами судьбы самого поэта см.: Муравьев М. Седьмая строка // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.II. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1998.С.448-461. 149 51 «Арбатский романс» (1969) и др., хронотоп арбатских двориков и переулков насыщен личностной экзистенцией многих их обитателей: Пешеходы твои – люди не великие, Каблучками стучат – по делам спешат... «Тот двор с человечьей душой» воспринимается лирическим «я» как источник укрепления в «дальних дорогах» жизни: метонимическая деталь («теплые камни» арбатских мостовых) вырастает в символическое обобщение жизненного пути: «Я руки озябшие грею // о теплые камни его...». В «арбатских» стихотворениях, как и в целом ряде портретов других городов, возникает значимый образ реки: каменные мостовые столь же органичны для лирического героя, как и природная стихия. В «Песенке об Арбате» с появлением образа реки сопряжены возвышение обыденного до таинственно-надмирного, а также поэтика «отражений» – в «асфальте», «прозрачном, как в реке вода», герой преломление собственного внутреннего мира, души в ее неисследимости: Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество, Никогда до конца не пройти тебя! Рисуемые Окуджавой портреты городов, в частности, в стихотворениях об Арбате, пронизаны живыми, непосредственными обращениями поэта к городу, миру, вечным силам бытия: «Ты и радость моя, и моя беда…». Подобная «ты-лирика», «лирика диалога, второго лица» (Л.С.Дубшан150) составила в свое время контраст по отношению к господствующей стилистике советской эпохи. В стихотворении «Речитатив» (1970), ставшем в определенной мере «венцом» «арбатского текста» Окуджавы, лирический образ памятного двора сплавляется с изображением других московских улиц: в звучании их названий (Ильинка, Божедомка, Усачевка, Охотный ряд), в «песне тридцать первого трамвая с последней остановкой у Филей» заключены неисчерпаемые источники музыкально-песенной гармонии. Встреча предметного («двор по законам вечной прозы») и метафизического («рай») в облике «короткого коридора от ресторана «Прага» до Смоляги», слиянность изображаемого мира с простой «близостью душ» двух поэтов (автора и Н. Глазкова) наполняют образную сферу стихотворения интимным лиризмом исповедального монолога о себе, прожитом времени, чуждого нарочитой приподнятости: «...да и Гомер туда не заходил». На образном и тематическом уровне очевидна связь стихов об Арбате с лирическими портретами Старого города – как Москвы 1920 – 30-х гг. («Трамваи», 1967, «Песенка о московском трамвае», 1962), так и собирательного единства («Улица моей любви», 1964). Портрет уходящей в прошлое старой Москвы – города детства и юности поэта – 150 Дубшан Л.С. О природе вещей // Окуджава Б.Ш. Указ. изд. С.20, 21. 52 запечатлен Окуджавой не панорамно, но посредством неотъемлемого атрибута городской жизни тех лет – через образ трамвая. Метонимический образ «трамвая красного» воплощает у Окуджавы гармонично-одушевленную стихию города и бытия. В сопоставлениях с «жаворонками, влетающими в старые дворы», с «лошадьми, сторонящимися… когда гроза» – происходит, как и в «арбатских» стихах, сращение рукотворного и природного миров, образующее основу окуджавских городских пейзажей. Как отмечает С.С. Бойко, «олицетворения позволяют без ущерба примирить урбанистический горизонт горожанина с верой в Природу как верховную власть. Элементы городского пейзажа одушевляются, оживают и на этом условии уравниваются в правах с созданиями природы».151 В портретах старого города важна многослойность пространства, залогом устойчивости которого становится равновесие современных «проспектов» – и «переулков», где оседают выходящие из использования трамваи и иные приметы прошлого, формирующие ядро городской истории, стержень личностного существования героя. Органика городского микрокосма отразилась в примечательном сравнении Москвы с «горячей ладонью» в финале «Песенки о московском трамвае». Собирательный образ Старого города, таящего память о прошлом, возникает в стихотворении «Улица моей любви». Переход от «я» к обобщенному «мы» ведет к расширению субъекта лирического переживания архетипических бытийных ситуаций: Мы слетаемся, как воробьи, – стоит только снегу стаять – прямо в улицу моей любви... Где воспоминанья, словно просо, Соблазняют непутевых нас. Для самого поэта городское пространство ассоциируется не только с воспоминаниями о любви, войне, но и с темой творчества, ибо тайный язык города вбирает отголоски когда-то созданных и напетых здесь стихов: Но останется в подъездах тихий заговор моих стихов... В портретах городов у Окуджавы особую весомость приобретает художественнофилософская категория времени – личного и исторического, времени больших и малых циклов: масштаба веков, десятилетий, времен года и суток. Город часто предстает в диахроническом аспекте, что актуализирует в сознании лирического героя диалог настоящего с прошлым – как удаленным, так и относительно недавним, военным. 151 Бойко С.С. За каплями литературы.1998.№5.С.11. Датского короля: Пути исканий Булата Окуджавы // Вопросы 53 Одним из самых ранних городских портретов стало стихотворение «Нева Петровна, возле вас – всё львы...» (1957). Реалии ландшафта северной столицы (Нева, проспект, мраморные львы) предстают здесь в интимно-лирическом отсвете любовного послания. На первом плане – обращенность героя к женской прелести Невы, облеченной в «платье цвета белой ночи». Его участный взгляд «не экскурсанта» постигает в приметах городского мира сердцевину собственной судьбы. Мир этот строится на диалогических «взаимопроникновениях», знаменующих согласованность сфер бытия: взаимоперетекания настоящего и исторического прошлого («отчество» реки, которую «великие любили»); Невы и мраморных львов, которые «запоминают свет глаз» реки; наконец, Невы и душевного состояния лирического героя: И я, бывало, к тем глазам нагнусь и отражусь в их океане синем таким счастливым, молодым и сильным... В диалоге с городом как целым, с его «душой» происходит преображение внутренней сущности лирического «я», соприкосновение с тем зарядом любви, который многими поколениями обращался на приметы городского пейзажа и который навеки отложился в национальной и всечеловеческой памяти. Река символизирует здесь, как и в «Песенке об Арбате», мерное течение времени, а чувствование живого дыхания истории раздвигает пределы экзистенции лирического героя до вселенского масштаба: «И ваше платье цвета белой ночи мне третий век забыться не дает...».152 На композиционном уровне динамика от конкретного образного ряда к бесконечности осуществляется в развертывании портретных лейтмотивов образа Невы, знаменующих пристальное всматривание героя в ее потаенное существо, «глаз глубины». Подобная актуализация женских черт в пейзажной образности сближают стихотворение Окуджавы со стихами о России А. Блока. Ряд важнейших городских портретов поэта-певца сопряжен с драматичной памятью о разрушительных войнах в России XX века – как гражданской («Летний сад», «Анкара, Анкара!»), так и Великой Отечественной («Песенка о Фонтанке», «Былое нельзя воротить...», «Песенка о Сокольниках» и др.). Стихотворения «Летний сад» (1959), «Анкара, Анкара!» (1964) запечатлели в образах Петрограда и Анкары пору тяжких испытаний гражданской смутой. В первом страждущая душа города заключена в «помутневшей» воде Невы, в «цепеневших» белых статуях Летнего сада. Историческим катаклизмам противостоит здесь устойчивое рукотворно152 За исключением специально оговоренных случаев, курсив в цитатах везде наш. 54 природное существо города, хранящее память о горьких уроках истории: «Белым статуям непременно мерещится помутневшее небо над Питером...». Описательность первой части стихотворения уступает далее стихии живого диалога лирического героя со статуями, с одушевленным городским космосом: – А куда ваш полет? – В небо, в небо, в проходящие облака... – Чем вы жили, красавицы? – Негой, негой: Так судили века... В этом диалоге лирическому «я» открываются не только звуки, шумы, наполняющие городское пространство (речь статуй, «крик проходящего катера», «шорох шагов»), но и неразрывное единство земного и небесного, видимого и сокрытого. Исторической подосновой стихотворения «Анкара, Анкара!» стал один из эпизодов гражданской войны: бегство юнкеров в Константинополь после взятия Красной армией Севастополя в 1919 году. Гуманистическое осмысление трагедии национального раскола проявляется на уровне образного противопоставления Севастополя и Анкары, родины и чужбины — природное очарование «сердца чужого города» лишь усугубляет тоску юнкеров по «серым вечерам» на родной земле. Память об Отечественной войне образует лейтмотив всей поэзии Окуджавы,153 находя преломление и в портретах городов. Психологическая атмосфера «Песенки о Фонтанке» проникнута благоговейным удивлением героя-«приезжего» силе ленинградцев, перенесших блокадную годину. Образ реки Фонтанки, ассоциирующийся с исторической памятью о войне, обрамляет собирательный психологический портрет прошедших через блокаду горожан, достоверность которого усиливается метонимической деталью-лейтмотивом их «удивленных глаз». Невербализуемое до конца трагедийное бытие города рисуется на сей раз не в пейзажных образах, а путем проникновения лирического героя в глубинные переживания горожан, пронзаемые незатихающей болью: От войны еще красуются плакаты, и погибших еще снятся голоса. Но давно уж – ни осады, ни блокады – только ваши удивленные глаза. Мотивы военного прошлого естественно входят у Окуджавы и в контекст элегических раздумий о течении времени, о старой Москве – например, еще пушкинской эпохи, как в стихотворении «Былое нельзя воротить...» (1964), где воображение на миг позволяет герою ощутить себя в «интерьере» пушкинской поры: «У самых Арбатских ворот // 153 Зайцев В.А. Песни грустного солдата. О военной теме в поэзии Окуджавы // Зайцев В.А. Окуджава. Высоцкий. Галич… С.61-89. 55 извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается...». А в «Песенке о Сокольниках», являющейся по жанру дружеским посланием, сквозные образы городского пространства сопровождаются воспоминаниями о военном прошлом, о «цветах радостей наших и бед», приводящими поэта к осознанию своей неизбывной укорененности в родной земле: ...мы вросли, словно сосны, своими корнями в ту страну, на которой живем. В поздней поэзии Окуджавы исторический смысл портретов городов связан и с тягой нации к возвращению отринутых духовных ценностей. В стихотворении «Гомон площади Петровской...» (1985) исконные именования древних московских улиц (Знаменка, Пречистенка, Тверская и др.) воскрешают чувство преемственности по отношению к далекой дедовской эпохе. Живущая в душе лирического героя память о духовных истоках прорывается и сквозь давящие обезбоженные названия: И в мечте о невозможном словно вижу наяву, что и сам я не в Безбожном, а в Божественном живу. Возвратясь к этой теме в стихотворении «Переулок Божественным назван мной для чего?..» (1988), поэт проецирует тайну городской топонимики на судьбы как города, так и всего народа. Отказ от «прозвища прежнего без опоры в судьбе» в пользу истинного имени осознается лирическим героем как залог обретения духовных опор: А в сегодняшнем имени есть сиянье из тьмы, что-то доброе, сильное, что утратили мы... Городское пространство в поэзии Окуджавы формирует и сферу непринужденного душевного и духовного общения лирического «я» с миром города, свободного от уз дневной суеты. Потому столь весом в портретах городов ночной, предрассветный пейзаж, воплощающий космос потаенных человеческих дум. Ночной город оказывается в центре таких стихотворений, как «Полночный троллейбус» (1957), «Песенка о ночной Москве» (1963), «Свет в окне на улице Вахушти»154 (1964), «Ленинградская элегия» (1964), «Путешествие по ночной Варшаве в дрожках» (1967) и т. д. Так, в «Полночном троллейбусе» важны доверительные отношения 154 героя с городским топосом, открывающимся В издании 2001 г. в написании названия этой улицы содержится опечатка. как воплощение 56 межчеловеческой общности, а «последний полночный троллейбус», который спасает «потерпевших в ночи крушенье», явлен в виде корабля, плывущего по волнам житейского моря. В синтетическом портрете Москвы бытовое, будничное оборачивается чудесным и спасительным, а рукотворные улицы находят свое гармоничное продолжение в затихшей реке: «Москва, как река, затухает...». Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий так определили тип авторской эмоциональности в стихотворении: «Пафос приглушен, стихотворение цементируется не переживанием лирического субъекта и не его голосом, а единым интегральным образом – троллейбус уподобляется кораблю».155 Существенно уточняя приведенное суждение, отметим, что иллюзия «скрытости» голоса лирического субъекта создается как путем раздвижения рамок изображаемого до масштаба вечного, архетипического, так и посредством диалогической обращенности героя к таинственному городскому космосу: Полночный троллейбус, по улице мчи, верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушенье, крушенье. Как и в «Полночном троллейбусе», где с центральным образом был связан целый ряд углубляющих городской пейзаж ассоциаций, в «Ленинградской элегии» магия «пространства невского» подчеркивается его соприкосновением с образом Луны, в котором проступают черты сокровенного женского начала: И что-то женское мне чудилось сквозь резкое слияние ее бровей густых... Постепенное вживание, «вслушивание» в ритмы жизни ночного города, освобожденного от поверхностных шумов, пробуждает в душе лирического героя память об ушедших друзьях, чувство онтологической сопричастности мировому целому. Эхо человеческих голосов, любовных и дружеских признаний, творческих дум звучит под аккомпанемент тайной речи города: «перекличек площадей пустых», приливов «невской волны», лунного света, вступающего в «союз» с городскими фонарями. Своеобразным городским «ноктюрном» является «Песенка о ночной Москве», не вполне типичная в общем контексте окуджавской урбанистической лирики. Здесь нет собственно городских деталей, а в условном, персонифицированном образе «надежды маленького оркестрика под управлением любви» высвечивается музыкально- гармонизирующее начало жизни как города, так и мироздания в целом. Сопряженность образа музыки с открытием инобытия города, его «второго пространства», с приятием 155 Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Песенки Булата Окуджавы // Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: В 3 кн. Кн. 1. Литература «Оттепели» (1953–1968). М., 2001. С. 90. 57 мира в диалектической «попеременности» света и тьмы – обнаруживается и в стихотворении «В чаду кварталов городских...» (1963): В чаду кварталов городских, среди несметных толп людских на полдороге к раю звучит какая-то струна, но чья она, о чем она, кто музыкант – не знаю... Жизнь ночного города изображена в поэзии Окуджавы не только с фасадной, уличной стороны, но и обращена к миру домашнего тепла, уюта, скрывающемуся за освещенными окнами. Симптоматичный пример тому – стихотворение «Свет в окне на улице Вахушти». Построенное на, возможно, невольных образных параллелях с «Зимней ночью» (1946) Б. Пастернака,156 оно посредством эскизных портретных штрихов («так четок профиль лица мужского, так плавен контур ее руки») передает поэзию любовного сближения. Переплетение человеческих судеб (ср. у Пастернака: «скрещенья рук, скрещенья ног, // Судьбы скрещенья...), «живых душ», помещенных в «телесную» оболочку городских строений, «чернеющих стен», – становится в изображении поэта сокровенноромантической ипостасью бытия Города. Вообще город выступает у Окуджавы как емкий символ больших и малых человеческих общностей, «охраняемых» бдительными «часовыми любви» («Часовые любви на Смоленской стоят...», 1958). Интимное общение лирического героя с миром явленной и скрытой городской жизни показано и в «рассветных» урбанистических портретах. Так, «Утро в Тбилиси» (1959) рисует рассветную пору с тайными движениями пробуждающегося города («Гаснут по проспектам // смешные фонари»), изысканные же метафорические сцепления высвечивают хрупкую близость земного и небесного миров: месяц – «корочка дынная, истекающая соками звезд»; луна – «утлая лодочка». В другом стихотворении «рассветными» красками «чудесно» окрашен и выведенный крупным планом московский мир («На рассвете», 1959): в прозаических деталях городского пейзажа (краны, бульдозеры), в «царстве бетона и стали» просыпается одушевленная стихия, согретая воспоминанием лирического «я» о давней московской дружбе: А это идет Петька Галкин – мы раньше гоняли с ним голубей. Здесь особенно наглядно проступает многообразие сюжетной, персонажной сферы, характерное вообще для городских портретов Окуджавы. В них емко высветились 156 О глубоких творческих связях Б.Окуджавы и Б.Пастернака см.: Дубшан Л.С. Указ соч. С. 28-30. 58 психологический склад горожан, и шире – современников в целом; комплекс их индивидуальных судеб, ничуть не заслоненный масштабностью изображения. В окуджавской поэзии весьма распространены повседневные эпизоды, сценки городской жизни – поэтичные именно в их обыденности и простоте. Важные социально-психологические, ментальные черты обнаруживаются в этой связи и во внутреннем складе самого лирического героя. Так, авторская эмоциональность «Московского муравья» (1960) может быть охарактеризована как «благодарное приятие мира и сердечное сокрушение».157 В сказовой манере в стихотворении создается сага о городе, где непарадная, несмотря на «высший чин», Москва, созвучная душевному миру воспринимающего «я», увидена в бесконечной временной перспективе: Не тридцать лет, а триста лет иду, представьте вы, по этим древним площадям, по голубым торцам... Лирический герой, находящий в городе своеобразное отражение собственной личности («он такой похожий на меня»), радостно чувствует себя «муравьем», растворяющимся в родственной по духу стихии, а неожиданное появление в конце стихотворения нового персонажа («Что там за девочка несет в руке кусочек дня?») открывает бесконечные горизонты познания мира обитателей города, знаменует принципиальную разомкнутость системы персонажей. В стихотворении «Весна на Пресне» (1959) портрет Москвы складывается из штриховых зарисовок образов простых горожан («смеющийся шофер», «хохочущая гражданка»), поэтически преображенных мелочей частной жизни, картины долгого московского чаепития: «А москвичи садились к чаю, // сердца апрелю отворив...». Как и в произведениях многих других поэтов-бардов, где «обретали голос люди, прежде его не имевшие»,158 персонажный мир сопряжен в городской лирике Окуджавы с вниманием поэта к внешне неприметным устроителям городской жизни, их нелегким индивидуальным судьбам. Так, например, в «Песенке о белых дворниках» (1964) драматичная участь персонажей, «в трех войнах израненных», проецируется на жизнь соотечественников в целом, где «годы потерь перемешаны с доброю музыкою». Образы дворников окрашены в романтические тона, что выражается в цветовой палитре: невзирая на «муку мусорную», подчеркнута ослепительная белизна их бород, спин, фартуков, а мерное взмахивание метлами обретает символические черты, ассоциируясь с ритмами жизни как города, так и отдельной личности, жаждущей воцарения «рая» в душе: 157 Хализев В. Е. Благодарное приятие мира и сердечное сокрушение // Хализев В. Е. Теория литературы. М., 1999. С.71. 158 Богомолов Н. А. Чужой мир и свое слово // Мир Высоцкого. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1997. Вып. I. С.152. 59 Нам тоже, как дворникам, очень не сладко стареть. Мы метлами пестрыми взмахиваем, годы стряхиваем, да только всего, что накоплено, нам не стереть. С вживанием в судьбы горожан связана и актуализация «ролевого» начала в лирике Окуджавы. В стихотворении «Вывески» (1964) «трогательный вид» Тбилиси, одушевленных городских вывесок в «платьицах из разноцветной жести», ведущих скорбную летопись военного времени, – дан глазами безвестного солдата, возможно навсегда покидающего родной город своей первой любви. А «Песенка о московских ополченцах», написанная от лица самих фронтовиков, сочетает «я» солдата и обобщенное «мы», которые слиты в едином обращении к «душе» города – Арбату – как мощной опоре в любви и памяти: Гляжу на двор арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами! Собирательный образ города нередко насыщен у Окуджавы философскими интуициями и, представая на грани обыденности и поэтической легенды, становится воплощением высших, хранящие человека сил («Город», 1960, «Тбилиси», 1965, «Париж для того, чтоб ходить по нему...», 1990 и др.). Так, например, с образом города, который в одноименном стихотворении 1960 г. являет добрые, животворящие токи бытия, устойчивое ядро души, связан разноплановый ассоциативный ряд. Город прочувствован героем и как качавшая его колыбель, и как близкая женщина («он, как женщина, // входящая по ночам // в комнату, где я одинок»), и как фон фронтовых воспоминаний. Сходные образные параллели возникают и в стихотворении «Мой город засыпает...» (1967), где город выведен в обличии таинственного, многоликого существа, сосредоточившего в себе различные стихии жизни в их меняющихся отношениях с лирическим «я»: «Я был его ребенком, я нянькой был его, // Я был его рабочим, его солдатом был...». В стихотворении же «Город» конкретное изображение связанной с городом индивидуальной судьбы прирастает, благодаря элементам сказочно- фантастической условности, расширительными смыслами, что отражает одну из универсалий образного мышления Окуджавы: И как голубая вода реки, озаренная цепью огней, над которой задумчивые рыбаки упускают с руки золотых своих окуней... 60 У Окуджавы иногда чудесное, легендарное полностью окрашивает собой сохраняемый в памяти облик города – как, например, в построенной на гриновских романтических ассоциациях стихотворной мининовелле «Январь в Одессе» (1967). В стихотворении «Тбилиси» грузинская столица одушевляется в образе мифопоэтического азиата, что неторопливо живет своей размеренной жизнью и выступает то в роли маэстро, который виртуозно управляет многострунным городским оркестром, то в качестве задумчивого игрока в нарды, то в виде зоркого пастуха, заботящегося, «чтоб здания, что разбрелись, как овцы, согнать скорее к стаду своему». Образ города рисуется как бы в стилистике древнего предания, и вместе с тем зрительная и звуковая пластика «хитросплетений улиц», «оркестров чайных ложек» укрепляет лирического героя в ощущении непосредственного, эмоционального с ним родства с ним: О, может быть, и сам я стану вновь сентиментален, как его рассветы, и откровенен, как его любовь. В поздней поэзии Окуджавы портреты городов все чаще наполнены драматичными раздумьями о прожитом, судьбе. В стихотворении «Париж для того, чтоб ходить по нему...» биографические воспоминания о друге «Вике Некрасове» слились с навеянным аурой французской столицы поэтичнейшим ощущением праздника бытия, в восхищенном удивлении перед которым душе ниспослан кратковременный дар «грозящему бездной концу своему не верить и жить не бояться». В контексте судьбы Окуджавы последние строки оказались едва ли не пророческими: ведь именно в Париже летом 1997-го и настигнет поэта «грозящая бездна». В сходной психологической гамме создается у Окуджавы и образ весеннего Вроцлава («Вроцлав. Лиловые сумерки», 1991), обогащенный также историческими раздумьями о близких и драматично перекрещивающихся исторических путях России и «Польски». Среди поздних городских портретов обращает на себя внимание своеобразная поэтическая «дилогия» 1993 г. о городах Святой Земли («Тель-Авивские харчевни...», «Романс»). Если в первом стихотворении скорбь о трагической современности благословенного места, «где от ложки до бомбежки расстояния близки», выводит лирического героя на не менее тревожные размышления об иной «Земле Святой» — России («ее, неутоленной, // нет страшней и слаще нет...»), то «Романс», воссоздающий образ Иерусалима, в большей степени наполнен философской саморефлексией. В неповторимой атмосфере Священного города, в котором даже «небо близко», за внешними картинами проступает напряженное духовное осмысление лирическим «я» 61 всего прожитого – перед лицом Высших Сил, в предощущении «главного часа» на пороге вечности: И когда ударит главный час и начнется наших душ поверка, лишь бы только ни в одном из нас прожитое нами не померкло. Потому и сыплет первый снег. В Иерусалиме небо близко. Может быть, и короток наш век, Но его не вычеркнуть из списка. Как становится очевидным, разноплановые по своей жанровой природе – от лирических мининовелл, драматических сценок, кратких очерковых зарисовок отдельных эпизодов, деталей городской жизни до масштабных исторических ретроспекций – поэтические портреты городов, составляющие содержательную и жанрово-стилевую общность, раскрывают свойства художественного мышления поэта-певца, комплекс заветных тем, образов песенной лирики Окуджавы, грани соприкосновения его лирического героя с мирозданием и заключают потенциал широких мифопоэтических обобщений. б) Р а с ш и р я я р у с л о т р а д и ц и и. «М о с к о в с к и й т е к с т» в р у с с к о й п о э з и и Х Х в.: М. Ц в е т а е в а и Б. О к у д ж а в а Художественный образ Москвы является сквозным в русской литературе XX в. В нем запечатлелась смена исторических эпох – от начала столетия до современности, нашли выражение ценностные ориентиры бытия, а также душевный склад личности, мир ее внутренних переживаний. На протяжении целого века «московский текст» творился художниками самых разных поколений, творческих пристрастий и стилевых ориентаций. В поэзии целостные – явные или скрытые – циклы о Москве возникают в творчестве М.Цветаевой, Б.Пастернака, Б.Окуджавы, Г.Сапгира и др., из прозаических произведений важны в этом плане повести и романы М.Булгакова, А.Белого, И.Шмелева, Б.Зайцева, М.Осоргина. В поэзии Цветаевой и Окуджавы Москва стала заветнейшей лирической темой – от ранних стихотворений до вершинных поэтических созданий. Что же дает основания рассматривать «московский текст» этих двух авторов в сопоставительном ракурсе? 62 В «московских» стихах Цветаевой и Окуджавы рисуется не просто психологический портрет отдельно взятого города, но, по существу, формируется индивидуальная творческая мифология, с одной стороны, о Серебряном веке, а с другой – о послевоенных десятилетиях; запечатлевается сам дух эпохи. Еще важнее то, что у обоих поэтов «московский текст» напрямую связан со складыванием автобиографического мифа, вбирающего в себя напряженные рефлексии о началах и концах земного пути. В разное время и Цветаева, и Окуджава пережили трагедию утраты родного города, нашедшую ярчайшее отражение в их поэтических мирах. Если для Цветаевой разлука со своей «рожденной Москвой» была вызвана революционной смутой, то в поэзии Окуджавы уничтожение старого Арбата, заглушившее «музыку арбатского двора» (сразу обратим внимание на пространственную и культурную близость воспетых поэтом-бардом арбатских переулков и цветаевского Борисоглебья), оказалось равносильным личной гибели, хаосу небытия, утере городом его корней. Город в поэзии Цветаевой и Окуджавы предстает в целостности прошлого и современности, оказываясь вместилищем личной и исторической памяти. Неслучайна весомость поэтического образа Старого города, в бытовом облике которого проступает бытийное и вечное. У Цветаевой одним из первых звеньев мифа о Москве стало раннее стихотворение «Домики старой Москвы» (1911). Важна здесь глубоко личностная обращенность героини к миру уходящего, покидаемого города, что отныне будет неотъемлемым обертоном всей последующей «московской» поэзии Цветаевой. Во внутреннем убранстве «домиков старой Москвы», в атмосфере «переулочков скромных», в россыпи предметно-бытовых деталей ощутима живая связь со многими человеческими судьбами, неведомыми пока ритмами бытия города: Кудри, склоненные к пяльцам. Взгляды портретов в упор… Странно постукивать пальцем О деревянный забор!159 Как и у Цветаевой, в посвященных старой Москве стихотворениях Окуджавы 1960-х гг. обобщенный образ города вырисовывается через, казалось, привычные детали повседневности. В «Песенке о московском трамвае», «Трамваях», «Старом доме» предстает тот же, что и у ранней Цветаевой, хронотоп «переулочков заученных», «старых дворов». Поэтическим воплощением старой, уходящей в прошлое Москвы в первых двух 159 Тексты произведений М.И.Цветаевой приведены по изданию: Цветаева М.И. Соч: в 7 томах / Сост., подгот. текста и коммент. А.Саакянц и Л.Мнухина. М.,1994-1995. 63 произведениях становятся «трамваи красные», которые теперь навсегда оседают в потаенных уголках города, являя его устойчивую связь с прошлым. Раздумья обоих поэтов о решительном изменении облика Москвы за счет оттеснения на периферию его традиционных атрибутов предстают в горько-элегической тональности. Хотя в «Старом доме» (1962) Окуджавы мелькнувшее сожаление о сносе ветхого строения пока еще (в отличие от более поздних его произведений) уступает радости о грядущем обновлении: Пусть стены закачаются, коридоры скользкие рухнут И покатится гул по мостовой, Чтоб вышло пропавшее без вести войско, спасенное войско дышать Москвой. Образ города раскрывается у Цветаевой и Окуджавы и в историческом аспекте. История в пространстве многих их стихов о Москве поражает своим живым присутствием в настоящем, благодаря чему сам город видится во «всечеловечности» и надвременном единстве. Для обоих поэтов важны в первую очередь драматические, кульминационные повороты далекой или недавней истории. Так, в раннем стихотворении Цветаевой «В Кремле» (1908), пространство ночного Кремля ассоциируется с драматичными судьбами русских цариц, а в цикле «Марина» (1921) этот же хронотоп вбирает в себя воспоминание о Лжедимитрии и «Лжемарине», в чьих отношениях роковым образом запечатлелся трагизм как личных, так и общерусской судеб. Исторический ракурс изображения московского мира появляется и в обращенном к дочери – «наследнице» Москвы – стихотворении «Четвертый год…» (1916), и в одном из «Стихов к Блоку»: «И гробницы, в ряд, у меня стоят, – // В них царицы спят и цари». У Окуджавы же в связи с образом Москвы возникают, как правило, выходы на недавнюю, еще живую в народной памяти историю («Воспоминание о Дне Победы», 1988, «Песенка о белых дворниках», 1964, «Песенка о московских ополченцах», 1975 и др.). В «Песенке о белых дворниках» именно осмысление судеб «маленьких людей» города, их «муки мусорной» неразрывно связано с созданием обобщающей, эмоциональной картины прошлого и настоящего. В «московской» поэзии обоих авторов существенна аксиологическая перспектива городского пространства и городской жизни, немыслимой вне общих для национального бытия духовных ориентиров. Москва в дореволюционной поэзии Цветаевой выступает как хранительница вековых православных традиций,160 во многом в качестве сакрализованного пространства, 160 Клинг О.А. Поэтический мир Марины Цветаевой. М., 2001. С.71. 64 возвышающегося над мирской суетой и этой духовной свободой родственного рвущейся ввысь душе лирической героини: Облака – вокруг, Купола – вокруг. Надо всей Москвой – Сколько хватит рук!.. Символическим воплощением ценностных опор бытия оказываются у Цветаевой возникающие в целом ряде стихотворений образы кремлевских соборов, московских храмов и особенно Иверской часовни («Из рук моих – нерукотворный град…», «Мимо ночных башен…», «Москва! Какой огромный…», «Канун Благовещенья…»). Иверская часовня обретает в изображении Цветаевой теснейшую эмоциональную связь с драматичной душевной жизнью ее героини, а в стихотворении «Мимо ночных башен…» (1916) «горящая», «как золотой ларчик», она символизирует свет духовной истины в сгущающейся тьме предреволюционных лет. А в стихотворениях Окуджавы о Москве, и особенно о самой сокровенной для поэта части города – Арбате, отчетливо ощутим пафос возвращения к утерянным нравственным ценностям, взыскания полноты внутренней жизни. В стихах арбатского цикла не раз возникает мотив рая, устремленность к которому была, казалось, начисто вытравлена из сознания современников («рай наконец наступил на арбатском дворе»), а сама вольная атмосфера Арбата воспринимается героями стихотворений Окуджавы как источник любви к одомашненному мирозданию: «Ты научи любви, Арбат, // а дальше – дальше наше дело…» («Песенка о московских ополченцах»). Подобно тому как в поэзии Цветаевой сакральные реалии городского мира сопряжены были с подспудным стремлением сохранить духовные основы бытия в пору надвигающейся смуты, у Окуджавы обретение подлинной московской топонимики, подвергшейся в советские десятилетия искажению, спроецировано на возвращение как города, так и целой нации к духовным истокам. Особую весомость в свете рассматриваемой темы приобретает и сопоставление конкретных путей художественного воплощения московского хронотопа в поэтических мирах Цветаевой и Окуджавы. Город выступает у них как органическое единство рукотворного реального и природного, и надмирного (иногда сказочного), торжественного и житейски-обыденного. Уже в первом из цветаевских «Стихов о Москве» (1916) в возвышенном, одухотворенном пространстве столицы «облака» и «купола вокруг» образуют нераздельную целостность: купола рукотворных соборов и церквей в творческом 65 воображении поэта переносятся в сферу надмирного, небесного. Потому и в следующем стихотворении цикла («Из рук моих – нерукотворный град…») Москва прямо именуется «нерукотворным градом», который именно в силу этого чудесного свойства свободен от реальных эмпирических масштабов и может легко быть переданным из одних рук в другие: «Из рук моих – нерукотворный град // Прими, мой странный, мой прекрасный брат…». Сходный эффект художественного смещения пропорций городского мира очевиден и в ряде «арбатских» стихотворений Окуджавы («Арбатский дворик», 1959, «Арбат беру с собою…», 1957), где Арбат, другие московские улицы настолько слиты с экзистенцией лирического героя, что без труда могут поместиться в его странническом «мешке вещевом и заплечном», чтобы навсегда остаться рядом на любых перепутьях судьбы: Арбат беру с собою – без него я ни на шаг, – Смоленскую на плечи я набрасываю, и Пресню беру, но не так, чтобы так, а Красную, Красную, Красную… У Цветаевой сквозным в стихотворениях о Москве, разных лет является ощущение не только своей глубинной сопричастности городу, но даже телесной изоморфности ритмам его бытия. Например, в стихотворении «Руки даны мне – протягивать каждому обе…» (1916, цикл «Ахматовой»), один из кремлевских колоколов, звон которых был не раз воспет в цветаевских произведениях, звучит в груди героини, наполняя ее душу тревожным предчувствием смертного часа, предощущением разлуки с родной землей: А этот колокол там, что кремлевских тяжеле, Безостановочно ходит и ходит в груди, – Это – кто знает? – не знаю, – быть может, – должно быть – Мне загоститься не дать на российской земле! Город вырисовывается как единство духа и плоти цветаевской героини и в обращенном к Блоку стихотворении «У меня в Москве – купола горят…» (1916, цикл «Стихи к Блоку»). Природная естественность московского ландшафта проявилась здесь в сквозном образе Москвы-реки. Если в стихотворении «Четвертый год» (1916) течение реки, ледоход воплощали движение времени жизни города от прошлого к настоящему, то здесь Москварека ассоциируется с протянутой навстречу адресату – Блоку – рукой героини: «Но моя река – да с твоей рекой, // Но моя рука – да с твоей рукой // Не сойдутся…». В контексте «московской» поэзии Окуджавы образ водной, речной стихии также имеет значительный смысл. В «Песенке об Арбате» (1959) старинная московская улица сравнивается с размеренно текущей рекой, в прозрачных водах которой отражаются душа города, судьбы арбатских пешеходов, странствующего лирического героя. 66 В стихотворении «Полночный троллейбус» (1957) образ реки построен на сопряжении реального и сказочного измерений. Заметим, кстати, что у Цветаевой такое соприкосновение было особенно ощутимым в «Домиках старой Москвы»: «Из переулочков скромных, // Все исчезаете вы, // Точно дворцы ледяные // По мановенью жезла…». В стихотворении же Окуджавы московский троллейбус обретает черты корабля, свободно ощущающего себя на водных просторах города и избавляющего героя от ночной тоски и одиночества. Москва, ставшая в изображении Цветаевой и Окуджавы образом всепроникающего единства мира и человеческой души, раскрывается в их произведениях как с парадной, так и с обыденной, будничной стороны. Подобное сплавление «верха» и «низа» городской жизни отчетливо видно в целом ряде цветаевских «Стихов о Москве» (1916) – в частности, в стихотворении «Семь холмов – как семь колоколов…». Сознание героини и вбирает в себя возвышенный облик «колокольного семихолмия», обозревая «сорок сороков» московских церквей, и в то же время угадывает свое родство с независимым духом городских простолюдинов, благодаря чему в стихотворении вырисовывается народный, фольклорный образ Руси и ее столицы: Провожай же меня, весь московский сброд Юродивый, воровской, хлыстовский!.. В песенной поэзии Окуджавы, в смысловом и стилевом плане оппозиционной помпезности советского официоза, величие Москвы также явлено не во внешних парадных атрибутах, но в бесконечном многообразии ее обыденной жизни. Симптоматичный пример тому – стихотворение «Московский муравей» (1960). Его лирический герой с радостью ощущает свою принадлежность миру «маленьких» обитателей города, напоминающего величавого, но простого и радушного хозяина: «Мой город носит высший чин и звание Москвы, // но он навстречу всем гостям всегда выходит сам…». Именно подобное всеобъмлющее свойство города, загадка его величественной простоты обуславливают для лирического «я» бесконечность познания Москвы в пространственно-временной перспективе. Немалая роль в художественном оформлении образа Москвы принадлежит в поэзии как Цветаевой, так и Окуджавы, музыкально-песенным мотивам и цветописи.161 161 Панова Л.Г. Стихи о Москве М.Цветаевой и О.Мандельштама: два образа города – две поэтики – два художественных мира // А.С.Пушкин – М.И.Цветаева: Седьмая цветаевская международн. научнотематическая конф. М., 2000. С.242. 67 В очерке «Мать и музыка» (1934) Цветаева вспоминает о том, что ее детские московско-тарусские впечатления сопряжены были с музыкальными ассоциациями: соотношение «хроматической» и «простой» гамм навсегда отложилось в ее творческой памяти как соотношение тарусской «большой дороги» и «Тверского бульвара, от памятника Пушкина – до памятника Пушкина». Говоря о материнских уроках музыки, Цветаева делает важное признание о том, что довольно скоро для нее «Музыка обернулась Лирикой», поэзия стала «другой музыкой». В художественном строе значительной части ее «московских» стихов это музыкальное начало весьма ощутимо: неслучайно в начальном стихотворении цикла «Ахматовой» (1916) именно пространство «певучего града» осознается как благоприятная почва творческого содружества двух поэтов. Что же касается поэтических текстов Окуджавы, в том числе об Арбате, Москве в целом, то в восприятии многих современников они были неотделимы от негромкого лирического голоса поэта-певца. Песенное начало окуджавских стихов о Москве (несхожее своей ритмической плавностью с прерывисто-напряженной мелодической доминантой цветаевской поэзии) запечатлелось не только в их образном мире, поэтике, но и в авторских жанровых определениях: «Песенка о ночной Москве», «Песенка о московском метро», «Арбатский романс», «Песенка о белых дворниках» и др. В «московском тексте» Цветаевой музыкальные и цветовые образы тесно взаимосвязаны. Так, в стихотворении «Четвертый год» (1916) в тающих на Москве-реке льдинах отражаются купола, и вся картина предстает звучной и окрашенной в яркие тона: «Льдины, льдины // И купола. // Звон золотой, // Серебряный звон…». Вообще из звуковых образов в цветаевских стихотворениях о Москве преобладает колокольный звон, наделенный самыми разнообразными психологическими характеристиками, как правило коррелирующими с внутренним состоянием лирического «я». В стихотворении «Из рук моих – нерукотворный град…» (1916) творческое воображение героини улавливает, как «бессонные взгремят колокола»: эпитет приобретает новый смысл в соотнесенности с мотивами цикла «Бессонница» (1916). Этот гиперболизированный звуковой образ в следующем стихотворении цикла «Стихов о Москве» («Мимо ночных башен…») спроецирован на душевное настроение героини: «Греми, громкое сердце!». Далее образ колокольного звона все чаще сопряжен с картинами окружающего, природного мира: в стихотворении «Над синевою подмосковных рощ…» (1916) бредущих странников настигает «колокольный дождь», а сама Калужская дорога, «пропитанная» их молениями, именуется «песенной». В стихотворении же «Над городом, отвергнутым Петром…» (1916) одухотворенный звон как бы льется из небесной синевы; звук и цвет призваны 68 здесь к взаимному усилению: «Пока они гремят из синевы – // Неоспоримо первенство Москвы». Что касается цветовой гаммы рассматриваемого ряда стихотворений Цветаевой, то она отличается яркостью, повышенной экспрессией, вызванной стремлением поэта обрести некий абсолют чистого цвета, приобщиться к идущей от московской ауры энергии «дивных сил». Доминируют здесь червонно-золотые, багряные, ярко-синие тона, окрашивающие собой и природный мир города облака», («багряные «синева подмосковных рощ», «красная кисть рябины»), и его святыни (лейтмотив «червонных куполов», горящая золотом Иверская часовня), и московские вехи бытия самого поэта: «В колокольный я, во червонный день // Иоанна родилась Богослова…». В московском, «арбатском» цикле стихов Окуджавы постепенно складывается песенная сага о городе, его прошлом и настоящем, о мироощущении горожан и, конечно, о бардовской культуре поэтической как важнейшей составляющей духовной жизни эпохи. Песенные мотивы часто символизируют у Окуджавы тайную гармонию городского бытия, скрытую за будничными покровами. Например, в «Песенке о московском метро» (1957-61) чуткий слух поэта-певца даже во внешне безличных произносимых в метро словах улавливает музыкальное, ритмическое начало: Мне в моем метро никогда не тесно, потому что с детства оно – как песня, где вместо припева, вместо припева: «Стойте справа, проходите слева». Многообразие песенных ликов Москвы предстает неотделимым от «оркестров Земли», как, например, в стихотворениях «Когда затихают оркестры Земли…» (1967), «Песенка о ночной Москве» (1963). В первом из них на Сивцевом Вражке звучит шарманка «одноногого солдата», нехитрая, но проникновенная мелодия которой воскрешает столь необходимую память об испытаниях военного прошлого. А художественная оригинальность «Песенки о ночной Москве» связана с тем, что образ Москвы, ее недавних страданий «в года разлук, в года сражений» предстает не через предметную изобразительность, но соткан из музыкально-песенных ассоциаций, построен на контрапункте эмоционально разнозаряженных мелодий; здесь, по мысли современного исследователя, «воспроизводится процесс рождения стиха, ложащегося на музыку»:162 Мелодия, как дождь случайный, гремит; и бродит меж людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви. 162 Зайцев В.А. Русская поэзия XX века: 1940-1990-е годы. М., 2001. С.160. 69 В конце 1980-х, в пору разрушения Арбата, трагического для поэта выветривания особой ауры этого места, лишь гитарная «музыка арбатского двора» видится ему как последняя опора в борьбе против хаоса и разрушения: «Ты укрой меня, гитара, // от смертельного удара, // от московских наших дураков». Цветовое оформление московского мира происходит у Окуджавы иначе, чем в поэзии Цветаевой и не столь интенсивно. Если у Цветаевой субъективная окрашенность цветовых характеристик была связана с контрастным выделением тех или иных явлений на окружающем их фоне, то в стихотворениях Окуджавы менее экспрессивные краски призваны, напротив, интегрировать окрашенные ими предметы в общий городской интерьер, в мир природы. Так, например, «синий троллейбус» органично вписывается в целостную затемненно-ночную цветовую палитру («Полночный троллейбус»). А сквозной в стихотворении «На Тверском бульваре» (1956) образ «зеленой скамьи», точный с эмпирической точки зрения, воплощает вечно обновляющуюся стихию жизни города, неисчерпаемые ресурсы межличностного общения. Образ города в поэзии Цветаевой и Окуджавы, с одной стороны, разомкнут вовне, в широкую сферу межчеловеческих общностей, в саму эпоху, а с другой – он вступает в глубинное соприкосновение с внутренним миром лирического «я», с творческими устремлениями поэтов, ложась в основу их автобиографических мифов. Во многих цветаевских стихотворениях дарение Москвы другому человеку выступает как дарение ему собственных чувств, открытие нового, бытийного измерения жизни родного города, как неотъемлемая составляющая родственного, дружеского или творческого общения. С этим связано частое присутствие образа Москвы – в самых различных ракурсах – в раздумьях Цветаевой о судьбах других поэтов – от Пушкина до Блока, Белого, Ахматовой и Мандельштама. В раннем стихотворении «Тверская» (1911) обживание московского пространства, воспринимаемого в качестве «полувзрослых сердец колыбели», неотделимо от сестринского единения, чувства их сплоченности в радостном предвосхищении открытия бесконечности мира, начинающегося с исхоженной вдоль и поперек Москвы: Все поймем мы чутьем или верой, Всю подзвездную даль и небесную ширь! Возвышаясь над площадью серой Розовеет Страстной монастырь. Позднее взволнованное совместное вчувствование в дух Москвы, а через это – и в трагедийные первоосновы национального бытия раскрывается у Цветаевой в цикле «Але» (1918), где героиня, «бродя» с дочерью по Москве, с душевным трепетом приобщает ее к 70 бесконечно дорогим приметам города, с надеждой и тревогой улавливая бытийное родство детской души не только с «кремлевскими башнями», но и ее обреченность вкусить горечь «рябины, судьбины русской»: Когда-то сказала: – Купи! – Сверкнув на кремлевские башни. Кремль – твой от рождения. – Спи, Мой первенец светлый и страшный. <…> – Сивилла! Зачем моему Ребенку – такая судьбина? Ведь русская доля – ему… И век ей: Россия, рябина… Как и у Цветаевой, в стихотворениях Окуджавы о Москве обращение к до боли знакомым читателю и слушателю деталям городской жизни ознаменовано стремлением подарить им новое, одухотворенное видение тех или иных московских явлений. Именно отсюда проистекает в текстах Окуджавы форма прямого диалога с вдумчивым собеседником, имеющим свой опыт восприятия Москвы. При этом если у Цветаевой речь, как правило, идет все же о заведомо близкой душе, с которой героиня делится «своей Москвой», то у Окуджавы адресат может быть гораздо более широким. Так, в уже упоминавшемся стихотворении «На Тверском бульваре» автор на первый взгляд и не стремится сказать нечто новое об этом знакомом каждому москвичу месте. В своих впечатлениях от «перенаселенной скамьи зеленой» он ищет и находит точки соприкосновения с эмоциональным миром тех, кто здесь «не раз бывал». Именно в дружеской обращенности к этим слушателям-собеседникам, в разговоре с ними знакомый мир города, приобретает, как это было видно и в цветаевских посланиях, неведомую доселе глубину – в данном случае в осмыслении тех таинственных нитей, которые связывают обитателей города в единое целое: На Тверском бульваре вы не раз бывали, но не было, чтоб места не хватило на той скамье зеленой, на перенаселенной, как будто коммунальная квартира. Вместе с тем город у Окуджавы выступает, как и во многих стихотворениях Цветаевой, «свидетелем» и даже «участником» более сокровенных дружеских и творческих отношений. Ряд московских лирических зарисовок Окуджавы по существу представляет собой дружеское послание, воспоминание о старой дружбе. В стихотворении «На рассвете» (1959) штрихи к портрету предрассветной Москвы приобретают особую личностную значимость, когда неожиданно на фоне бульдозеров, «царства бетона и стали» появляется «маленький, смешной человечек», в котором герой с 71 радостью узнает старинного друга детства, общим с которым у него и был этот полный загадок мир большого города. А в стихотворении «Чаепитие на Арбате» (1975) уют традиционного для старой Москвы долгого чаепития формирует благотворную атмосферу беседы двух давних друзей-фронтовиков о судьбе, жизни и смерти, трудных дорогах войны. В поэзии Окуджавы арбатский мир с живущей в нем тайной музыкальной гармонией становится основой и душевного единения поэтов. В стихотворении «Речитатив» (1970) атмосфера арбатского двора, хранящего память об истории и живущего разнообразной жизнью в настоящем, невольно дает живущим здесь поэтам – лирическому герою и Николаю Глазкову – ощутить волнующую «близость душ». В «Речитативе» проявляется особая свободная неиерархичность изображенного Окуджавой московского мира, арбатского двора, увиденного как «рай, замаскированный под двор, // где все равны: и дети и бродяги…». Столь же широкая персонажная сфера, включающая в себя и представителей социальных «низов»,163 присутствует и в «московской» поэзии Цветаевой. Цветаевская Москва, особенно в пору предгрозовых ожиданий, становится всевмещающим «странноприимным домом», привечающим страждущих, бездомных со всей Руси («Москва! Какой огромный…», «Над синевою подмосковных рощ…», «Семь холмов – как семь колоколов…»). Неслучайно первое из названных произведений несет в себе элементы «ролевой» лирики: цветаевская героиня на время перевоплощается в персонажей-бродяг и до глубины проникается их телесной «болестью», душевными терзаниями, от которых они жаждут исцелиться, прикоснувшись к московским святыням. В этих и некоторых других стихотворениях «верхнее», сакральное пространство города свободно сочетается с образами бродяг, беглых каторжников, странствующих по Москве и ее окрестностям и отчасти выступающих как некая ипостась мятежного и одинокого духа самой героини. Особая «всечеловечность» и психологическая сложность лирической героини проявляется в том, что она живо ощущает свою сопричастность не только «высокой» Москве с соборами и колокольным звоном, но и этим вольным и нищим странникам, с судьбами которых она едва ли не пророчески осознает собственное родство – родство «бездомья» и изгнанничества: И думаю: когда-нибудь и я, Устав от вас, враги, от вас, друзья, И от уступчивости речи русской, – 163 Мейкин М. Марина Цветаева: поэтика усвоения. М.,1997. С.36-37. 72 Надену крест серебряный на грудь, Перекрещусь – и тихо тронусь в путь По старой по дороге по Калужской. Очевидно, что персонажный мир имеет существенную значимость в стихах о Москве как Цветаевой, так и Окуджавы. Хотя у Окуджавы Москва как бы «гуще» населена, а образы московских персонажей все же более индивидуализированы и с психологической, и с социальной точек зрения, более самостоятельны в отношении к авторскому «я» («Король», 1957, «Весна на Пресне», 1959, «Московский муравей, 1960, «Песенка о белых дворниках», 1964, «Песенка о московских ополченцах», 1969 и др.). Бытие города вообще непредставимо для лирического «я» Окуджавы вне личных судеб его «незаметных» жителей – без поэтической, народной памяти о безвременно погибшем в войну Леньке Королеве – легенде Арбата («Король»), без весеннего оживления простых пресненцев, «мелочей» их частной жизни («Весна на Пресне») и т. д. Москва обретает в поэзии Цветаевой и Окуджавы и статус своеобразного культурного мифа, представая как средоточие национальной культуры в прошлом и настоящем, как пространство, хранящее в себе незримую связь с судьбами русских поэтов. Существенное место в контексте произведений Цветаевой и Окуджавы занимает образ воскрешаемой творческим воображением пушкинской Москвы, содержащий мифопоэтическое обобщение о судьбе поэта, его связях с городом как своего времени, так и последующих эпох. Пушкинская Москва Цветаевой предстает прежде всего в ее очерке «Мой Пушкин» (1937). «Памятник-Пушкин», сращенный с плотью города, приобретает под пером автора очерка мифопоэтические черты: он видится как стоящий «над морем свободной стихии» (ассоциация воспетой поэтом-романтиком морской стихии с вольным и демократичным духом столицы) «гигант среди цепей», насильственно заключенный в «круг николаевских рук», как «памятник свободе – неволе – стихии – судьбе – и конечной победе гения». Важно, что для лирического «я» Цветаевой именно встреча с бронзовой фигурой Пушкина явилась первым опытом прикосновения к московскому хронотопу. «Памятник-Пушкин» стал для нее «первой встречей с черным и белым», «первой пространственной мерой», вытянувшейся впоследствии в линию целого жизненного пути, «версту всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий». В изображении Цветаевой московский мир, созвучный духу пушкинской простоты и свободы, оживает и, подобно самой героине, погружается в напряженное осмысление ликов родной культуры: «… Прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз лицо 73 было новое, хотя такое же черное. (С грустью думаю, что последние деревья до164 него так и не узнали, какое у него лицо). Памятник Пушкина я любила за черноту…». Во многом близкие пути художественного познания пушкинской Москвы проступают и в ряде стихотворений Окуджавы («Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем…», 1964, «Александр Сергеич», 1966, «На углу у гастронома…», 1969, «Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкина», 1970). Сила творческого воображения, сама память московской земли позволяют герою стихотворения «Былое нельзя воротить…» в жизни современного ему Арбата ощутить отголоски хронологически далекой, но внутренне близкой эпохи Пушкина. Художественная концепция времени здесь циклична: чем дольше живет город во времени, в смене различных эпох, тем ярче проступают в его облике дорогие приметы культуры и быта прошлого: Былое нельзя воротить… Выхожу я на улицу и вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается… Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет. Примечательные типологические параллели с «московско-пушкинским» дискурсом Цветаевой возникают у Окуджавы в стихотворениях «Александр Сергеич», «Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину», где памятник поэту на Пушкинской площади становится центром притяжения не только для Москвы, но и для всей России. Если Цветаевой в заветной бронзовой фигуре виделись «нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи», то в «Александре Сергеиче» Окуджавы выход на общерусский масштаб изображения сопряжен с музыкальным мотивом «тихо звенящей» от падающего снега бронзы: Не представляю родины без этого звона. В сердце ее он успел врасти, как его поношенный сюртук зеленый, железная трость и перо – в горсти. В стихотворении Окуджавы, как и в цветаевских раздумьях о пушкинской Москве, одушевленные мифопоэтические детали памятника с особой яркостью являют всеобъемлющую и «всечеловечную» душу русского гения и нераздельно связанного с ним города, который снова и снова возвращается к скорбному переживанию трагической гибели поэта («На углу у гастронома…»). Хронотоп Пушкинской площади в изображении Окуджавы вбирает в себя и вековой пласт исторической памяти, и богатство эмоциональных проявлений текущей человеческой и природной жизни, столь ценившееся автором «Вакхической песни»: 164 Выделено М.Цветаевой. 74 По Пушкинской площади плещут страсти, трамвайные жаворонки, грех и смех… Да не суетитесь вы! Не в этом счастье… Александр Сергеич помнит про всех. Через целостный образ Москвы, отдельные московские мотивы и сюжеты в поэзии Цветаевой и Окуджавы становилось возможным масштабное художественное обобщение важнейших исторических и культурных эпох XX столетия, судеб их ключевых представителей. Как в поэзии, так и в эссеистской прозе Цветаевой, творческое осмысление Серебряного века было неразрывно связано с образом Москвы, ее именитых домов, с портретами их обитателей. Портрет старомосковской дореволюционной интеллигенции вырисовывается в эссе «Пленный дух» (1934), где показано скептичное отношение «старого поколения Москвы» к нарождавшемуся тогда «новому искусству»; в очерке «Дом у старого Пимена» (1933), воссоздающем мифологемы как родного дома в Трехпрудном, так и «смертного дома» Иловайского на Малой Дмитровке, который, по мысли автора, воплотил в себе трагическую судьбу всего «того века» в пору революции, когда «Россия взорвалась со всеми165 Старыми Пименами». Таким образом, сквозь призму разрушения укорененного в московской традиции дома как духовно-исторической субстанции с особой остротой ощущается катастрофизм крутых исторических сдвигов в начале XX в. В «московской» поэзии Цветаевой существенное место принадлежит и творческим портретам поэтов Серебряного века, органично вписанным в общий культурный интерьер эпохи с учетом релевантной для рубежа столетий оппозиции двух столиц. В «Нездешнем вечере» (1936), вспоминая о чтении своих стихов на вечере в Петербурге в 1916 г., Цветаева особенно подчеркивала тот факт, что там «читал весь Петербург и одна Москва», и она своими стихами стремилась «эту Москву – Петербургу подарить»: «Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы и что этим лицом в грязь – не ударяю, что возношу его на уровень лица – ахматовского…». В цветаевских же стихах особенно значимым оказывается общение с поэтами – «петербуржцами» на московской «почве». В стихотворениях, обращенных к Мандельштаму («Ты запрокидываешь голову…», 1916, «Из рук моих – нерукотворный град…», 1916), проступает образ «гостя чужеземного», «чужестранца», ставшего для героини «веселым спутником» в совместном постижении Москвы. В пятом стихотворении цикла «Стихов к Блоку» («У меня в Москве 165 Выделено М.Цветаевой. 75 – купола горят…») драма разминовения двух поэтов (а в одном из последующих стихотворений и трагедия разорванности духа Блока, резонирующая в «рокоте рвущихся снарядов») разворачиваются на фоне Москвы, с которой героиня ощущает особую спаянность. При этом характерно, что мистическое общение с Блоком происходит здесь в «верхнем» пространстве Москвы, над городом, где земная топография приближена к надмирному и вечному: И проходишь ты над своей Невой О ту пору, как над рекой-Москвой Я стою с опущенной головой, И слипаются фонари. Особый смысл приобретает «московский текст» в стихах, обращенных к Ахматовой (цикл «Ахматовой», 1916). По признанию Цветаевой, «последовавшими за моим петербургским приездом (в 1916 г. – И.Н.) стихами о Москве я обязана Ахматовой, своей любви к ней, своему желанию ей подарить что-то вечнее любви…». И уже в начальном стихотворении цикла, воссоздавая развернутый мифопоэтический портрет «музы плача, прекраснейшей из муз», героиня приносит ей в дар свою Москву – причем на сей раз это город, где в молитвенном порыве сходятся вместе его как высшие, так и низовые сферы: В певучем граде моем купола горят, И Спаса светлого славит слепец бродячий… – И я дарю тебе свой колокольный град, Ахматова! – и сердце свое в придачу. Если в цветаевском образе Москвы преломились характерные черты Серебряного века, судьбы поэтов начала столетия, то «московский текст» Окуджавы, наполненный отголосками недавней войны, вместе с тем отразил и движение поэтической культуры своего времени. В стихотворениях «Как наш двор ни обижали – он в классической поре…» (1982), «Дама ножек не замочит…» (1988), «О Володе Высоцком» (1980) духовный облик Москвы, Арбата середины столетия неотделим от целого материка культуры этого периода – авторской песни, «гитарной» поэзии, ставшей поистине общественным явлением, от трагической фигуры Высоцкого и ее народного восприятия. Подобно тому как у Цветаевой образ выступающего в Москве Блока был выведен в призме всеобщего, народного взгляда («Предстало нам – всей площади широкой! – // Святое сердце Александра Блока»), так и в названных стихах Окуджавы хриплый, надрывный голос Высоцкого, «струнный звон» его гитары пронизывают московский воздух, свидетельствуя перед лицом вечности о драматичном опыте послевоенного поколения: Может, кто и нынче снова хрипоте его не рад, может, кто намеревается подлить в стихи елея… 76 Ведь и песни не горят, они в воздухе парят, чем им делают больнее – тем они сильнее. («Как наш двор ни обижали…») А в стихотворении «О Володе Высоцком», начало которого несет в себе реминисценцию из известной военной песни поэта «Он не вернулся из боя», прочувствованное на фоне города земное и посмертное бытие «властителя дум и чувств» эпохи становится той живой нитью, которая, как и в цветаевском стихотворении о Блоке, соединяет «белое небо» и «черную землю» Москвы, не оставленную поэтом-певцом и после ухода в бесконечность: Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон, ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. О Володе Высоцком я песню придумать хотел, но дрожала рука и мотив со стихом не сходился… Белый аист московский на белое небо взлетел, черный аист московский на черную землю спустился. Таким образом, и у Цветаевой, и у Окуджавы широко разомкнутый вовне мир Москвы, предстает неотделимым от широких межчеловеческих связей, от осмысления частных судеб современников, глубокого проникновения в ритмы исторической и культурной жизни и, конечно же, от судеб поэтов, так или иначе с этим миром соприкоснувшихся. Однако город в поэзии Цветаевой и Окуджавы спроецирован не только на внешнюю реальность, но и на внутреннее бытие лирического «я», становясь у обоих поэтов зерном сквозного в их творчестве автобиографического мифа. В целом ряде стихотворений Цветаевой и Окуджавы в центр выдвигается интимнодоверительное общение лирического героя с душой города – причем зачастую это город ночной или предрассветный, освобожденный от бремени дневной суеты и открытый к соприкосновению с ритмами душевной жизни личности. Ночной город в стихотворениях Цветаевой166 – от раннего «В Кремле» (1908) до «Стихов о Москве», «Бессонницы» и «Стихов к Блоку» становится одушевленным свидетелем бессонной тревоги героини, метаний ее неуспокоенной души. В стихотворении «В Кремле» ночные тона в образе сердца Москвы придают оттенок таинственности как самому городу в его прошлом и настоящем, так и напряженнопорывистой душевной жизни лирического «я», проникающегося неизбывным драматизмом женских судеб русских цариц. 166 Муратова Е.Ю. Москва А.С.Пушкина и Москва М.И.Цветаевой // А.С.Пушкин – М.И.Цветаева… С.232. 77 Позднее, в одном из «Стихов о Москве» («Мимо ночных башен…») тревожный облик ночного города будет уже напрямую соотнесен с властно овладевающей героиней стихией страсти. Ночные краски резче оттеняют непрекращающееся и страшащее героиню брожение городской жизни и современной действительности в целом: восторг упоения «жаркой любовью» не в силах до конца заглушить проникшую в душу тревогу: Мимо ночных башен Площади нас мчат. Ох, как в ночи страшен Рев молодых солдат! Греми, громкое сердце! Жарко целуй, любовь! Ох, этот рев зверский! Дерзкая – ох! – кровь! А в цикле «Бессонница», где образ погруженного во мрак города будет уже сквозным, для лирической героини, жаждущей «освобождения от дневных уз», ночная Москва явится воплощением отчаяния, одиночества – и одновременно той «единственной столицей», с которой ее связывают нити интимного, женского доверия – в обнаженности страждущего чувства, чуткости к бытийной дисгармонии мироустройства, чреватой близкими потрясениями: Сегодня ночью я целую в грудь – Всю круглую воюющую землю! Разнообразны в цикле художественные средства передачи общей городской атмосферы, вобравшей в себя крайние моменты человеческой жизни, балансирующей на грани отчаяния и надежды. Это лейтмотив ветра, который «прямо в душу дует» (после «блоковского» цикла Б.Пастернака 1956 г. этот образ может быть воспринят как емкое художественное обобщение мироощущения эпохи порубежья);167 мерцающая освещенность города, запечатленного как бы «между» «бессонной темной ночью» и «тусклой» рассветной зарей. Детали городского пейзажа экстраполируются здесь на душевное состояние лирического «я». Горящее в уснувшем доме бессонное окно (стихотворение «Вот опять окно…», 1916) символизирует тайную, наполненную невысказанным драматизмом жизнь обитателей города и одновременно лишенную цельности душу героини: «Нет и нет уму // Моему – покоя. // И в моем дому // Завелось такое…». Неслучайно, что в «московских» стихах Цветаевой мотив бессонницы окрашивает собой самые разные явления – будь то «бессонно взгремевшие колокола» или 167 Ничипоров И.Б. Образы стихий в «блоковских» стихотворениях М.Цветаевой, А.Ахматовой, Б.Пастернака // Стихия и разум в жизни и творчестве Марины Цветаевой: XII Международная научнотематическая конференция (Москва, 9-11 октября 2004 г.): Сб. докл. / Отв. ред. И.Ю.Белякова. М., Доммузей Марины Цветаевой, 2005.С.157-164. 78 признание в любви «всей бессонницей» к Блоку, звучащее от имени не только самой героини, но и целой Москвы. В самых разнообразных поэтических портретах городов Окуджавы атмосфера уединенного общения с ночным или предрассветным городом становится доминирующей – особенно в таких стихотворениях, как «Полночный троллейбус», «Ленинградская элегия», «Путешествие по ночной Варшаве в дрожках», «Песенка о ночной Москве» и др. Это качество важно и в стихотворениях о Москве. Яркими примерами соприкосновения лирического героя с пространством ночного города могут служить стихотворения «Полночный троллейбус» и «Песенка о ночной Москве». Как и в рассмотренных выше цветаевских произведениях, ночной город в «Полночном троллейбусе» становится вместилищем ищущего духа, драматичных переживаний лирического «я», хотя, вероятно, и не столь безысходных, как в «Бессоннице». Целительное воздействие ночного городского мира на отчаявшуюся душу сопряжено здесь с тем, что этот мир и в молчаливом, дремлющем состоянии открыт, подобно дверям «синего троллейбуса», навстречу человеческой боли и одиночеству и являет образ не отменяемой ни при каких условиях общности индивидуального и надличностного начал. Если в цветаевском контексте ночной, «бессонный» город, пронизываемый ветром, выступает преимущественно как символ бытийного неблагополучия, дисгармонии и этим оказывается созвучным ритмам потаенной жизни самой героини, то у Окуджавы, напротив, ночная Москва воплощает ту скрытую, музыкальную гармонию мира, чувствование которой особенно ощутимо лишь в мгновения уединения, неторопливого общения с внутренним, глубоко индивидуальным «я» родного города. В этом общении не только «стихает боль», как это было со спасенным в «зябкую полночь» героем «Полночного троллейбуса», но взгляду человека открывается новое, чудесное качество обыденных явлений жизни. Последнее проявилось в ряде стихотворений Окуджавы, рисующих пробуждающийся на рассвете город. «Москва на рассвете чудесами полна» – так воспринимает герой стихотворения «На рассвете» (1959) внешне заурядные, даже неодушевленные явления жизни большого города – бульдозеры, буксирный пароходик, краны, – которые предстают на грани таинственного ночного часа и привычного дневного движения. Глубокое восприятие этой грани дарит лирическому герою Окуджавы не только новое видение исхоженных «улочек кривых», как, например, в «Московском 79 муравье», но и одухотворенное осмысление истории страны, своей «малой» родины – Арбата. При отмеченных существенных различиях в семантике образа ночной и предрассветной Москвы в поэзии Цветаевой и Окуджавы, важно и то, что у обоих поэтов это глубоко прочувствованное ими особое состояние города знаменует возвышение сознания лирического «я» от бытового к бытийному: от суетных «дневных уз» к откровению о бессонно-тревожном состоянии своей души и Вселенной у Цветаевой – и от привычного, эмпирического взгляда на окружающую действительность и историю к прозрению в них чудесного измерения, таинственной, гармоничной связи малого со Всеобщим в песенной поэзии Окуджавы. В поэтических мирах Цветаевой и Окуджавы в непосредственном контакте со стихией родного города в полноте раскрывается психологическая сущность лирического «я», Москва таинственным образом оказывается сопричастной началам и концам жизни, заветным творческим устремлениям поэтов, их преемственной связи с последующими поколениями. Образ Москвы предстает у Цветаевой и Окуджавы как основа их поэтической мифологизации собственного жизненного пути. Сквозным для целого ряда цветаевских стихотворений становится мифопоэтический образ рождения поэта на «колокольной земле московской». В стихотворении «Красной кистью…» (1916) рождение героини «вписано» в яркий – звучный и красочный – мир города, хранящего христианскую традицию почитания святых (день Иоанна Богослова), а в горении московской «жаркой» и «горькой» рябины предугадывается страстный дух героини и ее трагическая судьба. Заметим, что не только в поэзии, но и в прозе Цветаевой («Мать и музыка», «Мой Пушкин», «Дом у старого Пимена» и др.) первые впечатления от мира спаяны с реалиями московского пространства – как с древними улицами города, так и с уникальным микроклиматом старых московских домов: в Трехпрудном, на Малой Дмитровке, позднее – в Борисоглебье… В художественном сознании Цветаевой Москва ассоциируется и с собственной творческой самоидентификацией, со стремлением ощутить самобытность своего поэтического голоса. В «Нездешнем вечере» она с достоинством подчеркнет «московскость» своего внутреннего склада, «московский говор», а в позднем письме уже 1940 г., с тяжелым сердцем переживая изгнание из Москвы, напишет о чувствовании внутреннего права на этот город – «права поэта Стихов о Москве». 80 Москва являет в поэтическом мире Цветаевой родственную ее героине непокоренную женскую сущность, в которой навсегда запечатлелись драма «оставленности», «отвергнутости» и предчувствие роковой участи. В стихотворении «Над городом, отвергнутым Петром…» (1916) гордая в своем страдании женская ипостась «отвергнутой» царем-реформатором старой столицы раскрывается в мифопоэтическом прочтении «текста» русской истории: Над городом, отвергнутым Петром, Перекатился колокольный гром. Гремучий опрокинулся прибой Над женщиной, отвергнутой тобой. «Встреча» глубоко интимных переживаний цветаевской героини и драматичной истории города обусловила здесь уникальное сращение «голосов» лирического «я» и самой Москвы, которые «гордыне царей» дерзостно противопоставляют истину творческого порыва. Уже в ранних стихах Цветаевой о Москве рождается пронзительная интуиция о мистической причастности родного города не только к приходу героини в мир, но и к концу ее земного пути, последнему «оставлению» Москвы. В открывающем «московский» цикл 1916 г. стихотворении «Облака – вокруг…» пространство столицы «вмещает» в свои пределы начала и концы жизни героини, которая «с нежной горечью» видит в «дивном граде» залог связи поколений. Героиня предощущает то, что Москва облегчит тяжесть смертного часа, сделает его «радостным» и переведет отношения с родной землей в масштаб Вечности: Будет твой черед: Тоже – дочери Передашь Москву С нежной горечью. Мне же – вольный сон, колокольный звон, Зори ранние На Ваганькове. А в стихотворении «Настанет день, – печальный, говорят!..» московский мир (как общность живущих в городе людей) вновь становится свидетелем последнего ухода «новопреставленной болярыни Марины». Здесь возникает интересный ракурс видения «оставленной» Москвы – уже из иного мира: в общении с городом реальное и мистическое измерения у Цветаевой, как впоследствии и у Окуджавы, составляют единое целое. Причем если в начальном стихотворении цикла кончина воспринималась в качестве «радостного» события, то здесь торжественное прощание с родным городом видится лирическому «я», с одной стороны, как «святая Пасха», но с другой – как 81 кульминационный момент в переживании своего вселенского одиночества. И эта последняя, ударная нота стихотворения звучит как дальнее предвестие трагедии поздней Цветаевой, которой суждено будет испить горькую чашу предсмертного разрыва с Москвой в августе 1941 г.: По улицам оставленной Москвы Поеду – я, и побредете – вы. И не один дорогою отстанет, И первый ком о крышку гроба грянет, – И наконец-то будет разрешен Себялюбивый, одинокий сон. Как и у Цветаевой, в поэтическом мире Окуджавы вчувствование в дух Москвы, ощущение собственного «арбатства» образуют целостную мифологию жизненного и творческого пути168. Характерно при этом, что у обоих поэтов образ пути предстает и в буквальном воплощении (странствие по Москве, стремление «исходить» ее), и как обобщение всего пережитого. Если цветаевская Москва представала как особая ипостась женского облика лирической героини, то город Окуджавы вбирает в себя эмоциональные черты его лирического «я» – поэта, странника, открытого всему богатству окружающего мира: Ах, этот город, он такой похожий на меня: то грустен он, то весел он, но он всегда высок… Поэтически преображенное пространство Арбата вбирает у Окуджавы память о заре молодой жизни и постепенно подводит к нелегким раздумьям об уходе, становясь почвой аксиологического осмысления своего пути. И хотя в реальной жизни поэт навсегда уезжает с Арбата еще в 1940 г., в его песнях последующих десятилетий именно этот хронотоп ложится в основу автобиографической мифологии: правда искусства оказывается весомее и убедительнее фактов эмпирической жизни. В целой группе стихотворений Окуджавы ритмы жизни арбатского двора, «удивительно соразмерного человеку» (М.Муравьев169), пребывают в тайном созвучии с поворотами судьбы лирического героя. В «Арбатском романсе» (1969) музыкальнопесенная история Арбата составляет аккомпанемент воспоминаниям о минувшей молодости, ее любовных восторгах. А в позднем стихотворении «В арбатском подъезде мне видятся дивные сцены…» (1996) внешне заурядное пространство подъезда московского дома насыщается богатым эмоциональным смыслом, воскрешая в памяти переживания юности. 168 О категории пути в творческом сознании Окуджавы см.: Клинг О.А. «… Дальняя дорога дана тебе судьбой…»: Мифологема пути в лирике Б.Окуджавы // Вопросы литературы. 2002. май – июнь. С.43-57. 169 Муравьев М. Седьмая строка // Мир Высоцкого. Вып.II. М.,1998. С.448-461. 82 В стихотворении «Улица моей любви» (1964), где создается собирательный образ города молодости, пространство подъездов осознано как сокровенная часть городского мира, наделенная своим – общим с поэтом – тайным языком: «Но останется в подъездах // тихий заговор моих стихов…». Это заговор против бега времени и беспамятства. Однако у Окуджавы, как и в поэзии Цветаевой, московский мир – ось жизненного пути лирического «я» – таит в себе не только память о начале жизни, но и о раздумья ее неминуемом завершении. Хотя поначалу, до осознания трагической потери прежней, обжитой Москвы, у Окуджавы эта тема звучит не столь пронзительно, как в стихах Цветаевой, а скорее в общем контексте философских размышлений: Не мучьтесь понапрасну: всему своя пора. Траву взрастите – к осени сомнется. Вы начали прогулку с арбатского двора, к нему-то все, как видно, и вернется… В таких стихотворениях, как «Арбатский дворик» (1959), «Песенка об Арбате» (1959), «Речитатив» (1970), «Песенка о Сокольниках» (1964), из чувства глубинной сращенности внутреннего «я» героя – странника и поэта – с московской «почвой» произрастает осознание им осмысленности и неслучайности своего пути. В этом коренятся и истоки сквозной для Окуджавы мифологемы неизменного, циклического возвращения к Арбату на самых разных перепутьях судьбы. Как и в обращенных к дочери «московских» стихах Цветаевой, у Окуджавы сам «воздух арбатский», впитавший в себя память о давящей атмосфере репрессий, позволяет отцу передать сыну свой личностный опыт бытия в «страшном веке» и противостояния ему (посвященное сыну Антону стихотворение «Арбатское вдохновение, или воспоминания о детстве», 1980). В «Арбатском дворике» родное пространство воспринято и в качестве неиссякаемого источника жизненной теплоты и энергии, а в заключительной части «Песенки об Арбате» образ старинной московской улицы, сохраняя зримую конкретность, освобождается от эмпирической завершенности и устремляется в таинственную бесконечность – подобное сопряжение чувственного и мистического в образе города осуществлялось и в стихотворениях Цветаевой. Глубинная общность двух поэтов в осмыслении ими образа Москвы коренится в том, что в свое время каждому из них было суждено пережить боль оставления «своей Москвы», горечь «эмигрантства». Это обусловило трагедийную окрашенность их автобиографических мифов. В ранней «московской» поэзии Цветаевой постепенно начинает проступать предощущение ухода из родного дома в Трехпрудном, гибельной разлуки с ним. В 83 стихотворении « «Прости» волшебному дому» (1911) переживание «минут последних» в Трехпрудном, связанное с предстоящим замужеством, еще будто бы не чревато серьезными внутренними потрясениями. Однако в написанном спустя два года стихотворении «Ты, чьи сны еще непробудны…» (1913) хронотоп Трехпрудного, этого «мира невозвратного и чудного», органично сращенного с тканью цветаевских стихов, уже пророчески увиден на пороге катастрофы: Будет скоро тот мир погублен, Погляди на него тайком, Пока тополь еще не срублен И не продан еще наш дом. История распорядилась так, что воспетый Цветаевой мир «колокольного града» и впрямь оказался на грани полного уничтожения. В ее стихотворениях о Москве 1917-1922 гг. за явленной деформацией привычных реалий города, активизацией его темных сил, «подполья» ( «Чуть светает…», 1917) ощутимо осознание самой героиней собственной обреченности: смерть прежней Москвы напрямую ассоциируется в ряде случаев с уходом из жизни и ее поэта. Начало «окаменения» столицы становится очевидным в стихотворении «Над церковкой – голубые облака…» (1917). Привычные звуки, краски города теперь постепенно растворяются в энтропии революции, прежний колокольный звон, воплощавший музыкально-песенную гармонию, теперь поглощается царящим вокруг хаосом («Заблудился ты, кремлевский звон, // В этом ветреном лесу знамен»), а наступающий «вечный сон» Москвы оказывается равносильным близкой смерти. В состоящем из трех стихотворений цикле «Москве» (1917), сопрягая историю и современность, в далеком прошлом Цветаева находит примеры проявленной Москвой женской, материнской стойкости – в гордом противостоянии «Гришке-Вору», «презревшему закон сыновний Петру-Царю», наполеоновской армии… Здесь, как и в стихотворении «Над церковкой – голубые облака…», крушение знакомого мира, ввергнутого в новую смуту, раскрывается на уровне звуковых лейтмотивов, далеких теперь от прежней музыкальной гармонии («жидкий звон», «крик младенца», «рев коровы», «плеток свист»), причем в одном из стихотворений цикла особенно психологически убедительна форма прямого диалога героини с «плачущей» столицей, поверяющей ей свои страдания: – Где кресты твои святые? – Сбиты. – Где сыны твои, Москва? – Убиты. Разрушение привычного московского мира напрямую сопряжено для лирической героини с душевными терзаниями и материальными лишениями. Нищенское прозябание в «московский, чумной, девятнадцатый год» нашло отражение как в поэзии, так и в прозе 84 Цветаевой («Чердачное», «Мои службы»). В стихотворении «Чердачный дворец мой, дворцовый чердак…» (1919) противостояние искаженной, «красной Москве» выразилось на уровне конфликтной цветовой гаммы, в стремлении силой творческого воображения сберечь прежнюю «Москву – голубую!». Здесь, как и в ряде других стихотворений этого времени, потеря московской «почвы» все чаще обращает героиню к мысли о смерти («в Москве погребенная заживо») как результате невыносимой внутренней опустошенности («А была я когда-то цветами увенчана…», 1919, «Дом, в который не стучатся…», 1920, «Так из дому, гонимая тоской…», 1920). Трагизм мирочувствования цветаевской героини усиливается и тяжелейшей драмой отречения от родного города, в котором она видит стирание исторической памяти (цикл «Москве», 1922, «Площадь», 1922): Первородство – на сиротство! Не спокаюсь. Велико твое дородство: Отрекаюсь. В стихотворении «Площадь», тесно связанном со страшными реалиями революционного времени,170 картина Москвы приобретает характер символического обобщения гибели России: кремлевские башни, раньше составлявшие у Цветаевой часть сакрализованного пространства, теперь уподоблены «мачтам гиблых кораблей», а прежняя водная, живая стихия города обратилась в бесчувственный камень: «Ибо была – морем // Площадь, кремнем став…» (ср. образ «каменной советской Поварской» в стихотворении «Так, из дому, гонимая тоской…», 1920). В эмигрантской поэзии Цветаевой образ Москвы как бы отступает в даль «сирого морока» («В сиром воздухе загробном…», 1922), но на самом деле боль об утраченном городе уходит глубоко вовнутрь, лишь изредка прорываясь в лирическом голосе. В стихотворении «Рассвет на рельсах» (1922) образ «Москвы за шпалами» становится сердцевиной «восстанавливаемой» в памяти России, а в более позднем «Доме» (1931) собирательный образ дома, впитавшего в себя воспоминания о Трехпрудном, Тарусе, становится зеркалом душевной жизни лирической героини, мучительно переживающей «бездомье». В пору предсмертного возвращения на родину Цветаева все мучительнее ощущает непреодолимое отчуждение от изменившегося до неузнаваемости города, воспринимаемого теперь как место, «где людям не171 жить» («Не знаю, какая столица…», 1940). Если раньше «дивный град» был соразмерен бытию лирического «я», то теперь 170 171 См. об этом: Саакянц А.А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1999. С.297-298. Выделено М.Цветаевой. 85 поэт с горечью признается в том, что «первое желание, попав в Москву – выбраться из нее». Время исказило давние семейные связи со столицей, в цветаевских словах о которой все определеннее звучат ноты вызова: «Мы172 Москву – задарили. А она меня вышвыривает: извергает. И кто она такая, чтобы передо мной гордиться?». Крушение этого «первородства» оказалось в числе факторов, пролагавших путь к трагическому исходу судьбы поэта. Если в «московском тексте» Цветаевой утрата города была сопряжена с насильственным выхолащиванием его духа в пору революции и последующие десятилетия, то в стихах-песнях Окуджавы эмоциональное потрясение, вызванное разрушением старого Арбата, при первом приближении может показаться более локальным. Однако это разрушение обернулось в глазах поэта-певца гибелью целого мира, предвестием собственной смерти. Процесс постепенного уничтожения старого арбатского мира, начавшийся в первой половине 1960-х гг. со строительства Калининского проспекта и продолжившийся в 70-е сносом домов в арбатских переулках, завершился в 80-е гг. проектом «пешеходного» Арбата, выветрившим особую культурную ауру этого места, превращенного в длинный торговый ряд… Еще в 1921 г. в письме М.Волошину Цветаева так описывала искаженный облик Москвы, Арбата: «О Москве. Она чудовищна. Жировой нарост, гнойник. На Арбате 54 гастрономических магазина: дома извергают продовольствие… Голодных много, но они где-то по норам и трущобам, видимость блистательна…». Как и в стихотворениях Цветаевой, в песенной поэзии Окуджавы лирический сюжет потери «своей Москвы» развивается постепенно и имеет свою драматичную динамику. В его песнях 1960-х гг. Арбат еще живет полноценной жизнью, воплощая для лирического «я» целостность бытия и выступая хранителем самых сокровенных переживаний: автобиографический миф развертывается в иной, по сравнению с реальным миром, временной плоскости. Постепенное осознание смысла происходящего с городом приходит в окуджавскую поэзию на исходе 70-х гг. и становится особенно острым и болезненным в начале 80-х. В стихотворении «У Спаса на Кружке забыто наше детство…» (1979) уход прежней Москвы, знаменующий разрыв преемственных исторических связей, оскудение теплой человеческой связи с городом, рисуется пока в обобщенном, философско-элегическом плане: 172 Выделено М.Цветаевой. 86 Все меньше мест в Москве, где можно нам погреться, все больше мест в Москве, где пусто и темно… В «Арбатских напевах» (1982) происходит резкий перелом: впервые лирический герой говорит о своем «эмигрантстве» по отношению к Арбату и всей старой Москве, резко ощущая трагичнейший разрыв с родной стихией, свою затерянность в чуждом мире, который лишился былой слаженности и гармонии. Подобно героине цветаевского «Рассвета на рельсах», лирический герой стихотворения Окуджавы пристально «всматривается» в мир Москвы, «обжитые края», тщетно пытаясь уловить в этом мире знаки внутреннего постоянства. Само ощущение «эмигрантства», пронизывающее «московские тексты» обоих поэтов, под пером Окуджавы приобретает расширительный смысл: Я выселен с Арбата и прошлого лишен, и лик мой чужеземцам не страшен, а смешон. Я выдворен, затерян среди чужих судеб, и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. В стихах Окуджавы, как и в поэзии Цветаевой, «крест» расставания с «обжитыми краями» оказывается равносильным смерти. В стихотворении «Надпись на камне» (1982) сам феномен «арбатства» воплощает глубинную связь человека с органикой природного бытия: «Арбатство, растворенное в крови, // неистребимо, как сама природа…». Раздумья об утрачиваемой арбатской «почве» приобретают здесь экзистенциальный смысл. С предельной четкостью поэт обозначает мистическую нераздельность дальнейшей судьбы родного двора и отпущенного ему самому времени земной жизни: Когда его не станет – я умру, пока он есть – я властен над судьбою. Завершающая часть «московского текста» Окуджавы прозвучала по сути как реквием об ушедшем из реальности и осевшем в пространстве памяти миру. Миру города, который в прошлом разделил с лирическим «я» радость великой Победы, подарив воодушевляющее чувство осмысленности бытия («Воспоминание о Дне Победы», 1988): Живые бросились к живым, и было правдой это, Любили женщину одну – она звалась Победа. Казалось всем, что всяк уже навек отгоревал В те дни, когда в Москве еще Арбат существовал. Как и у Цветаевой, на образном уровне конец прежнего города ассоциируется в поэзии Окуджавы с оскудением его животворящего водного начала, которое было широко явлено в его ранних стихах: «Арбата больше нет: растаял, словно свеченька, // весь вытек, будто реченька; осталась только Сретенка…» («Арбата больше нет…»). 87 Эпилог «московского текста» Окуджавы глубоко трагичен – как и у Цветаевой, он сопряжен с переживанием изверженности из родной стихии: Лучше безумствовать в черной тоске, Чем от прохожих глаза свои спрятать. Лучше в Варшаве грустить по Москве, Чем на Арбате по прошлому плакать. По замечательной мысли М.Муравьева, сбылось предсказание, прозвучавшее когда-то в «Арбатском дворике»: «… поэт и его двор ушли вместе. Но не поэт унес свой двор, а двор унес своего поэта…».173 Итак, при всей индивидуальности творческих стилей Цветаевой и Окуджавы, сотворенные ими «московские тексты» могут быть восприняты в теснейшей смысловой, хронотопической сопряженности, рассмотрены как типологически соотнесенные между собой пути художественного постижения конкретного и мистического бытия Москвы, России в исторической перспективе. Внимание обоих поэтов направлено на духовные опоры жизни города как большой человеческой общности, на соприкосновение в нем природного и рукотворного начал. Москва в произведениях Цветаевой и Окуджавы стала основой грандиозного художественного обобщения о целых эпохах отечественной истории и культуры XX столетия, о судьбах поэтов прошлого и настоящего. И в то же время художественный образ родного для обоих авторов городского пространства стал краеугольным камнем их трагедийных автобиографических мифов – о коллизиях жизненного пути в испытаниях «страшного века», об онтологическом единстве с городом в рождении и смерти, о трагедии «оставления» «своей Москвы». В одном из стихотворений Цветаевой, вышедших из-под ее пера в разгар революции, возникла симптоматичная ассоциация Москвы с горькой судьбиной России грядущего века. А ведь созданный ею и Окуджавой миф о Москве и впрямь позволяет приблизиться к пониманию национального сознания XX столетия – в его трагической разорванности, но и отчаянной жаждой духовной полноты. 173 Муравьев М. Указ. соч. 88 II. «Штопаем раны разлуки серою ниткой дорог...». Юрий Визбор 1. Типология жанровых форм в песенной поэзии Визбора Творческое дарование Юрия Иосифовича Визбора (1934 – 1984) – поэта, певца, журналиста, изъездившего всю страну, актера, киносценариста, прозаика, драматурга, художника – было весьма многогранным. Это многообразие выразилось и на уровне жанрового мышления Визбора как поэта. Исследователями авторской песни многократно отмечалось ее тяготение к жанровородовому синтезу, обусловившему уникальное место этого явления в песеннопоэтической культуре. Очевидно, что каждый из бардов по-своему художественно осваивал жанровую систему поэзии, более того, сама категория жанра оказывается весьма существенной в творческом сознании многих из них. В 1966 г. в одном из интервью А.Галич, имея в виду произведения Ю.Визбора, М.Анчарова, Ю.Кима, А.Городницкого и др., указывал на соединение во многих из них признаков различных литературных родов и предлагал жанровые определения песен, весьма продуктивные для последующего уяснения их эстетической природы: «Посмотрите, очень многие из этих сочинений заключают в себе точный сюжет, практически перед нами короткие новеллы или даже новеллы-драмы, новеллы-повести, новеллы-притчи и сатиры».174 Примечательно, что и сам Визбор в своих выступлениях, интервью обращал немалое внимание на жанрово-тематическую сторону бардовской поэзии. Обобщая свои наблюдения над творческими исканиями современных ему бардов, он выделяет основные жанровые тенденции, в русле которых развивалась «самодеятельная песня», в том числе и его собственная поэзия: «… песня – размышление, диалог, монолог, рассказ, пейзаж. Из этой песни образовался новый жанр журналистики – песня-репортаж».175 И у Галича, и в размышлениях Визбора обозначается содержательно-формальное единство в подходе к определению жанровой специфики авторской песни: проблемно-тематический уровень осознается в комплексе с сюжетно-композиционной организацией произведения, сферами его бытования. Кроме того, развитие тех или иных жанровых тенденций сопряжено и с социокультурной мотивацией. Так, поначалу туристские походы, общение у костра становятся «организационными формами» песенного творчества.176 Как отмечал Визбор, 174 Галич А.А. Дни бегут, как часы: Песни, стихотворения. М., 2000. С.145. Тексты произведений Ю.Визбора цитируются по изд.: Визбор Ю.И. Сочинения. В 3 т. М., Локид-Пресс, 2001. 176 Савченко Б.А. Авторская песня. М.,1987. 175 89 именно студенческие, туристские «песни в свитере» «для своих», устранявшие непроходимую границу между певцом и слушательской аудиторией, в послевоенные годы заполняли вакуум, возникший между уходящей в прошлое военной песней и «громким массовым пением на демонстрациях и площадях», далеким от непринужденного межличностного общения. Сам Визбор начинал с этих, в общем, незамысловатых жанров, в которых изобразительное начало преобладало на раннем этапе над выразительным. Имея в виду прежде всего его «студенческие» песни, Л.А.Аннинский писал даже о том, что ими Визбор «дал своему поколению голос, дал жанр».177 В более позднем творчестве 1960-80-х гг. поэт-певец все чаще экспериментирует на стыке различных жанрово-родовых форм, создавая песни-портреты, образцы «ролевой» лирики, песни-диалоги с отчетливо выраженным драматургическим началом. В этой связи важно учесть, что в теории литературы не раз были отмечены синтезирующие качества лирики как литературного рода: она вбирает в себя и «медитативную», и «персонажную», и «повествовательную» разновидности, активно взаимодействуя с эпосом и драмой.178 В бардовской поэзии эти возможности лирического рода нашли свое оригинальное воплощение. Исследователями предпринимались отдельные шаги по изучению жанровой системы песенной поэзии Ю.Визбора.179 Так, в книге И.А.Соколовой особенно ценны наблюдения, касающиеся генезиса песенного творчества Визбора, традицией, его связей с фольклорной песнями военных лет. Для нас же первостепенно значимо подробное рассмотрение самих поэтических текстов Визбора как одного из центральных явлений лирико-романтической ветви авторской песни, их осмысление в аспекте родовой, жанрово-тематической и стилевой типологии. В ранней поэзии Визбора значительное место занимают во многом романтичные по духу песни-путешествия, пейзажные лирические зарисовки. Среди ярких песен-путешествий стоит выделить такие произведения, как «Мадагаскар» (1952), «Волчьи ворота» (1961), «Абакан – Тайшет» (1962), «Хамар – Дабан» (1962), «Милая моя» (1973) и др. Раннюю песню «Мадагаскар» Визбор в начале 1980-х гг. не без самоиронии назовет «суперр-р-романтическим произведением», ставшим «бесхитростной данью увлечению Киплингом». Однако ее стилистика, экзотический колорит были весьма 177 Аннинский Л.А. Барды… С.40. Поспелов Г.Н. Лирика среди литературных родов. М.,1976; Хализев В.Е. Теория литературы. М.,1999. С.308-316. 179 Соколова И.А. И Визбор – первый // Соколова И.А. Авторская песня: от фольклора к поэзии… С. 177193.; Андреев Ю.А. Наша авторская… М.,1991. С.114; Савченко Б.А. Указ. соч. 178 90 характерны для авторской песни того периода, с присущей ей романтикой путешествий, безграничного познания мира, порожденной, по справедливой мысли исследователя, раскрепощающей атмосферой оттепельной эпохи.180 В этой песне-беседе важны повторяющиеся обращения героя к другу-спутнику, сам фантастический образ «страны Мадаскар», выступающий прежде всего как воплощение не конкретного пространства, но таинственного и непознанного бытия в целом. Позднее хронотоп визборовских песенпутешествий обретает более определенные черты, все большую смысловую насыщенность получает мотив пути. В «Волчьих воротах» на первый план выступает родная для поэта стихия горного мира в ее как романтической окрашенности, так и в тесной связи с психологической детализацией самых разнообразных межличностных отношений. Субъектом переживания в этом поэтическом путевом очерке о преодолении горного перевала становится лирическое «мы», вбирающее в себя душевную жизнь путников, для которых открытие «высокой тропы» скалы ассоциируется с путем к познанию прихотливых изгибов собственной судьбы, ценности дружеской сплоченности: «Мы прошли через многие беды, // Через эти ворота прошли…». В языке стихотворения достигается парадоксальное сочетание точной изобразительности и бытийной обобщенности, привносящей элементы философской элегии: Снова ветры нас горные сушат, Выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души За одно откровенье вершин. Элегическая тональность присутствует и в известных «туристских» песнях Визбора «Милая моя», «Осенние дожди». В «Осенних дождях» (1970) явленная в бытовых деталях романтика походного мироощущения (гитара, «набитый картошкой старый рюкзак») влечет к раздумьям о непреходящих ценностях бытия: Видно, нечего нам больше скрывать, Все нам вспомнится на Страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, За которым исполненье надежд. Песня «Милая моя» воплотила особую жанровую разновидность «песни у костра». Сам образ горящего огня, воплощающего тепло человеческой привязанности, возникает в первой и заключительной строфах, сопрягая воедино время похода и масштаб целой жизни героя, а бесхитростная на первый взгляд путевая зарисовка перерастает во взволнованное лирическое послание: Не утешайте меня, мне слова не нужны, 180 Соколова И.А. Авторская песня: от экзотики к утопии // Вопросы литературы. 2002. янв.-февр.С.139-156. 91 Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны – Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня, Вдруг у огня ожидают, представьте, меня! Вместе с тем «путевые» песни Визбора приближались не только к элегическому, медитативному типу лирики, но нередко характеризовались мажорным эмоциональным настроем, маршевой ритмикой, созвучной самому процессу пешего продвижения, – как, например, в «Абакан – Тайшете», «Хамар – Дабане» и др. Вчувствование в романтику горного пространства соединяется здесь с радостными обращениями к окружающему миру, а нелегкая дорога призвана выразить полноту внутренних сил, душевной и физической бодрости: «И дорога, словно сам ты, // Рубит мощь любой стены». На тематическом и стилевом уровнях близки к рассматриваемой жанровой группе и «студенческие» песни Визбора («Гимн МГПИ», 1953, «Вьется речкой синей лентой…», 1954 и др.). Радостное переживание молодости, студенческого братства часто связано в них с рефлексией о значимости коллективного песенного творчества («с песней кончил день ты», «так поют студенты», «молодость поет»), об открывающихся далях жизненного пути после институтской скамьи: «Институт подпишет последний приказ: // Дали Забайкалья, Сахалин или Кавказ…». Органичное родство с фольклорной культурой обнаруживается в поэзии Визбора не только в так называемых «кружковых»181 – «студенческих» и «туристских» песнях, с которыми генетически была связана бардовская поэзия, но и в восходящих к рабочему (трудовому) фольклору «профессиональных» песнях («Песня альпинистов», «Остров сокровищ», «Песня лесорубов» и др.). Как отмечают исследователи, на поздней стадии развития фольклора рабочие песни, утрачивая непосредственную связь с трудовым процессом, «входят в состав необрядовых лирических».182 У Визбора подобные произведения лишь иногда сопряжены напрямую с самим процессом профессиональной деятельности (как в «Песне альпинистов») – чаще всего эти песни, имеющие разнообразную систему персонажей и напряженную сюжетную динамику, построены как коллективный, лирически проникновенный рассказ о творческом смысле, радостях и нелегких испытаниях профессионального призвания. Нашла отражение в поэтическом творчестве Визбора и традиция армейского фольклора, солдатских песен («Песня о подводниках», «Песня о североморцах» и др.). Как и в фольклорных воинских песнях, в походной песне «Учения» (1956) 181 182 Соколова И.А. Авторская песня: от фольклора к поэзии… С.127. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. М., 2001.С.61. 92 стилеобразующую роль играют традиционные образы крестьянской поэзии:183 «Заката зорька чистая // Темнеет по краям. // Сторонушка лесистая, // Сторонушка моя». В поэзии Визбора 1950-1960-х гг. в качестве самостоятельного жанрового образования выступают песни-пейзажи, лирические пейзажные зарисовки, в которых различимы ростки и иных жанров. Поэтические пейзажи Визбора чаще всего запечатлевают неординарные проявления природного мира и сопряжены с переживаниями лирического «я», осмыслением им этапов собственного пути («Где небо состоит из тьмы и снега…», «Старые ели», «Снегопад», «Синие горы» и др.). Особое, заветное пристрастие поэта – это мир Севера, атмосфера гор, и даже в лирических зарисовках средней полосы у Визбора возникают подчас «северные» ассоциации («Подмосковная», 1960). В раннем стихотворении «Где небо состоит из тьмы и снега…» (1952) в творческой памяти героя сохраняется мозаика увиденных и глубоко прочувствованных когда-то картин экзотической природы – текст выстраивается как своеобразное «пунктирное» припоминание пейзажных образов, неотделимых от личностных чувств самого героя и близких ему людей: Забытый кош в туманной Гвандре где-то, На ледниках – пустые диски мин. Большую Марку в золоте рассвета. Большую дружбу сорока восьми. Постепенно художественная ткань пейзажных стихотворений Визбора все активнее вбирает в себя сюжетно-повествовательные и драматические элементы. В «Старых елях» (1953) развернутый образ природы выступает в качестве экспозиции к выражению любовных переживаний лирического «я», а в сопоставлении зимней и весенней поры раскрываются как неумирающие циклы бытия Вселенной, так и ритмы межчеловеческих отношений. Кульминационным становится здесь исполненное драматизма воспоминание о событиях далекого весеннего вечера («В роще весенней, // В чаще сирени // Ты шепнула мне: «Не вернусь!»»): щедрая описательность таит в себе напряженную сюжетную динамику, сводящую воедино различные периоды человеческой жизни. Драматизация пейзажных стихотворений Визбора обусловлена ориентацией лирического героя на диалог со спутником, слушателем, собеседником при открытии глубины природного бытия, на множественность субъектов восприятия изображаемой картины мира. В «Карельском вальсе» (1954) важна атмосфера доверительной беседы с оставшимся «за кадром» спутником о преподанном нелегкой северной природой уроке «верности без слов», о символической насыщенности образа «далей карельских озер». 183 Аникин В.П. Указ. соч. С.408. 93 Характерная для стихов-песен Визбора точная топонимика выполняет существенную контактоустанавливающую функцию, будучи призванной изобразить в произведении близкое, обжитое, лично знакомое собеседнику жизненное пространство: Дали карельских озер Будут нам часто сниться, Юности нашей простор В далях этих озер. В стихотворении же «Кичкинекол» (1954) художественный эффект множественности точек зрения на мир достигается за счет того, что статус «действующих лиц», общающихся с героем, обретают и скалы («Здесь рассматривают скалы // Отдаленные края»), и многочисленные горные перевалы, которые в «странствиях грядущих» лирического «я» «вечно светят, как маяк»… В диалогическом соприкосновении взглядов на сокровенную для поэта стихию гор извне и изнутри рождается полнота восприятия этого мира со сквозящим в нем дыханием вечности, близостью неба и земли, яркой цветовой палитрой. Позднее подобная множественность субъектов восприятия проявится у Визбора в его знаменитых песнях-диалогах, а в пейзажных зарисовках выделение голоса лирического «я» часто происходит благодаря рефренам, привносящим элементы песенной композиции и способствующим обогащению интонационного рисунка. Песенномузыкальное начало нередко проступает у Визбора, как у Окуджавы, и в ряде «жанровых» названий его произведений: «Песня об осени», «Песня о подводниках», «Романс», «Вечерняя песня», «Переделкинский вальс» и др. Мажорные рефрены присутствуют и в рассмотренном «Кичкинеколе», и в стихотворении «Синие горы» (1956). В последнем осуществляется скрытый диалог лирического «я» и с горами, внимающими тому, как «звенели гитар переборы», и с далеким другом, возлюбленной. В свернутом виде здесь присутствует рефлексия о роли «самодеятельной», «гитарной» песни в душевной жизни человека, его общении с миром – рефлексия, ярко выразившаяся не только в поэзии, но и в художественной, публицистической прозе Визбора. В этом, а также в более поздних стихотворениях («Снегопад», 1966, «Ночная дорога», 1973, «Передо мною горы и река…», 1978) изображение природного мира все определеннее приобретает черты философского пейзажа. Так, в «Снегопаде» глубокое общение с собеседником постепенно перерастает в осмысление вселенского смысла созерцаемого горного мира, а сила творческого воображения позволяет ощутить бытийную, довременную сопряженность человека с этим многовековым природным космосом: И снегопад на белом свете, снегопад, Просыпаются столетия в снегу. 94 Где дорога, а где мелкая тропа, Разобрать я в снегопаде не могу. И ты представь, что не лежит вдали Москва И не создан до сих пор еще Коран – В мире есть два одиноких существа: Человек и эта белая гора. В стихотворениях «Ночная дорога», «Передо мною горы и река…» прорастающая из философского пейзажа лирическая медитация соединяет конкретный и символический планы изображения. В первом из них в заурядных путевых впечатлениях угадывается песенно-поэтическое начало («ночная песня шин»), а сам образ дороги наполняется глубоким жизненным смыслом: «Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог // Штопаем ранения души…». Характерно, что философские размышления облекаются здесь в незатейливую речевую форму – житейского разговора, неторопливых раздумий вслух, увенчанных афористичным итогом: «Нет дороге окончанья, есть зато ее итог: // Дороги трудны, но хуже без дорог». Вообще в песенной поэзии Визбора раздумья о судьбе, смысле жизненного пути всегда интегрированы в конкретную практику бытового общения, что безусловно находит отражение на жанрово-речевом уровне. В его лирических пейзажах, начиная с ранних, различимы элементы тех жанров, которые впоследствии получат самостоятельное художественное воплощение: дружеское, любовное послание, философская элегия, лирическая исповедь, песенная мининовелла, песня-диалог и др. С пейзажными зарисовками напрямую связаны у Визбора и разнообразные в жанровом отношении философские стихотворения-песни: философские элегии, поэтические воспоминания, лирическая исповедь. Во многих визборовских песнях философское начало оказывается неотделимым от бытовой конкретики изображения, простых житейских «случаев», увиденных порой в юмористическом свете. В «Песне о счастье» (1955) осмысление «проблемы счастья» происходит в житейских, полушуточных разговорах героя с разными людьми: на композиционном уровне в стихотворении возникает цепочка связанных между собой минисюжетов. Именно в непосредственном, диалогическом общении в художественном мире Визбора рождается новое знание о мире, о тайной гармонии всего сущего. В более позднем стихотворении «Струна и кисть» (1981) философские раздумья о юности и зрелости, о переходе человека от упоения миражами начальной поры жизни к отрезвляющему восприятию мира личностных переживаний, природы, творчества 95 сплавлены с напряженной рефлексией о прожитом, с формой поэтических воспоминаний, которые предстают как афористично выраженная житейская мудрость: А в юности куда нас ни несло! В какие мы ни забредали воды! Но время громких свадеб истекло, Сменившись гордым временем разводов. Вообще поэтические воспоминания имеют в поэзии Визбора не только индивидуальный, но и широкий социально-исторический смысл. Это может быть как романтически обрисованное легендарное прошлое («Давным-давно», 1963), так и переломные эпизоды минувшей войны, национальная память о которой осознается как высокая ценность в стихотворении «Помни войну» (1970). Весьма разноплановы у Визбора и художественные формы лирической исповеди. Здесь почти никогда не встречаются лирические медитации в чистом виде, вне соотнесенности с определенными «сюжетами» жизни. Его исповедальные стихотворения, органично сочетающие возвышенную стилистику с разговорно-повседневными выражениями речи и характеризующиеся богатством изобразительного плана, чаще всего на содержательном уровне связаны, во-первых, с конкретными поворотами судьбы лирического «я», а, вовторых, с размышлениями о различных профессиональных призваниях героев. В стихотворениях «Москва святая» (1963), «Тост за Женьку» (1965) лирический герой погружен в раздумья о пройденных дорогах жизни. Первое из них выдержано в торжественной интонации, которая естественно совмещена здесь с формой неторопливого рассказа бывалого человека: «Я бродил по Заполярью, // Спал в сугробах, жил во льду, // Забредал в такие дали, // Что казалось – пропаду». Обращаясь к «Москве святой», герой стремится поведать ей о своих странствиях по огромной стране и о тех духовных ориентирах, которые удалось сохранить неизменными на самых разных этапах жизни. Сокровенное родство поэта-певца с городом подчеркивается возникающими в конце стихотворения песенными ассоциациями: Ты не просто город где-то, Ты видна в любой ночи – Развезли тебя по свету, Словно песню, москвичи. Иными путями выражено исповедальное начало в «Тосте за Женьку». Пронзительное в своей горечи и одновременно упоении испытанным некогда счастьем откровение лирического «я» о «непутевых путях» жизни, о тяжело переживаемой им любовной драме неожиданно облекается в жанр бытовой речи – тост, произносимый за дружеским застольем. В данном стихотворении, как впоследствии в песенных репортажах Визбора, 96 жанр нехудожественной речи оригинально используется для решения художественных задач, что создает эффект прорастания всего содержания из гущи обыденного, житейского существования героя. Напряженность психологической атмосферы передается здесь присутствием драматургических элементов: история жизни полнее раскрывается благодаря диалогической ткани произведения (разговор с приятелями), в компактной «сценке», позволяющей ощутить душевное состояние лирического «я». При этом завершающие строки выполняют функцию своеобразных «ремарок», дорисовывающих итоговые штрихи созданного психологического портрета: По привычке нахмурясь, Я вышел из прошлого прочь… Гостиница «Арктика», Мурманск. Глухая полярная ночь. Соотнесенность философских, исповедальных мотивов с ритмами повседневной жизни проявилась у Визбора и в том, что лирическая исповедь часто оказывается тесно связанной с творческим проникновением в смысл той или иной профессиональной деятельности персонажа. Исповедь художника, поэта-певца образует стержень «Песни о песне» (1977). Рассказ творца о прорастании песенного «мотива» из самых разноплановых впечатлений – от восторженного созерцания лыжников, «летящих по снегу», до сострадания «человеку, у которого на сердце болит», – предстает здесь в виде игровой импровизации, мозаики сменяющих друг друга сюжетных зарисовок, каждая из которых дополняет другую, занимая подобающее место в рождающейся песне. Иногда лирический герой Визбора делится своим восприятием бытия, как бы проникая изнутри в смысл и иных профессий, что получит воплощение в особом жанре его песенной поэзии – «ролевых» песнях. В написанном от лица летчика стихотворении «Ночной полет» (1964) в символическом образе «ночного полета – полночного разговора», требующего максимальной внутренней сосредоточенности, проступают раздумья героя о нелегких испытаниях судьбы, которые пробуждают в нем жажду бесконечного постижения бытия: А я не сплю. Благодарю Свою судьбу за эту муку, За то, что жизнь я подарю Ночным полетам и разлукам. А в стихотворении «Я бы новую жизнь своровал бы, как вор…» (1968) творческому воображению лирического «я» рисуются его потенциальные жизненные пути, профессии (летчик, врач, астроном), в каждой из которых для него ценно ощущение своей причастности «пульсу» бытия окружающего мира. Самораскрытие лирического героя 97 Визбора и здесь непредставимо вне динамичной «сюжетности» жизни, вне разнообразнейшей практики межличностного общения. Развитие получил в поэзии Визбора и жанр философской элегии, сформировавшийся во многом на почве еще ранних пейзажных зарисовок. Характерными образцами жанра могут служить стихотворения «Речной трамвай» (1976), «Памяти ушедших» (1978), «Есть в Родине моей такая грусть…» (1978), «Передо мною горы и река…» (1978) и др. В будничном течении жизни герой названных и ряда других стихотворений стремится к углубленному проникновению в таинственное измерение судьбы. В движении речного трамвая, в тягостном переживании ухода близких людей он острее ощущает временность земной жизни, «взятой взаймы», необходимость приобщения к вечности и «тайне мироздания». При этом общий эмоциональный фон элегий Визбора порой родственен своей «светлой грустью», которая «душе не тяжела», тональности зрелой философской лирики Пушкина: особенно важны образные и смысловые параллели стихотворений «На холмах Грузии…» и «Передо мною горы и леса…». Поэт-певец угадывает в памяти о возлюбленной «тайное предчувствие бессмертья», высокие устремления своей души, а в близком ему по духу горном пейзаже («Я молча, как вершина, протыкаю // всех этих дней сплошные облака…») он находит приметы высшей согласованности сфер природного бытия, родства человеческих душ: Мой друг! Я не могу тебя забыть. Господь соединил хребты и воды, Пустынь и льдов различные природы, Вершины гор соединил с восходом И нас с тобой, мой друг, соединил. Жанровая система поэзии Визбора связана и с фольклорной, романсовой традицией.184 Из выделяемых фольклористами жанровых разновидностей песен-романсов (любовные и элегические, романсовые песни-баллады на исторические темы, песни-романсы о бытовых происшествиях, шуточные, иронические, а также «жестокие» романсы185) в творчестве Визбора особенно интенсивное развитие получили романсовые песни любовно-элегического склада, тесно связанные с ними любовные, дружеские послания и художественно переосмысленные «жестокие» романсы. Что же касается песен о бытовых происшествиях, то они чаще всего приобретают в творчестве поэта-барда жанровые очертания либо поэтической мининовеллы, либо «сценки». Стилистически близкие к народным романсам визборовские стихотворения любовноэлегического содержания нередко построены на художественном параллелизме жизни природы и судеб героев. В «Романсе» (1971) возникает иносказательный образ 184 185 См. Соколова И.А. Авторская песня… С.188 и др. Аникин В.П. Указ. соч. С.641-674. 98 возлюбленной – «загадочной птицы», сопровождающей героя в его плавании по житейскому морю в сторону «печальных берегов седого ноября». Здесь важны созвучные народным песням лейтмотивы,186 а пейзажные образы насыщаются символическим смыслом, обретают нередко магическую, сказочную окраску, несут вещие предзнаменования: «Синий вечер два окна стерегут, // В черной просеке две сказки живут». Зима, туманы, «ночи черные», «злые снега», метели сопряжены в таких стихотворениях, как «Зимний вечер синий…» (1958), «Вечерняя песня» (1958), «Зимняя песня» (1961), «Разлука» (1958) «Синие снега» (1959), с переживанием разлуки, с тоской по любимой, сам образ вырисовывается посредством отдельных штрихов, полунамеков, что усиливает ощущение таинственной невыразимости и невысказанного драматизма душевного состояния героя. Природный мир часто окрашен здесь в сказочные, даже неземные тона, а его поэтичность смягчает душевную тревогу лирического «я», навевая на него творческое вдохновение, – неслучайно сквозным становится в этих стихотворениях образ творимой человеком песни: С крыши ночь зарю снимает И спускается с небес. Эта песня, понимаешь, Посвящается тебе! Весьма распространена у Визбора жанровая форма лирического – любовного или дружеского – послания («Я думаю о вас», 1970, «Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь…», 1973, «Заканчивай, приятель, ночевать…», 1964, «Да обойдут тебя лавины…», 1964 и др.). Любовные послания психологических Визбора оттенков, примечательны сложным типом прежде авторской всего разнообразием эмоциональности. В стихотворении «Я думаю о вас» мысленное признание в любви, размышления о поэзии внутренних переживаний «помещены» в прозаическую, будничную обстановку «полного купе». Легкий юмор («в данном случае бездельничаю – жуть!»), тонкая ирония над собой и возлюбленной, разговорные интонации («ну а я…», «я-то думал…») пронизывают авторскую речь, придавая ей характер бесхитростного, неприкрашенного рассказа о себе, о месте любви в человеческих судьбах: Люди заняты исканием дорог, Люди целятся ракетой в лунный рог, Люди ищут настоящие слова, Ну а я лежу и думаю о вас… В стихотворении «А мы уходим в эти горы…» (1969-1971) размышление об испытаниях любви окрашено в тона легкого юмора, в котором просматриваются, однако, 186 Аникин В.П. Указ. соч. С.538, 549-55. 99 и житейская мудрость, и стимулируемое любовным чувством стремление к бесконечному познанию мира – того, «какая видится тревога, // Какие пишутся стихи, // Какая ночь висит над миром // И чем наполнена луна…». Эта особая стихия «легкости» гармонирует с возникающей в первой строфе реминисценцией из выдержанного в сходном стиле пушкинского любовного послания «Подъезжая под Ижоры…» (1829): А мы уходим в эти горы, На самый верх, на небеса, Чтобы забыть про ваши взоры, Про ваши синие глаза. Любовное переживание в поэзии Визбора расширяет горизонты творчески воспринимаемого мира, окрашивая собой родные для поэта пространства гор, «дальних стран», а единственность возлюбленной сродни уникальности каждого из явлений природного бытия. Так, в стихотворении «Ты у меня одна» (1964) фольклорное начало ощутимо на уровне композиции, организованной, как и в народных песнях, путем «сцепления образов по психологической ассоциации»,187 переданного синтаксическими параллелизмами: Ты у меня одна, Словно в ночи луна, Словно в году весна, Словно в степи сосна. Нету другой такой Ни за какой рекой, Нет за туманами, Дальними странами. Считавший для себя народную песню «единственной музыкальной школой», «простейшей формой музыкального самовыражения»,188 Визбор порой исполнял написанные «на случай» песни, используя фольклорные мелодии («Слеза», «Андрюха», «В.Копалину», «Э.Климову», «Аркаше»). Показательный пример – сочиненная к институтскому капустнику «Слеза» (1954), где явлены неограниченные возможности подлинно актерского вживания поэта-певца в образность «исходной народной песни». Существенно у Визбора и переосмысление традиционных свойств «жестокого» романса, с характерной для данного жанра «передачей сюжетных коллизий в драматической и трагической трактовке».189 В произведениях же поэта-барда, как и в 187 Аникин В.П. Указ. соч. С.552. Визбор Ю.И. Указ. соч. Т.3.С.355-356. 189 Аникин В.П. Указ. соч. С.654. 188 100 фольклорных «песнях новой формации»,190 этот жанр приобретает трагикомическую окраску, позволяющую разнообразить его эмоциональное содержание. В стихотворении «Жак Лондрей» (1958) изображение гибели героя – Дон Жуана от рук «родной жены», памятника ему на «шикарном пляже» сочетает драматические и комические элементы, а общий юмористический тон повествования, особенно ярко дающий о себе знать в рефренах, значительно смягчает трагизм сюжетной развязки. В «Бригитте» (1966) напряженные любовные страдания лирического «я», переживание им всеобъемлющей драмы («Паруса мои пробиты // Бомбардиршами любви») сплавлены с нотами самоиронии, а комический поворот темы вызван почти сценической эксцентрикой поведения героя. Неслучайно, кстати, именно исполнение произведений известных поэтов-бардов становится в этом «миниспектакле» наиболее ярким способом эмоционального самовыражения персонажа: Я несусь куда-то мимо И с похмелья поутру Городницкого и Кима Песни громкие ору… Запечатлелась в творческой памяти поэта-певца и традиция городского фольклора, связанная с «дворовыми», «уличными» песнями, в значительной мере отразившими мироощущение послевоенного поколения и широко представленными в исполнительском репертуаре прочих бардов.191 Демократичный, неподцензурный дух этих песен присущ таким оригинальным визборовским произведениям, как «Охотный ряд» (1960), «Серега Санин» (1965), «Сретенский двор» (1970) и особенно «Волейбол на Сретенке» (1983), где непарадный хронотоп «униформы московских окраин» заключает в себе масштаб жизненного пути героя и его современников. Емкое песенно-разговорное слово, прочувствованно передающее настрой «на войну опоздавшей юности», воскрешает голос поколения, вдохновленного звуками «радиолы во дворах». В «Волейболе на Сретенке» этот голос сплавлен с личностными, порой мелодраматичными раздумьями повествователя о судьбах выходцев их дворовой, до боли знакомой полублатной среды: Да, уходит наше поколение – Рудиментом в нынешних мирах, Словно полужесткие крепления Или радиолы во дворах. 190 В.П.Аникин выделяет особый «жанровый подтип шуточного романса с иронической трактовкой темы», распространившийся среди песен новой формации, которые свидетельствуют об изменении фольклорной традиции, в том числе и на уровне жанровой системы: Аникин В.П. Указ. соч. С.673. 191 Соколова И.А. Авторская песня… С.118. 101 Таким образом, обогащение жанровой палитры песенного творчества Визбора достигалось как в творческом взаимодействии с формами народной поэзии, так и в их новаторском переосмыслении, видоизменении традиционных жанровых образований. В жанровой системе поэзии Визбора отчетливо обнаруживается ее синтетическая – лироэпическая природа. Проникновение во внутренний мир лирического «я» соединено здесь с объемными картинами окружающего – природного и человеческого – бытия. Обращает на себя внимание художественная разработанность персонажной сферы, немалое число многомерных характеров, вполне самостоятельных по отношению к авторскому «я» и отличающихся личностной, социальной, профессиональной определенностью. Особое место занимает у Визбора жанр песни-портрета. Чаще всего речь идет либо о психологических портретах представителей различных профессий, либо о портретах «географических», изображающих неповторимую индивидуальность дорогих поэту мест. «Профессиональные» песенные портреты Визбора, иногда содержащие элементы журналистской зарисовки, весьма разнообразны с точки зрения композиционных форм, стилистики. Индивидуальный облик героя запечатлен в них в неразрывной связи с той собирательной, профессиональной общностью, представителем которой он выступает. Один из ранних «портретов» такого рода – стихотворение «Парень из Кентукки» (1953). Центральным становится в нем образ молодого военного летчика, чья жизнерадостность передана легкими, разговорными интонациями как его собственной речи, так и лирического повествования о нем: «дул в бейсбол, зевал над книжкой», «песню пел, что всем знакома». Внутренняя динамика этого портрета связана с остротой сюжетного напряжения, которое рождается из соотношения бодрых, напевных интонаций главной части и трагической развязки. Художественное единство произведения основано на эффекте песенного многоголосия: рассказ о боевом братстве, трагической судьбе «парня из Кентукки» звучит из уст самого героя, повествователя, и, кроме того, к этому рассказу оказывается причастной и природа, отзывающаяся на звуки любимой песни персонажа: «И разносит песню ветер // По всему аэродрому: // «О как ярко солнце светит // У меня в Кентукки дома!»». Юмористическая насыщенность рассказа о будничных сложностях профессии важна в стихотворении «Веселый репортер» (1958), где происходит актерское вживание автора в тип сознания героя. При этом если в первых трех строфах голоса повествователя и персонажа звучали по отдельности, то в заключительной части в метких характеристиках репортера, готового даже «взять у черта интервью», наблюдается максимальная близость этих голосов. 102 В целом ряде стихотворений рисуются и серьезные, подчас пронизанные бытийными мотивами психологические портреты людей, проявляющих себя в самых разных профессиональных призваниях («Командир подлодки», 1963, «Стармех», 1965, «Горнолыжник», 1966 и др.), а иногда возникает даже целая цепочка портретов современников, в чьих жизненных путях по-разному отразилась общая для послевоенного поколения драматичная судьба («Волейбол на Сретенке», 1983). В «Командире подлодки» изображение психологического облика героя складывается из отдельных, метко схваченных повествователем жестовых деталей – более того, сам рассказ начинается с фиксации непосредственного и, казалось, случайного наблюдения повествователя: Вот что я видел: курит командир. Он командир большой подводной лодки, Он спичку зажигает у груди И прикрывает свет ее пилоткой. В двухуровневой композиционной организации стихотворения взгляд рассказчика на командира, его каждодневную службу сращен с мировосприятием самого героя, что ведет к расширению художественной перспективы и углублению психологического анализа. Проницательное творческое воображение повествователя оказывается способным целостно воссоздать сложный внутренний мир персонажа, его тайные думы, трагедийное чувствование своего морского призвания, судьбы. Обнаруживая себя в качестве тонкого психолога, рассказчик следует за взглядом командира, который проницает «черные глубины» моря: Глядит он в море – в море нет ни рыб, Нет памяти трагических походов, Нет водорослей, нет солнечной игры На рубках затонувших пароходов… Выразительные детали-лейтмотивы играют существенную роль и в создании портрета персонажа стихотворения «Стармех»: «Экзюпери всю ночь читает», «рукой замасленной … сжимает маленькую книгу» и др. Композиционно текст строится на прямых обращениях повествователя к герою («ты сам мне лучше расскажи…»), и даже при отсутствии прямой речи последнего создается эффект его живого присутствия, взаимопроникновения речевых потоков повествователя и героя. подобного эффекта минимальными языковыми средствами В умении достичь сказался богатый опыт журналистской работы самого Визбора. Переживания стармехом экстремальных, катастрофических эпизодов его морской службы передаются в рассказе повествователя и «изнутри», и посредством тонких внешних наблюдений. Художественный и психологический интерес Визбора к особому внутреннему складу людей трудных профессий сближает его песни-портреты с целым рядом стихов-песен В.Высоцкого о 103 моряках, альпинистах, геологах, спортсменах и т. д. Безусловно, этот интерес раздвигал горизонты познания глубин душевной жизни, был связан с постановкой многих экзистенциальных проблем, отражал одну из универсалий бардовской поэзии, с ее принципиальной эстетической установкой на формирование не коллективистского, но неповторимо-личностного дискурса непосредственного общения, в котором преломляется и индивидуальный, и социальный, и профессиональный опыт автора, персонажей, близких по духу слушателей. Так, в стихотворении стартующего «Горнолыжник» горнолыжника, наполненная эмоциональная прямыми портретная обращениями зарисовка к герою, восклицаниями, риторическими вопросами, приобретает характер емкого образного обобщения о краткости и трагической непредсказуемости земного пути: Но мир не видим и не слышен: Минуя тысячу смертей, Ты жизнь свою несешь на лыжах, На черных пиках скоростей. <…> Ведь жизнь – такой же спуск, пожалуй, И, к сожаленью, скоростной. Иной жанровой разновидностью песен-портретов становятся у Визбора художественные зарисовки родных для автора мест, городов, с их уникальной аурой: «Александра» (1979), «Песня о Москве» (1972), «Возвращение в Горький» (1973), «Старый Арбат» (1975), «Таллин» (1978), «Переделкинский вальс» (1978) и др. Ярчайший пример подобного «географического» портрета, созвучного образному ряду и стилистике окуджавских городских «песенок», – песня «Александра» (1979), воплотившая для современников поэта-певца глубинную сущность «не верящей слезам» Москвы. Песенный образ столицы является здесь главным «действующим лицом» любовного послания. Постепенное формирование индивидуальности города, «его лица», природного и психологического микроклимата представлено сквозь призму взгляда самой Москвы («Москва не зря надеется, // Что вся в листву оденется…») и неотделимо от судеб лирического героя и его избранницы. История Москвы вбирает в себя «сюжеты» многих человеческих жизней – личностное и всеобщее пребывают здесь в гармоничном равновесии: Александра, Александра, Этот город наш с тобою, Стали мы его судьбою – Ты вглядись в его лицо. И в других «географических» портретах Визбора первостепенно значима эта сопряженность индивидуальности данного края, связанного в сознании лирического «я» с вехами его собственного пути, – и таинственных ритмов жизни Земли. Так, с любовью 104 говоря о машинах горьковского завода («Возвращение в Горький»), поэт приходит к широкому художественному обобщению: «Я скажу: вращают всю планету // Все его четыре колеса…». А в стихотворении «Старый Арбат», ассоциирующемся с мотивами поэзии Б.Окуджавы, в «старой песне Москвы», многосложной жизни Арбата герой различает присутствие и своей экзистенции: «И в этой речке малою каплей // Сердце мое течет…». Однако в визборовской поэзии возникают не только «объективные» портреты, выведенные от имени авторского «я», но и «ролевые» стихотворения-песни, рождающиеся в результате актерского перевоплощения автора в интересных ему как художнику персонажей ради исследования «изнутри» психологического склада людей различных судеб, профессий, не имевших в официальной литературе «права» прямого вербального самовыражения. Во многих песнях-ролях Визбора («Маленький радист», 1956, «Третий штурман», 1965, «Ракетный часовой», 1965, «Рассказ ветерана», 1972, «Песня альпинистов», 1978 и др.) чрезвычайно существенна конкретность речевого воплощения различных «голосов» персонажей, определенность их личностной, социальной позиции. В стихотворениях «Маленький радист», «Как песни, перетертые до дыр…» поэтизируются устремления «маленького» человека – внешне неприметного члена огромной общности. В первом звучат искренние, нештампованные признания «маленького радиста с большого корабля», касающиеся любовных чувств, которые придают новый смысл и рабочим будням. При этом за жизнерадостными интонациями его рассказа таятся ноты глубокой грусти и одиночества: «Пусть точки и тире // Расскажут о любви». А в стихотворении «Как песни, перетертые до дыр…» взгляд радиста, одаренной творческой личности, фокусирует в себе образ целого мира, переживания самых разных людей – тяга испытать в своей работе чувство близости с окружающим миром присуща значительному числу визборовских ролевых героев. В данном случае это сопряжено с проникновением радиста в глубокий смысл профессионального труда: «связь – напиток драгоценный» позволяет ощутить единство страны в ее повседневной жизни от южных городов до северных морей: «А в южных городах встают девчонки // И в институты разные спешат… // А в северных морях от юта к баку // Штормище ходит, ветрами ревет». Разноплановость языковой личности персонажа проявляется в том, что изысканные метафорические описания природы («Рассвет луну засовывает в ножны // Ущелья каменистого того…»), проникновение в смысл «песен, перетертых до дыр» 105 естественно соединяются с прозаизмами, приметами обиходной разговорной речи, отражающей повседневные тяготы службы, тоску по простым радостям жизни. Во многих «ролевых» песнях Визбора в рассказах персонажей об их повседневном труде зреют афористичные философские обобщения о смысле той или иной деятельности, о своей судьбе. Так в «Песне альпинистов» вызревает глубокое понимание героями сущности общения человека с миром гор («Отыщешь ты в горах // Победу над собой»), а в лирическом повествовании «нефтяных робинзонов» («Остров сокровищ») реальные сцены добывания нефти соединены с овеянными романтикой сказочными мотивами, с размышлением героев об их предназначении: «Наши судьбы – биография трудных морей». Стремление поэта достичь максимальной речевой выраженности персонажей актуализирует в его песнях-ролях сказовые элементы – неслучайно определение «рассказ» встречается в названиях ряда произведений: «Рассказ технолога Петухова» (1964), «Рассказ ветерана» (1972). «Рассказ технолога Петухова», носящий анекдотический характер (с показательными оборотами из речи персонажа: «представьте», «говорю», «братцы» и т.д.), неожиданно сквозь призму юмористической ситуации словесного «поединка» героя с африканцем с долей иронии высвечивает неистребимое желание советского человека ощутить себя «впереди планеты всей». Совершенно иным по тональности оказывается «Рассказ ветерана». Речевая, «жестовая» детализация повествования героя о давнем трагическом бое создает эффект присутствия погибшего друга в настоящем. Рассказ дан без всяких вступлений и обрамлений, а как бы «выхвачен» из долгой откровенной беседы: Мы это дело разом увидали, Как роты две поднялись из земли И рукава по локоть закатали, И к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит – чтоб оно пропало! – Но нет уже судьбы у нас другой… Принципиально важна здесь напряженная атмосфера сказового повествования, когда в рефренах память героя снова и снова воскрешает детали роковой атаки, сопутствовавшего ей состояния природного мира. Как и во многих военных песнях В.Высоцкого, в данном стихотворении Визбора фронтовые переживания героя сопряжены с обостренным чувствованием великих и малых проявлений бытия природы – от «солнца жарящего» до задрожавшей «в прицеле» травиночки. Особый психологический микроклимат формируется здесь повторяющимися деталями речевого поведения рассказчика («шепчу», «кричу»), разнообразием интонационного рисунка, наложением военного прошлого и времени его осмысления в настоящем; наконец, тем, что главное 106 событие – гибель друга остается «за кадром»: это создает ощущение принципиальной словесной невыразимости всего ужаса пережитого. «Ролевое» начало органично соединяется у Визбора и с элементами иных жанровых образований. Подобный жанровый синтез наблюдается, к примеру, в стихотворении «Тралфлот» (1965), где сплавлены черты проникнутого незлой иронией диалога капитана рыбацкого судна с собеседником, стремящимся понять своеобразие морской службы; пространного сказового повествования от лица собирательного «я» моряков, с характерными для данной профессиональной среды стилевыми особенностями («судьба не судьба», «железное слово», «вахта ночная с названьем «собака»», «пожалуйте бриться»), и лирической исповеди, выражающей интимные переживания рассказчика. В рассмотренных и многих других песнях-ролях, изображающих изнутри душевный склад персонажей самых различных психологических типов и профессиональных призваний, отчетливо выразились элементы драматургического мышления Визборахудожника. Известно, что в своей творческой деятельности Визбор проявил себя не только как поэт, но и в качестве актера и драматурга. Один из его песенно-поэтических циклов носит симптоматичное название – «Диалоги». А ведь именно диалогическому речевому самовыражению героев принадлежит, по мнению теоретиков, «наиболее ответственная роль в драматических произведениях».192 Художественная разработанность форм диалогической речи в песнях Визбора нацелена на поэтическое осмысление практики повседневного межличностного общения, на внедрение самой песни в процесс общения. Сам поэт, размышляя о бардовском движении, высказывал убеждение в том, что, кроме «песен-трибунов, песен-менторов, крайне необходимы песни-друзья», а Л.А.Аннинский точно охарактеризовал Визбора как «поэта контакта, поэта тесных человеческих связей».193 Значительный корпус песенных текстов Визбора может быть рассмотрен как своеобразный «лирический театр», в котором проявились признаки сценического мышления поэта-певца, виртуозная организация диалогов и монологов персонажей, речь которых становится не только средством, но и интереснейшим предметом художественного изображения. При этом в жанровом отношении подобные «минипьесы» многоплановы – от комических сценок до драматических и трагикомических зарисовок. Неисчерпаемые ресурсы самых разнообразных по тематике и стилю минисценок, зарисовок анекдотического плана обнаруживаются в «Записных книжках» поэта-певца. 192 193 Хализев В.Е. Теория литературы. М.,1999. С.306. Аннинский Л.А. Первопропевец // Визбор Ю. Указ. соч. Т.1. С.8. 107 Наиболее незатейливой жанровой разновидностью песен-диалогов оказались у Визбора юмористические диалоги. В таких стихотворениях, как «Радуга. Диалог о соотношении возвышенного и земного» (1983) или «Излишний вес» (1977), житейские, философские раздумья облекаются в полушутливую форму непринужденной беседы действующих лиц. Авторское же слово, с драматургической точностью фиксирующее детали обстановки действия, проявляется прежде всего в подзаголовочном комплексе, полифункциональном в поэзии Визбора в целом. Особенно примечателен развернутый, настраивающий на юмористический лад подзаголовок в «Излишнем весе»: «Разговор двух дам, подслушанный правдивым автором в ресторане аэропорта города Челябинска в то время, когда туда по случаю непогоды совершали посадки самолеты с различных направлений». Более сложна содержательная и жанровая сущность семейно-бытовых песен-диалогов Визбора. За внешним комизмом здесь нередко скрывается драматизм мироощущения современников, явная и скрытая конфликтность их бытия («Женщина», 1975, «Семейный диалог», 1975, «Рассказ женщины», 1978, «Песенка о наивных тайнах», 1979-1982 и др.). Рассказ героини стихотворения «Женщина» соткан из сценок повседневной, домашней жизни «маленького» человека своего времени. «Внутренняя драматургия» этих ситуаций связана с тем, что, живя с нелюбимым мужем, она находит в себе силы возвыситься душевно и над его «угрюмством», и над повседневной суетой с тяжелыми «авоськами». Драматизм одиночества «в людном городе Москве» соединен у нее с чувством юмора, житейской смекалкой. В обыденной и вместе с тем точной и афористичной речи психологически убедительно раскрывается жизненность характера героини, описываемых ею ситуаций: Вот уж вечер к ночи клонит, Вот делам потерян счет. Он из спальни: «Тоня, Тоня, Где ж ты возишься еще?» Ну, а я-то примечаю: Голос сонный – в самый раз, Я из кухни отвечаю: «Спи, голубчик, я сейчас». Он от водки и салата Захрапит, хоть рот зашей. У меня – восьмое марта, Женский праздник на душе. В стихотворении «Рассказ женщины», подзаголовок которого уточняет обстоятельства действия, за комически обрисованным «случаем» – отвергнутым героиней соблазном «отдельного люкса» с незнакомцем – встает неприкрашенное изображение ее монотонной, тягостной жизни в советской действительности: «Десять лет в очередях // Колбасу я 108 доставала, // Десять лет учила я // Сверхсекретное чего-то…». Как и в предыдущем стихотворении, речь героини – носительницы простонародного сознания – интересна автору своей непреднамеренностью, соединением горького понимания собственного семейного, социального одиночества с внутренним достоинством и юмором. Стихотворение Визбора «Семейный диалог» композиционно и содержательно напоминает известный «Диалог у телевизора» В.Высоцкого (1973) – обратим внимание на определенную общность жанровых исканий двух поэтов в плане диалогизации песеннопоэтической структуры. В стихотворении Визбора в бытовой сценке диалога супругов, их отрывистых, по сути не ориентированных на реальное общение репликах ощутима опасность обезличенности и формализации этого разговора о «погоде», «климате земли» и т.д. У самого героя душевная потребность прорваться от быта к бытию («Зачем живу я?») подавляется всеобъемлющим «все равно», а бодрые рефрены резко контрастируют с разреженной атмосферой общения героев в основных частях. У Высоцкого же в диалоге его Вани и Зины гораздо сильнее, чем у Визбора, обнаруживается трагедийносатирическая направленность авторского осмысления фиктивности духовной жизни современника, проступающая сквозь комически заостренные речевые ходы героев. А в визборовской «Песенке о наивных тайнах», где драматургические элементы интегрированы в авторское «повествование», сквозь призму отдельных, не лишенных комизма, «случаев», эпизодов, которые пронизаны реалиями советского «застоя» («А к вечеру добыл два рыбных заказа, // Которые сменял на два билета на Таганку»), просматривается трагикомическая несостыковка реплик персонажей, знаменующая их взаимное отчуждение, тщетность отвлеченных иллюзий и надежд: Они созвонились поздно вечером, после программы «Время», Когда бюро прогнозов наобещало нам солнце, А в окно было видно, как собираются дожди. Она ему сказала: – Милый мой, У меня есть замечательное предложение: Давай мы с тобой поженимся! А он ей ответил: – Созвонимся… Однако песни-диалоги Визбора не ограничены лишь семейно-бытовой сферой. Их разнообразная «драматургическая» стилистика передает подчас и сложные внутренние переживания лирического «я», характер его взаимоотношений с миром в целом. Стихотворение «Такси» (1965) строится в форме прерывистой беседы персонажа с таксистом, выявляющей потребность героя пересилить давящее одиночество. Отрывистые реплики сопровождаются здесь, как в драме, короткими, воспроизводящими психологическую атмосферу и тревожное состояние ночного пассажира ремарками: «и крутится в стеклах снег», «а счетчик такси стучит», «от разных квартир ключи // В 109 кармане моем звенят». В центре стихотворения «Поминки» (1965) – проникновенный диалог с близким другом на поминках по погибшему в горах товарищу. За краткими, внешне малозначимыми репликами, «прозаическая» простота которых придает всему изображаемому надсловесном, особую художественную эмоциональном уровне, достоверность, раскрываются развивается глубинные диалог на психологические механизмы межличностного общения, лишь отчасти реализующегося в диалогической речи: – А что ты глядишь там? – Картинки гляжу. – А что ты там шепчешь? – Я песню твержу. – Ту самую песню? – Какую ж еще… Ту самую песню, про слезы со щек. Разнообразие композиционных решений Визбора в песнях-диалогах обнаружилось и в том, что иногда реакции собеседника остаются «за кадром», а их содержание проявляется в ответных репликах героя. Например, в стихотворении «Телефон» (1970) внешне непринужденные, беспечные реплики персонажа в телефонном разговоре с бывшей спутницей исподволь раскрывают драматизм личностной неустроенности обоих, не смягчаемый видимым благополучием. Этот драматизм проступает и в сквозной «ремарке»: (Телефон-автомат у нее, Телефон на столе у меня… Это осень, это жнивье, Талый снег вчерашнего дня.) Жанровая форма письма-разговора использована Визбором в посвященном памяти Высоцкого «Письме» (1982). Главным становится здесь философское, отчасти ироничное осмысление навсегда оставленного поэтом-«адресатом» земного мира, а сама безответность этого письма усиливает его скорбное звучание: Все так же мир прекрасен, как рыженький пацан, Все так же, извини, прекрасны розы… Привет тебе, Володя, с Садового кольца, Где льют дожди, похожие на слезы. Таким образом, в песнях-диалогах Визбора специфика драматургического мышления поэта проявилась в художественной и психологической обусловленности обстановки действия, в раскрытии явных и скрытых источников конфликтного напряжения, совмещении различных типов эмоциональности, в динамике сюжетного, «внутреннего» действия, пластике диалогической ткани и речевых характеристик. Если Г.Н.Поспелов, исследуя возможности взаимодействия лирики с иными литературными родами, обосновывал предложенное им понятие «лиро-драматургии» на примере проникновения 110 лирических элементов в пьесы А.Блока, то нам в свете изучения жанровой системы бардовской поэзии это синтезированное определение видится вполне адекватным и в отношении подверженных драматургическому влиянию лирических жанров – в частности, песен-диалогов Визбора. Как чрезвычайно существенное теоретики отмечают и взаимодействие лирического рода с эпосом («персонажная», «повествовательная» лирика194). Повествовательное начало свойственно авторской песне в целом, в творчестве же Визбора исследователи справедливо находят «идеальное равновесие драматического и комического, лирики и эпоса».195 Действительно, тяготение поэзии Визбора к жанрово-родовому синтезу проявляется не только в песнях-диалогах, сценках, но и в особой жанровой форме поэтической мининовеллы. Эти мининовеллы характеризуются сюжетной заостренностью, часто эпически широким охватом судеб персонажей – в отличие от песен-диалогов, сосредоточенных прежде всего на «внутренней драматургии» конкретной ситуации. При этом драматургические элементы сохраняются и в ряде поэтических мининовелл. В раннем стихотворении «Я нисколько не печалюсь…» (1954) посредством сюжетной цепочки «встреч» героя со знакомым поэтом, в бытовых деталях жизни последнего юмористически обыгрываются устоявшиеся стереотипные представления о поэтах как неземных существах: «Говорят, что часть поэтов // Просто ходят по земле». В ряде других мининовелл эмоциональное напряжение связано с выдвижением на первый план сюжета риска, испытания («Случай на учениях», 1955, «Серега Санин», 1965, «Капитан ВВС Донцов», 1967 и др.). В «Случае на учениях» пластично переданная экстремальная ситуация минутного душевного срыва одного из солдат в ходе военных учений и неожиданная, становящаяся известной лишь в конце реакция командира создают в среде бойцов атмосферу взволнованного ожидания, которая отчетливо проявилась в рассказе героя: «И взгляды обращались к старшине. // Кругом была такая тишина… // В глазах у всех – один немой вопрос». Сюжет-испытание, а порой и сюжет-катастрофа в песнях Визбора нередко позволяют в концентрированном виде ощутить психологическую сущность персонажей. В стихотворении «Капитан ВВС Донцов» в критической «профессиональной» ситуации, в которую попадает герой (угроза падения самолета на людей), происходит проверка скрытых качеств и психологических возможностей личности, отчетливо обозначается 194 195 См. соответствующие разделы в указанной монографии Г.Н.Поспелова. Андреев Ю.А. Наша авторская… М., 1991. С.114. 111 столь важная для многих визборовских героев этика риска. А стихотворение «Серега Санин» соткано из миниэпизодов дружеского общения персонажей, контрастно накладывающихся на тягостное переживание одним из них гибели друга. Дискретность композиции – пропуск сюжетного звена, связанного с описанием произошедшей трагедии, – усиливает ощущение внезапности, роковой непредвиденности хода жизни. В поздних поэтических «новеллах» Визбора нередко появляются более развернутые сюжеты, которые, коррелируя между собой, создают широкую картину жизни как самих персонажей, так и окружающей их семейной, социально-бытовой среды. В песне «Как я летел на самолете» (1977) ориентация на разветвленное повествование о судьбах персонажей ощутима уже в развернутом подзаголовке, выступающем в качестве автокомментария рассказчика: «Правдивая история о том, как я летел на самолете и во время полета размышлял о том, что происходит в разных концах моей жизни». В самом же тексте синхронно развертываются драматические сюжеты, не лишенные, однако, и комических элементов: семейная драма рассказчика, нелегкие переживания штурмана, взволнованные наблюдения за самолетом в телескоп мальчика из Нежина. В синхронности изображения «разных концов жизни» всевидящим рассказчиком сводятся воедино невидимые нити, связующие далекие человеческие судьбы. Значительное и мимолетное, драматическое и комическое предстают как взаимно соотнесенные грани повседневности – именно этим и интересной рассказчику: «И вся жизнь моя летит разноцветными огнями, // И летающих тарелок в небе явный разнобой…». Подобная соотнесенность несхожих эмоциональных регистров очевидна и в стиле непринужденного рассказа героя о семейном разладе, «внутренняя драматургия» которого не отделима от многих мимолетных предметно-бытовых подробностей: А жена моя сейчас зажигает зажигалку И закуривает «Яву», и мурлыкает эфир, И какой-то нехороший говорит ей: «Слушай, Галка, Не смотри на вещи мрачно – так прекрасен этот мир! Ну, а может быть, сейчас нам с тобою повезет, Ну, а может, разобьется этот самый самолет». В стихотворении же «Ходики» (1977) именно из воссоздающих дух времени предметно-бытовых деталей (ходики, чайник со свистком) прорастает зерно сюжета целого жизненного пути рассказчика. Через лирический, проникнутый ностальгическим чувством по распавшейся когда-то семье, утраченному дому рассказ о дорогих сердцу вещах приоткрывается глубинный драматизм межчеловеческих, семейных отношений: сквозь призму второстепенного проступает сущностное. В неторопливом повествовании уже пожившего человека горький счет потерям соединен с радостью за пройденные рубежи, за прожитую «сотню лет» с женой. Поэтическая мининовелла Визбора 112 становится все более психологичной, задушевный лиризм сплавляется с драматическим содержанием, жизненные обобщения проступают сквозь напряженное сюжетное действие, поток воспоминаний героев, через внешне незначимые, но субъективно дорогие и родственные детали, приметы жизненного пространства персонажей: С тех пор я много берегов сменил. В своей стране и в отдаленных странах Я вспоминал с навязчивостью странной, Как часто эти ходики чинил. Под ними чай другой мужчина пьет, И те часы ни в чем не виноваты, Они всего единожды женаты, Но, как хозяин их, спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, И лучше дома нет, чем собственный твой дом, Где ходики стучат старательно на кухне, Где милая моя и чайник со свистком. Синтетическая природа жанровых форм поэзии Визбора проявилась не только в активном межродовом взаимодействии лирики и эпоса, лирики и драматургии, но и в соприкосновении художественного и публицистического начал, последнее из которых тесно связано и с прозой поэта. Феномен «песенной публицистики» в понимании самого Визбора был содержательно и художественно многофункционален: «Очевидно, песенная публицистика может иметь много разнообразных адресов. Не только стройки и дороги попадают в ее поле зрения, но и важные движения в духовном построении человека. Это песни, которые берут на себя смелость пофилософствовать над ходом жизни человеческой, разобраться в кипении страстей, дать мудрый совет». Именно в этом художественно-публицистическом русле и формируется у Визбора жанр песнирепортажа, отвечавший заветному стремлению поэта-певца «соединить в единое целое вещи, казалось, несоединимые – документальную запись и песню», опереться в создании художественной картины мира на непосредственно увиденное и пережитое. В целом ряде визборовских песен-репортажей («Трасса Хорог – Ош», 1965, «Репортаж о ракетчиках», 1968, «Пик Ленина», 1967, «Три минуты тишины», 1965 и др.) будничная конкретность повседневной хроники преображается в эстетически ценное, а изначально нехудожественный журналистский жанр обретает художественную наполненность. В стихотворениях «Репортаж с трассы Хорог – Ош», «Трасса Хорог – Ош», тематически связанных с сооружением высокогорного Памирского тракта, решающую роль в трансформации художественное журналистского произведение играют репортажа одушевление «с места горного мира, событий» в созвучного 113 переживаниям лирического «я», а также выдержанные в фольклорной стилистике непосредственные обращения героя к «трассе-трассушке», воскрешающие, особенно во втором стихотворении, дух народных лирических песен. В «Трассе Хорог – Ош» обыгрываются черты жанра обрядовой величальной песни, а созвучные народной песне мелодика и ритмика, фольклорные лексико-синтаксические особенности передают лирическое чувство неизбывного родства героя с описываемой дорогой: Ох ты, трасса бесконечная, Боль-тоска моя студеная, То любовь моя беспечная, То жена неразведенная. «Репортаж о ракетчиках», «Песня-репортаж о строителях КамАЗа» оказываются композиционно и стилистически близким рассмотренным выше визборовским песнямпортретам. В первом стихотворении исходная ситуация непосредственного общения журналиста с прошедшим войну майором-ракетчиком обнаруживает в рассказчике тонкого наблюдателя, творчески воспринимающего нюансы поведения собеседника. А потому задуманный изначально репортаж о представителях трудного рода войск превращается в синтетическое жанровое образование. Репортажные зарисовки ракет совмещаются с чертами философской, пейзажной лирики и, что особенно значимо, с элементами психологического портрета майора, внутренняя жизнь которого пронизана драматичными воспоминаниями о «дыме боев» войны: Мы с майором идем по тропинке В пасторальнейшем из лесов. Все меняется в волнах рассвета, Все у времени на крыле… А в «Песне-репортаже о строителях КамАЗа» первоначально журналистский рассказ о людях известного автозавода, их повседневном труде благодаря взволнованному обращению рассказчика к слушателю, апелляции к его внутреннему миру получает мощный лирический заряд, трансформирующий единичные проявления описанного мира в масштабное поэтическое обобщение: Ты пойми, что такое КамАЗ: Это парни – не парни, а боги! Это вьюжная наша зима, Это тяжкие наши дороги! Таким образом, художественность песен-репортажей Визбора во многом зиждется на активном проявлении авторской творческой личности, образно обобщающей показанные явления действительности и вступающей в непосредственный душевный контакт как с персонажами этих репортажей, так и с воспринимающим «я» слушателя, собеседника. 114 В завершение данного подраздела следует отметить прежде всего необычайное жанрово-родовое многообразие песенной поэзии Визбора – от ранних «туристских», «студенческих», пейзажных, романсовых песен, философских элегий – до во многом экспериментальных песен-портретов, поэтических «новелл», лирических «минипьес», песен-репортажей. Жанровые эксперименты и открытия Визбора несомненно вписывают его творчество в общий контекст художественных исканий поэтов-бардов, в лирикоромантическое направление авторской песни. Визборовские новации в сфере жанрообразования рождались на стыке различных литературных родов, на пересечении песенного творчества и искусства слова, во взаимодействии литературной и фольклорной традиций, художественных и журналистских жанров. Исследование жанровых параметров поэзии Ю.Визбора неотделимо от проникновения в содержательные глубины его песен, емко передающих духовный склад, внутренние поиски и устремления личности середины XX столетия. 115 2. Песенно-поэтическая антропология. Люди трудных профессий в стихах-песнях Ю.Визбора и В.Высоцкого В поэтических произведениях авторской песни персонажная сфера всегда характеризовалась яркостью и социально-психологическим многообразием. Значительное место в песенной поэзии Ю.Визбора и В.Высоцкого занимает художественное раскрытие душевного склада персонажей, реализующих свой внутренний потенциал в «трудных» профессиональных призваниях, где в экстремальных положениях испытываются на прочность их личностные качества, межчеловеческие отношения. Это моряки, геологи, альпинисты, шахтеры, спортсмены, обретающие в стихах Визбора и Высоцкого возможность прямого нешаблонного речевого самовыражения, в котором угадываются как приметы времени, так и черты родства с творческим сознанием самих поэтов, постигающих нравственно-философские аспекты бытия. Сопоставление персонажных миров в творчестве двух крупнейших художников, представляющих различные периоды и направления в авторской песне, позволит как точнее определить специфику ее лирикоромантической ветви, так и приблизиться к осмыслению линий разграничения между несхожими жанрово-стилевыми тенденциями в бардовской поэзии. Пути художественного познания внутреннего мира песенных героев у Визбора и Высоцкого весьма многоплановы. Прежде всего стоит отметить весьма распространенные в их поэзии портреты персонажей трудных профессий. У Визбора элементы таких портретов проступают уже в ранних стихах и песнях середины 1950-х гг. («Парень из Кентукки», «Закури», «Жить бы мне, товарищи, возле Мелитополя…», «Маленький радист» и др.). В них преобладает пока достаточно обобщенный поэтический рассказ о тех профессиональных общностях, представителями которых выступают герои – «маленькие радисты с большого корабля», о нелегких условиях их труда, в процессе которого происходит углубленное осознание ими ценности внутренних переживаний. Так, эмоциональная речь северного рыбака («Жить бы мне, товарищи…») становится созвучной строю народной лирической песни: Но живу я в том краю, там, где дни короткие, В области Архангельской с детства рыбаком. Северные девушки с гордою походкою Вдоль по нашей улице ходят вечерком… Позднее эти визборовские портреты героев становятся все более подробными и психологизированными. Социально-психологический облик персонажей предстает в них 116 чаще всего в призме вдумчивого взгляда повествователя, способного в деталях поведения героя прозреть закономерности его душевного мира, – в «Командире подлодки» (1963), «Стармехе» (1965), «Репортаже о ракетчиках» (1968) и др. В стихотворении «Командир подлодки» из непосредственных впечатлений повествующего «я» («вот что я видел…»), жестовых и речевых подробностей поведения командира рождается глубокое понимание трагедийного мироощущения героя, окруженного «водой, скрывающей черные глубины… память трагических походов». В «Стармехе» профессионально-бытовая конкретность и одновременно метафорическая выразительность картины противодействия моряков природной стихии («Метелей белые ножи // Разламывал своей машиной») соединена с лирико-романтической тональностью «Голубоглазый мой стармех // в описании портрета и поведения героя: Экзюпери всю ночь читает». Оригинально здесь и композиционное решение: рассказ стармеха предстает в форме участного обращения к нему повествователя, досконально знающего детали жизни на корабле: И Антуан Экзюпери Вот здесь скрестил с тобой маршруты. На море снег, на море снег… Не только в портретных зарисовках, но и в напряженной сюжетной динамике прорисовывается Визбором ментальный склад героев трудных профессий. Говоря об антропологическом аспекте собственного художественного мира, поэт-певец подчеркнул расширенное понимание самого феномена «трудной профессии»: «Сила человека – не в профессии и не в судьбе… Мои герои – это люди поступка, люди действия… Если вник в дело, которому посвятил тебя твой герой, то громким – и чаще всего неискренним – словам места в песне не остается».196 В сюжетике песен Визбора и Высоцкого преобладают поворотные, «пограничные» ситуации, сопряженные с этикой риска и открывающие для героев новое измерение жизни и профессионального труда. В стихотворении Визбора «Вот вы тоже плавали когда-то…» (1958) коллективный рассказ о сущности морского призвания, сочетающийся с личностным повествованием одного из моряков, наполнен ощущением таинственного смысла перипетий дальнего плавания, что передается и на уровне поэтического языка, образного ряда, являющего сплав вещественного и метафизического: «Плыли мы неведомо куда // По путям надежды и познанья // … Я держусь за поручни надежд // И до боли вглядываюсь вдаль». В песне «В твоей душе» (1961) геологическое исследование природы вписано в образный контекст психологической лирики, ассоциируясь с бесконечностью познания близкой души: «Давно домой геологи вернулись, // А мне тебя искать еще сто лет!». 196 Визбор Ю.И. Указ. соч. Т.3. С.363. 117 Особую художественную функцию выполняет у Визбора и хронотоп «окраины», «края» земли, сопряженный с атмосферой духовного и профессионального поиска героев. В песне «Окраина земная» (1965) в лирическом монологе моряка, наполненном возвышенным и одновременно тонким профессиональным чувствованием «гремящей окраины земной», обнаруживается близость морского призвания и крестьянского труда – в их причастности извечным – водной и земной – природным стихиям: «Мы словно пахари на поле, // И тралы родственны плугам». Суровая реальность профессиональных будней нередко предстает в песнях Визбора в героико-романтических тонах, не скрадывающих, однако, неофициозного, драматичного ощущения нелегкой трудовой жизни, долгой оторванности от любимых людей: «И Кольский залив нам гудками повторит // Слова, что нам жены сказать не могли». («Тралфлот»). В этой песне – сказе капитана рыбацкого судна – обращенное к слушателюновичку повествование о море (с характерными, диалогически ориентированными, стилевыми особенностями: «мой друг», «пожалуйте бриться» и др.), о «Севере-старике», драматичной судьбе моряка – таит немалый педагогический потенциал. Если у Визбора в социально-психологических портретах преобладает одухотворенноромантическое начало, проистекающее от чувства единения героя со своей профессиональной средой, то в поэзии Высоцкого подобные «профессиональные» портреты, отличающиеся большей социальной остротой, зачастую предстают в виде пронзительной исповеди героя-одиночки, болезненно переживающего свою противопоставленность данной среде («Я был слесарь шестого разряда…», «Песенка про прыгуна в высоту», «Песня о штангисте» и др.). Центральным в исповедальном монологе героя «Песенки про прыгуна в высоту» (1970) становится его напряженное, строящееся на неизбывных контрастах («Лишь мгновение ты наверху – // И стремительно падаешь вниз») самоосознание не в качестве человекафункции, но как уникальной творческой личности, отстаивающей право на нестандартность в борьбе со сковывающими его «голосами» враждебной среды: Но, задыхаясь словно от гнева я, Объяснил толково я: главное, Что у них толчковая – левая, А у меня толчковая – правая! 197 Новый свет на надрывное состояние героя в профессиональной сфере проливает и его семейная драма, подчеркивающая внутреннюю конфликтность и многомерность 197 Здесь и далее тексты произведений В.Высоцкого приведены по изд.: Высоцкий В.С. Сочинения: в двух томах. Сост. А.Крылов. Екатеринбург, У-Фактория, 1999. 118 созданного портрета: «Жаль, жена подложила сюрприз: // Пока я был на самом верху – // Она с кем-то спустилася вниз…». Поэтика контрастов, этический и профессиональный максимализм в отношении противопоставляющегося зрительским «крикам» героя к себе важны и в «Песне о штангисте», (1971), «Вратаре» (1971), «Песне о сентиментальном боксере» (1966). В песнях Высоцкого предметный мир, сами «орудия» и «средства» профессиональной деятельности нередко вовлечены в орбиту личностной экзистенции персонажа, вступают с ним в сложные партнерско-сопернические отношения, как это происходит со штангой («Песня о штангисте») или с самолетом в стихотворении «Я еще не в угаре…» (1975). В последнем возникает даже развернутый психологический портрет не только лирического «я», но и многим близкого ему самолета – «отбившегося от рук», «отгулявшего до последней черты»… Состояние соперничества-сплоченности с миром, смертельного риска в бою, экстатическое напряжение героя в кульминационные мгновения профессионального, боевого самовыражения придают песням рассматриваемого круга балладное звучание, которое подчеркивает глубину их бытийного содержания: Двадцать вылетов в сутки – куда веселей! Мы смеялись, с парилкой туман перепутав… В отличие от поэзии Визбора, в подавляющем большинстве стихов и песен Высоцкого о людях трудных профессий преобладают сюжет-поединок, сюжет-катастрофа, акцент на предельном надрыве оказавшегося в «пограничной» ситуации198 героя – в большом спорте, морском сражении, покорении горной вершины, геологоразведочной экспедиции… Сам поэт-певец признавался: «Я стараюсь для своих песен выбирать людей, находящихся в момент риска, которые в каждую следующую секунду могут заглянуть в лицо смерти, которые находятся в самой-самой крайней ситуации».199 Такой осознанный подход и придает антропологическому аспекту этих произведений повышенную значимость. Архетипическая для художественного мира Высоцкого ситуация поединка человеческой воли со смертью прочерчивается уже в ранней песне «Сорок девять дней» (1960) и получает дальнейшее углубление. Катастрофичный сюжет морского сражения в стихотворении «Еще не вечер» (1968), являя частую для философской лирики поэта «схватку бесшабашную» с судьбой, становится одновременно и испытанием прочности 198 См. об этом: Скобелев А.В., Шаулов С.М. Концепция человека и мира (Этика и эстетика В.Высоцкого) // В.Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С.32; Свиридов С.В. Структура художественного пространства в поэзии В.Высоцкого. Канд. дис. М., МГУ, 2003. С.55. 199 Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актер. М.,1989. С.121. 119 профессионального сообщества («А крысы – пусть уходят с корабля»), и обнаружением спасительной близости бунтующих душ персонажей к природной бесконечности: «Ведь океан-то с нами заодно». А в «Натянутом канате» (1972) в сюжетной динамике, «спрессованной» пространственно-временной организации выстраивается целостная онтология рискованного «пути без страховки», «боя со смертью», внутренне оппозиционная духовному «лилипутству», барачно-лагерной обезличенности советского «гетто». Творческое проникновение обоих бардов в различные профессиональные сферы неизбежно несло в себе проявление инакомыслия в отношении к Системе, постижение уязвимых сторон сознания «homo sovieticus». У Визбора – это прежде всего вызвавший недовольство официоза «Рассказ технолога Петухова» (1964), неожиданно точно для тех лет отразивший стремление советского человека непременно видеть себя «впереди планеты всей» – причем одновременно и в «делании ракет», и в «области балета»… В стихах Высоцкого сходные черты психологии героев проявились в некоторых «спортивных» песнях – в трагикомичном поединке бегуна с «гвинейским другом» («Марафон», 1971), истории с прыгуном, надрывно мечтающим «догнать и перегнать Америку» («Песенка про прыгуна в длину», 1971), в примечательном шахматном состязании («Честь шахматной короны», 1972). Сквозной в «профессиональных» песнях Высоцкого становится и ситуация противостояния ищущей творческой личности власти бюрократии. В «Песне о конькобежце…» (1966) звучит взволнованный монолог «маленького человека» от спорта, готового всеми способами отстаивать свое достоинство в борьбе с безликой спортивной системой. Неожиданный сюжетный поворот в «Случае на шахте» (1967) высветил в трагикомических тонах оборотную сторону громких соцсоревнований и выявил частое неблагополучие внутри самих трудовых сообществ, когда передовой шахтер-стахановец остается под завалом по корыстной воле своего же окружения, «пившего вразнобой «Мадеру», «старку», «зверобой»». В стихотворении же «Тюменская нефть» (1972) насыщенное бытийным смыслом интуитивное чувствование героем-нефтяником недр родной земли – «что подо мной не мертвая земля», концентрация его душевных и физических сил («счастлив, что, превысив полномочия, // Мы взяли риск») противостоят языковой мертвенности бюрократических «депеш» из «центра»: И шлю депеши в центр из Тюмени я: Дела идут, все боле-менее, Что – прочь сомнение, что – есть месторождение, Что – больше «более» у нас и меньше «менее». 120 В творчестве обоих бардов песни о людях трудных призваний заключают и художественное постижение межчеловеческих отношений, возвращавшее в общественное сознание тоталитарной эпохи забытую чистоту и свободную от идеологических догм, социальной конфронтации искренность этих отношений – как в личной, так и профессиональной сферах.200 В стихотворениях Визбора «Я иду на ледоколе…» (1973), «Остров сокровищ» (1972) межпрофессиональная солидарность воспринимается героем как мощная опора в повседневном труде. В первом из них рассказ бывалого, «идущего на ледоколе» моряка о профессиональной сплоченности с подводниками («У подводника гитара // И ракет большой запас») органично вписывается в проникновенное послание, обращенное к далекой возлюбленной. И таким образом в мироощущении визборовского персонажа выстраивается художественная диалектика коллективного и индивидуального: «Но никто из них не видит // В чудо-технику свою… // Что печально, дорогая, // Жить на свете без тебя». У Визбора и Высоцкого значительное место уделено и воспеванию красоты мужской дружбы, закаленной в нелегких испытаниях профессиональной судьбы, а также на фронтовых путях – если вспомнить «военный» цикл Высоцкого. В стихотворениях же Визбора «Остров сокровищ», «Десантники слушают музыку» (1963), «Экипажу Рюмин – Попов» (1980) художественное познание «биографии трудных морей», скрытых «механизмов» «мужского общежития во всей своей красе» на море и в небе достигнуто в соединении реально-бытового и возвышенно-романтического изобразительного планов: Когда-нибудь закончится Обилие чудес – Вернутся к нам в Сокольники Соколики с небес Земные – это правильно, – Но все ж немножко ангелы: Один из испытателей, Другой из ВВС. Размышления о формах межчеловеческого родства в профессиональных, семейных отношениях обретают в поэзии Визбора и философское звучание, расширяя сферу лирической эмоциональности поэта-певца. Так, в стихотворении «Я бы новую жизнь своровал бы, как вор…» (1968) подлинно актерское вчувствование в личностный смысл различных профессиональных судеб умножает в глазах героя ценность тепла семейной привязанности: «Но ведь я пошутил. Я спускаюсь с небес, // Перед утром курю, как солдат перед боем. // Свой единственный век отдаю я тебе». На соединении предметно-бытовой и 200 Подробнее об этом см.: Священник Михаил Ходанов «Спасите наши души!..»: О христианском осмыслении поэзии В.Высоцкого, И.Талькова, Б.Окуджавы и А.Галича. М., 2000. С.34-36. 121 метафизической составляющих построено изображение профессионального труда и в стихотворении «Как песни, перетертые до дыр…» (1965). Осуществляемая радистом связь видится как «напиток драгоценный», наполняющий души героев – «поверх барьеров» пространств – ощущением целостности бытия, потаенного родства несхожих душевных миров. С композиционной точки зрения здесь существенна синхронизация поэтического видения далеких человеческих судеб: А в южных городах встают девчонки И в институты разные спешат, И крестят, как детей, свои зачетки, И с ужасом шпаргалками шуршат. А в северных морях от юта к баку Штормище ходит, ветрами ревет… «Драгоценная связь» людей в профессиональном общении оказывается значительной и в психологической лирике Высоцкого, где она, чаще, в сопоставлении с произведениями Визбора, ассоциируется с мучительной надорванностью человеческого «я». Яркий пример тому – песня «Ноль семь» (1969), где поэтизация будничного труда телефонистки («Стала телефонистка мадонной») проистекает из драматичного положения героя на грани одиночества. Сила лирической эмоции выражена здесь в прерывистой ткани стиха, сочетающей взволнованный монолог с диалогическими, адресованными любимой женщине и другу репликами. «Профессиональная» ситуация телефонной связи обретает психологическую значимость: «Девушка, милая! Я прошу – продлите! Вы теперь как ангел – не сходите ж с алтаря! Самое главное – впереди, поймите… Вот уже ответили. Ну здравствуй, это я!». Поиск «зон» душевной открытости личности в разнообразных сферах профессиональной деятельности сближает песни Визбора и Высоцкого. Причем речь может идти и о глубоком единении душ в общем призвании, как, например, в «Скалолазке» Высоцкого (1966), и о кратковременных, но весьма значимых человеческих общностях, показанных, например, в стихотворениях Визбора «Такси» (1965) и Высоцкого «Рты подъездов, уши арок и глаза оконных рам…» (1965), которые созвучны по сюжетной ситуации. Если у Визбора личная драма героя приоткрывается в неожиданно доверительном диалоге с незнакомым таксистом, то стихотворение Высоцкого построено как рассказ бывалого таксиста, тонко чувствующего коммуникативный смысл своего труда и приобретшего в этом труде опыт понимания самых разных человеческих душ. «Новеллистичная» структура его рассказа, сотканного из внутренне связанных миниэпизодов и характеризующегося афористической емкостью словесной ткани, приоткрывает в монологе «ролевого» героя психологическую глубину: 122 Мы случайные советчики, творцы летучих фраз, – Вы нас спрашивали – мы вам отвечали. Мы – лихие собеседники веселья, но подчас Мы – надежные молчальники печали. В поэзии Визбора и Высоцкого изображение психологии героев – представителей трудных профессий, экстремальных условий их жизни отразилось и в сближающей обоих поэтов системе образов-символов. Символическим потенциалом наделены здесь пространственные образы моря, гор, Земли, а также сквозной мотив пути. В визборовской песне «Океан» (1963) символический образ одушевленной морской стихии спроецирован как на извечную тягу души к непостижимому («неразрешимое решать»), так и на реальные эпизоды жизни людей трудного призвания: «И, как подвыпивший подводник, // Всю ночь рыдает океан». В стихотворении же Высоцкого «Шторм» (1976) яркая словесная фактура профессионального языка моряков («Мы говорим не «штормы», а «шторма… чтим чутье компасов и носов») открывает таинственное измерение как в душевном мире персонажей, так и в живописуемых здесь океанских просторах: «Кто в океане видит только воду – // Тот на земле не замечает гор». Хронотоп гор у обоих бардов также имеет глубокий образный, антропологический смысл. Размышляя о личностном значении альпинистской деятельности, Визбор отмечал в ней мощный стимул внутреннего роста человека, который «возделывает сам себя, засеивает поле своей судьбы мужеством, взращивает в себе мощные и прекрасные всходы. От этого и накапливается в альпинисте мудрость философа». В «горных», «альпинистских» песнях Визбора и Высоцкого именно на «самовозделывании» личности в общении с миром гор и сделан главный акцент. У позднего Визбора «альпинистская» песня все определеннее вбирает в себя элементы философской элегии: в стихотворении «Тропа альпинистов – не просто тропа…» (1976) центральный образ постепенно познаваемого героями горного пространства помещен в широкое ассоциативное поле: Тропа альпинистов – не просто тропа: Тропа альпинистов – дорога раздумий О судьбах миров, о жестокости скал, О женщинах наших, которых мы любим. У Высоцкого же экзистенциальный характер приобретает образная оппозиция «равнины» и «гор». Так в стихотворении «Здесь вам не равнина» (1966) антропологическая значимость вживания героя в мир, где «за камнепадом ревет камнепад» сопряжена с этикой риска, самоиспытания, отказа от «уюта», с осознанием непрерывности духовного поиска: «Но мы выбираем трудный путь, // Опасный, как военная тропа». Весомой оказывается здесь, а также в «Военной песне» (1966), и образная 123 ассоциация полного опасностей мира гор и исторических судеб соотечественников на нелегких фронтовых дорогах: Как Вечным огнем, сверкает днем Вершина изумрудным льдом – Которую ты так и не покорил. А в «Гимне морю и горам» (1976) бесконечная перспектива духовного восхождения личности в «служении стихиям», глубинное чувствование полюсов бытия заряжает ее ощущением причастности к вечности, всеединству мира – его высот и глубин: «Благословенны вечные хребты, // Благословен Великий океан!». Таким образом, символика пути, дорог жизни оказывается сквозной в произведениях Визбора и Высоцкого анализируемого ряда. Хотя если у Визбора чаще подчеркнуто врачующее воздействие «дорог», морских путей на души героев («Плаваем мы не от скуки, // Ищем не просто тревог: // Штопаем раны разлуки // Серою ниткой дорог»), то в поэтическом контексте Высоцкого неумолимо ожидающие героев-«профессионалов» «четыре четверти пути», «непройденные дороги» и «невзятые рубежи» над «пропастью» – как правило, имеют трагедийную окрашенность, знаменуют катастрофические изгибы человеческой судьбы, «пограничные» вехи душевного мира и социального положения личности ( «Натянутый канат», «Песня летчика», «Спасите наши души», «Ну вот, исчезла дрожь в руках…» и др.). В художественных мирах двух бардов принципиально важна и связь интуиций о судьбах представителей трудных профессий с пониманием творческого призвания Поэта. Так, в визборовской «Песне о поэтах» (1963) неординарное для своего времени размышление о драматичной участи поэтов «служить в госкомитетах» выводит на осознание органичной близости вольнолюбивого творческого призвания профессиональному труду в экстремальных, свободных от сковывающей официальности условиях – мысль, обретающая здесь и скрытый социальный подтекст: Им бы, поэтам, плавать бы в море, Лед бы рубить им на ледниках, Знать бы им счастье, мыкать бы горе, Камни таскать бы им в рюкзаках. Высоцким же личностный, «профессиональный» поединок поэта-певца с царящей в обществе кривизной в заостренной форме изображен в дилогии «Певец у микрофона» и микрофона» «Песня (1971). Прописанная с мельчайшими подробностями профессиональная ситуация сценического выступления, увиденная «глазами» певца, а затем и микрофона, пронизана ощущением повышенного экзистенциального, 124 психофизического напряжения, родственного душевным состояниям персонажей «морских» и «альпинистских» песен: Бьют лучи от рампы мне под ребра, Светят фонари в лицо недобро, И слепят с боков прожектора, И – жара!.. Жара!.. Жара!.. «Пороговое» состояние героя Высоцкого на сцене – в общении с гитарой, микрофоном, аудиторией – порождено чувством глубинной внутренней обнаженности творческой личности в ее стремлении на пределе сил открывать правду в мире лицемерия. А во взволнованной «исповеди» микрофона, индивидуальность ради «патоки, в итоге сладкой не помеси», сумевшего подавить нравственный свою максимализм предопределяет тяжелейшую «профессиональную» драму: В чем угодно меня обвините – Только против себя не пойдешь: По профессии я – усилитель, – Я страдал – но усиливал ложь. Расширенное восприятие обоими поэтами феномена трудной профессии позволяет, таким образом, соотнести их «сюжетные», «ролевые» песни о моряках и альпинистах, шахтерах и нефтяниках с глубокими раздумьями о бытийной, социальной роли творческой личности в современности и Вечности. Итак, антропологический аспект оказался ключевым в «персонажных» стихах-песнях Визбора и Высоцкого, обращенных к постижению судеб людей нелегких профессиональных призваний. В этих плотно «населенных» самыми различными характерами произведениях запечатлелись жизненные пути современников в их профессиональной, творческой деятельности – людей, обретших в бардовских песнях свободную от официозного грима возможность прямого вербального самораскрытия в конкретных речевых формах. Разноплановое в жанрово-стилевом отношении – от лирических монологов до «ролевых» песен-«минипьес» – песенное многоголосие в произведениях Ю.Визбора и В.Высоцкого было направлено на углубленное исследование душевной жизни личности с учетом психологического межчеловеческого фактора общения, экстремальности; бытийных основ потаенных отношений «механизмов» человека и мира, запечатлевшихся у обоих авторов в близком образно-символическом ряде. Однако если у Визбора преобладают поэтические, нередко окрашенные лирико-романтическими тонами портреты героев, данные сквозь призму взгляда повествователя, то стихи-песни 125 Высоцкого характеризуются более напряженной, трагедийной, часто балладной сюжетной динамикой, острой конфликтностью, исповедальной пронзительностью, что отразило общую направленность эволюции авторской песни – от романтических истоков 1950-х гг. к последующему усилению трагедийного звучания и социальной остроты в творчестве бардов 1970-80-х гг. (В.Высоцкий, А.Галич, А.Городницкий, поздний Б.Окуджава, И.Тальков и др.).201 Разнообразная типология характеров, сюжетных ситуаций в стихах-песнях Ю.Визбора и В.Высоцкого о людях трудных профессий несомненно расширила горизонты поэтического слова и способствовала обогащению лирики новыми перспективами антропологического знания. 201 См.: Зайцев В.А. Русская поэзия XX века: 1940-1990-е годы. М., 2001. С.152-153. 126 3. Педагогический потенциал песен Визбора Формы проявления педагогического потенциала русской литературы были самыми разнообразными, поэтому особую значимость приобретает осмысление скрытых путей ее педагогического воздействия на воспринимающее сознание, соотношения этих путей с внутренними законами художественного текста. Авторская песня в этом плане – явление примечательное, ибо в социокультурной ситуации середины XX в. звучащее, обращенное к широкой аудитории и при этом не утрачивающее задушевного лиризма песеннопоэтическое слово было заряжено воспитательной энергией и возвращало в общественное сознание выхолощенные духовные ценности. В творчестве Ю.Визбора педагогическая ориентированность художественного слова ощутима уже на раннем этапе. В песне «Карельский вальс» (1954) важна модальность диалогического обращения «бывалого человека» к молодому спутнику, с которым тот делится естественным опытом понимания жизненного пути: «Не грусти дорогою, // Что далек твой дом, // Ты узнаешь многое // На пути своем». С другой стороны, педагогический смысл обретает здесь и общение человека с воспитывающей, формирующей его внутреннее «я» одушевленной природой: «Верности без слов // Нас научат чащи // Северных лесов». Подобная двунаправленность педагогического потенциала, связанного с самораскрытием лирического «я», важна и для других визборовских произведений. В целом ряде стихов и песен органичной оказывается композиционная форма дружеского назидания, укрепляющего собеседника в стоическом мироощущении на трудных дорогах жизни и заключающего напряженную рефлексию о судьбе («Удел один – идти вперед…», «Спокойно, дружище, спокойно…», «Песня альпинистов», «Пора в дорогу, старина…», «Твоя дорога» и др.). В песне «Хамар-Дабан» (1962) в мудронаставительной беседе героя с «просто парнем из тайги» достигается глубина душевного контакта, благодаря которому и происходит интуитивное предвосхищение героем жизненного пути собеседника-альпиниста: «В мешочек сердца положи // Не что-нибудь, а эту жизнь, // Ведь будут тысячи столиц // Перед тобою падать ниц». Присущее русской классической словесности проповедническое начало преломляется в бардовской поэзии в негромкую, доверительную, личностно ориентированную беседу, которая у Визбора нередко окрашивается в лирико-романтические тона и способствует диалогизации философских раздумий: 127 Огонь в своей лампаде пригаси, Задумчивые думы пригласи, Измученный, у ночи на краю Выдумывай любимую свою. В педагогически значимом диалоге визборовского героя с самыми различными персонажами его поэзии происходит и глубокое философское познание природного мира, таинственно сопряженного с душевной жизнью. В песне «Знаком ли ты с Землей?» (1966) в художественной воздействия – форме реализованы посредством ключевые наглядности, принципы «наводящих» воспитательного вопросов, исподволь приближающих слушателя к чувствованию уникальности родного края: – Знаком ли ты с Землей? – Да вроде бы знаком. – А чей тут дом стоит? – Да вроде общий дом. А может, это твой. Внимательно смотри, Ведь нет земли такой В других концах Земли. Существенным в «педагогических» песнях Визбора становится и сознательное сокращение эмоциональной дистанции между собеседниками. В песне «Снегопад» (1966) удивление героя перед непознанной загадочностью горного мира («Где дорога, а где мелкая тропа, // Разобрать я в снегопаде не могу») активизирует творческое воображение слушателя, устремляемое незримой волей повествующего «я» от более знакомого к неизведанному: И ты представь, что не лежит вдали Москва И не создан до сих пор еще Коран – В мире есть два одиноких существа: Человек и эта белая гора. Ненавязчивый дидактизм песен Визбора, апеллирующих к личностному опыту слушателя, стал «альтернативой» коллективистской политизированной советской риторике. А потому столь тонкой оказывается в его произведениях жанровая грань между лирической исповедью, путевыми впечатлениями, задушевной беседой у костра и вразумляющим назиданием, призванным напомнить о простых житейских мудростях («Ночная дорога», «Не сотвори себе кумира…»): «И может, ты прошел полмира // В исканьях счастья своего – // Не сотвори себе кумира // Ни из себя, ни из него». Неоднократно подчеркивавший жизненную и эстетическую весомость «песендрузей»,202 Визбор придал своим педагогически ориентированным произведениям интонации дружеской поддержки, с мягким наставлением указующей выходы из отчаянного состояния. В этом плане стихи и песни рассматриваемого круга обращены к 202 См. выступление Ю.Визбора «Нужны песни-друзья» (1966) // Визбор Ю.И. Указ. соч. Т.3. С.349-350. 128 самой гуще повседневности, ее внутренней «драматургии». В песнях «Хуже, чем было, не будет…», «Осколок луны над антеннами колок» (обе – 1976) педагогика оборачивается своей практической, повседневной стороной. Соединяющий метафизическую глубину и точность материально-предметной сферы поэтический язык подводит слушателя к разговору о таинственной внутренней жизни через образы знакомых явлений: «возьмем всю наличность души», «счищая всю накипь с сердец», «чтоб компас души верный путь указал»… Обобщенная форма лирического «мы» позволяет увидеть в звучащем назидательном обращении опору на лично пережитое: Нас память терзает и судит, Но я говорю: «Не горюй! Ведь хуже, чем было, не будет – Я точно тебе говорю». Опасная наша дорога, Возможен печальный конец, Но мы приближаемся к Богу, Счищая всю накипь с сердец. Осознание значимости коммуникативного и воспитательного смысла песенного творчества оригинальным художественным способом выразилось в песне «Обучаю играть на гитаре…» (1976), живописующей сам процесс педагогической деятельности. В центре здесь – образ поэта-песенника, глубоко причастного драматизму личных переживаний разочарования окружающих людей. «ледокольщика Обучая Сашу Седых» испытывающего гитарному боль искусству, любовного герой в непринужденной форме передает ему мудрое отношение к житейским скорбям. Чуждый учительскому высокомерию, поэт-«педагог» воспринимает это обучение-общение и как школу духовного самовоспитания: Говорит он мне: «Это детали. Ну, ошиблась в своей суете…». Обучаю играть на гитаре И учусь у людей доброте. В ряде визборовских песен на первый план выступает рефлексия лирического «я» о своих жизненных «университетах». В стихотворении «Пинозеро. Сентябрь» (1957) в качестве таковых предстают суровые северные края, где проходила армейская служба героя: «Здесь учился жизни боевой: // Песни петь, чеканить строевой». В явленной «сюжетной» динамике раскрывается «внутренняя» педагогика, свободное самовозделывание личности на основе не коллективистских шаблонов, но неповторимого житейского опыта: И, шагая по глухим лесам, Без наук я научился сам, Чувствуя, что дело горячо, Подставлять усталое плечо. 129 Часто педагогический смысл обнаруживается и в духовном контакте лирического героя Визбора с воспетым им миром гор – как, например, в песне «Не устало небо плакать…» (1963) или «Памирской песне» (1977), где горная стихия видится как мудрая, наставляющая человека сила жизни: «Горы – это мудрая лекция «Вечность и я»». Проницательность тонкого художника-педагога ощутима в размышлениях Визбора об альпинизме, где «человек соревнуется с природой, с ее бесчувственными и безжалостными силами… Он возделывает сам себя…». В визборовских песнях, характеризующихся разнообразным персонажным миром, богатством сюжетных ситуаций, педагогическая проблематика прорастает из опыта повседневности, конкретики личных и профессиональных судеб героев. Если в стихотворении «Учения» (1956) важна поэтизация самого процесса «учения», имеющего широкий, выходящий далеко за пределы военной сферы жизненный смысл, то в психологизированной песенной мининовелле «Случай на учениях» (1955) ответом на минутную слабость солдата становится наставническая мудрость старшины, чья речь, свободная от казенного дидактизма, выдвигает на первый план индивидуальноличностную составляющую «педагогики»: …Ведь каждый наш поход – упорный бой, Бой с непогодой, за прямую связь, Бой за выносливость – с самим собой. Мы учимся, чтоб побеждать и жить! Надеюсь, ясно, что вам говорят? Катушки и все прочее сложить И не шуметь в казарме… Люди спят. Именно в обстановке напряженного профессионального труда показано Визбором жизненное воспитание и самопознание героев. Это и дальнее морское плавание «по путям надежды и познанья» («Вот вы тоже плавали когда-то…», 1958), и естественное присутствие назидательных нот в «ролевом» сказе бывалого капитана, где опровергаются обыденные представления о морской службе («ты думаешь так…»), а лирическая проникновенность и даже исповедальность соединены с величавым достоинством персонажа: И если осудит нас кто за усталость – Пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай хоть самую малость, Потом же, товарищ, сердись на тралфлот. («Тралфлот») Близкое педагогическое звучание имеют и песни-репортажи Визбора («Репортаж с трассы Хорог – Ош», «Песня-репортаж о строителях КамАЗа» и др.), где образы пути, «тяжких дорог» жизни насыщены и общечеловеческим, и профессионально определенным 130 смыслом – так же, как и дружеские советы начинающему свой труд «приятелю» органично соединяют здесь техническую составляющую со словами душевной поддержки: Бензин имей, во-первых, Резиной дорожи И главный козырь – нервы, – Смотри, не растранжирь. («Репортаж с трассы Хорог – Ош») Духовно-воспитательная направленность присуща и песням Визбора, обращенным к грядущим поколениям, что органично вписывается в традиционное русло отечественной культуры. Если в «Караульной службе» (1963) обращение к «тридцатому веку» с предложением «измерить мужество свое» тяготами военной «службы караульной» предстает на грани юмора, то широкая адресация песни «Помни войну» (1970), где патетика соединена с простыми разговорными интонациями, связана с оживлением в исторической памяти конкретных эпизодов войны и трансформацией «наказа» потомкам в непринужденную беседу: Помни войну, пусть далёка она и туманна. Годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну! Это, право, вовсе не странно – Помнить все то, что когда-то касалось всех нас… Итак, сила педагогического потенциала поэзии Визбора обусловлена тем, что в его песнях, плотно «населенных» самыми разными персонажами и передающих многообразные типы межличностных связей, художественно запечатлелись главные пути эмоционального воздействия – через негромкую и неформальную беседу, исподволь сокращающую дистанцию между субъектами воспитательного процесса, наглядное совместное познание мира, активизацию творческого воображения собеседника. При этом постижение общеловеческих ценностей, ценностей того или иного профессионального сообщества, коллектива пребывает в психологической реальности произведений Визбора в равновесии с формированием свободной личности, воспринимающей «школу» жизни сквозь призму индивидуального опыта. Органичное соединение обращенных к окружающим назидательных интонаций и непрерывного самовоспитания лирического «я» в общении с ними придает «творческой педагогике» его стихов и песен оригинальность и психологическую убедительность. И, таким образом, сам феномен авторской песни предстает как предмет не только филологического, но и комплексного – междисциплинарного изучения. 131 4. Проза поэта-певца Художественная проза Ю.Визбора, как и его творчество в целом, остается пока вне должного научного осмысления. А между тем, пронизанные песенно-поэтическими мотивами, ассоциациями, его повести и рассказы самобытно воплощают эстетические черты важнейшего для XX в. синтетического явления – прозы поэта. Возникающие в произведениях Визбора 1950-80-х гг. реминисценции из песен разных жанров трансформируют прозаическую ткань, заряжая ее атмосферой бардовской поэзии эпохи, широко бытовавших тогда «самодеятельных» песен. В повестях «На срок службы не влияет» (1957-63), «Завтрак с видом на Эльбрус» (1983), рассказах «Оля» (1963), «Ноль эмоций» (1965) и др. складывается «интертекст» авторской песни: новое звучание обретают здесь строки из поэзии В.Высоцкого, Б.Окуджавы, А.Городницкого, Ю.Визбора; воссоздается «поющий» дух времени. Многие из песенных мотивов сопряжены в прозе Визбора с фронтовой памятью, песнями военных лет, с которыми была генетически связана авторская песня. В повести «На срок службы не влияет» армейский быт середины 1950-х гг. ассоциируется в сознании героев с недавней войной, с пронзительной песней М.Бернеса из фильма «Два бойца», звучащей в нем музыкой, которая потрясла молодых персонажей произведения: «И музыка такая играет – ну душу разрывает!». В «Завтраке с видом на Эльбрус» раздумья о драматичной судьбе поколения шестидесятников, оказавшегося «на самой последней подножке воинского эшелона», получают смысловое приращение и лирическую «подсветку» в реминисценциях из фронтовых песен, из «Военной песни» (1966) В.Высоцкого, где эпизод трудного похода изображен на фоне столь дорогого для Визбора мира гор: «Написано в песне: «…ведь это наши горы, они помогут нам!» Да, это были наши горы, любимые и желанные, белые и синие…». Именно в приобщении к стихии гор герой повести Павел находит не только облегчение душевной боли, но и обретает новое чувство Родины, ее истории. Стихотворные реминисценции придают визборовской прозе лирическую проникновенность и подчас исповедальное звучание. Мотивы песенных «вкраплений» развиваются и углубляются в прозаическом повествовании. Рассказ «Автор песни» (1960) выстраивается как многотрудная история сочиненной в разведке песни, получившей спустя много лет широкое бытование. «Песенный» сюжет, система песенно-поэтических образов, конденсируя личную и историческую память героя и его поколения, воздействует на временную организацию произведения и предопределяют ассоциативную, нелинейную повествовательную структуру рассказа. В 132 сознании повествователя – участника того похода – на настоящее, когда он услышал знакомые гитарные аккорды и слова, накладываются драматичные воспоминания о решающем военном эпизоде. Из его вчувствования в песенные образы гор рождаются целостное понимание пройденного жизненного пути, рефлексия о себе, а также о погибшем товарище, простом сержанте – авторе песни. Суровая жизненная реальность преображается здесь в зеркале песенно-поэтического творчества. Размышляя об концепции личности в прозе Визбора, Л.А.Аннинский подметил здесь «непрерывную пробу характера, который ищет трудностей и не боится их».203 Исследование мироощущения людей трудных призваний, выражающих себя в песенном творчестве, весьма характерно не только для поэзии, но и для прозы Визбора. В рассказе «Ноль эмоций» одним из ключевых эпизодов становится гитарное исполнение моряком «Песни полярных летчиков» (1959) А.Городницкого, укрепляющей слушателей в ощущении родства представителей различных сложных профессий. В прозаическом «окружении» песенного фрагмента развертываются лейтмотивы последнего, а изображение личностного восприятия произведения матросами обогащает его образный смысл. С музыкальными ассоциациями связано в некоторых произведениях Визбора и раскрытие глубинной сущности той или иной профессии. Так, место радиста на корабле в рассказе «От бани до бани» (1963-1965) негласно определяется в том числе и его музыкальным вкусом: «Хорошо бы, чтоб радист был просто компанейским парнем… любил бы музыку, доставал бы… хорошие фильмы и новые записи Окуджавы…». Внутренняя причастность вольному духу бардовской поэзии выступает здесь как важный критерий характеристики личности персонажа. Песни разных жанров и сфер бытования становятся у Визбора своего рода «лицом» того или иного сообщества (армейские, студенческие песни и т.д.). В повести «На срок службы не влияет» разнообразные по ритму и содержанию армейские, строевые песни дают возможность представить особый характер межчеловеческого единения в этой среде; важно здесь и развернутое отступление, в котором раскрывается авторская рефлексия о социокультурной мотивации феномена массовой песни. Изображение процесса исполнения этих песен несет в повести и значимую сюжетно-композиционную функцию: их мотивы подчас неожиданно предвосхищают повороты судеб героев: «Неведомый человек… ставил через одну песню «Замела метель дорожки, запорошила», и это напоминание о близком снеге, зиме звучало как эпиграф к нашей будущей жизни». В прозе Визбора песенные ассоциации спроецированы и на сферу многообразных личностных переживаний персонажей – во многих эпизодах спонтанное цитирование 203 Аннинский Л.А. Стреляющие ветки // Визбор Ю.И. Указ. соч. Т.2. С.8. 133 героями тех или иных строк становится их важной речевой характеристикой. Так, воодушевление, игра молодых сил у одного из центральных персонажей повести «На срок службы не влияет» ярко выражаются в цитировании им строк из известной романтической песни с экзотическим колоритом на стихи Р.Киплинга («На далекой Амазонке…»), исполнявшейся и самим Визбором. И, напротив, мучительные терзания героя повести «Арктика, дом два» (1968), поневоле предавшего своих товарищей-пилотов, вновь художественно раскрываются в разветвленной системе музыкально-песенных ассоциаций: «В сердце у Санька надрывно и сразу заиграл какой-то трагический гитарист, ударяя пятью пальцами по струнам раздрызганной гитары…». Более того, загадка человеческой личности иногда художественно постигается автором не иначе, как путем проникновения в содержание и эмоциональную ауру излюбленной песни персонажа. Так, переживания героини рассказа «Оля», на долю которой выпали нелегкие испытания –гибель родителей в блокаду, юность, проведенная в детском доме, – «рифмуются» с элегически звучащими «ленинградскими» мотивами песни А.Городницкого «Снег» (1958), которую она вдохновенно исполняет и цитаты из которой опоясывают все повествование. В психологической повести «Завтрак с видом на Эльбрус» осмысление любовной драмы главного героя происходит в атмосфере философско-элегических песен Б.Окуджавы и Ю.Визбора. В задушевной беседе Павла с другом с уст последнего непреднамеренно слетает цитата из «Песенки о дальней дороге» (1967) Окуджавы, пронизанной тягой «отрешиться» от преходящих переживаний, по-новому ощутить «дальнюю дорогу» жизни. Лирическая тема «песенки» неожиданно полно высвечивает сокровенное, не сразу осознанное стремление главного героя к внутреннему обновлению, а сам психологический «механизм» естественного, спонтанного, пусть и неточного, цитирования героем произведения Окуджавы выявляет глубокую укорененность песенных текстов поэта в повседневном сознании. Ностальгические же воспоминания персонажа о пережитой любви звучат «под аккомпанемент» визборовской элегии «В Ялте ноябрь» (1971), мотивы которой обретают в повести дальнейшую сюжетную динамику. Подобное взаимодействие поэзии и прозы, лирических песенных мотивов и прорастающих из них целостных «сюжетов» судеб персонажей существенно для прозы Визбора. Вообще драматизм любви, жизненного пути героя метафорически сопрягается в повести с собирательным изображением судьбы поэта-певца, взыскующего эмоциональной связи с миром, со слушательской аудиторией: «Я был предан до конца ей, нашей любви. Но песня наша оборвалась на полуслове, будто певец увидел, что из зала ушел последний слушатель». 134 Если в публицистических выступлениях Визбора рефлексия о бардовской поэзии и песенном творчестве выражалась напрямую, то в его повестях и рассказах она получает художественное воплощение, органично претворяясь в сюжетной динамике, логике развития характеров, передаче творческого климата эпохи. Раздумья поэта о роли песни в общении, самопознании личности и поколения, чувствовании природного мира, современности проявляются во врастании песенных цитат в прозаический текст, в его повествовательную ткань, в речь автора и персонажей. Песенно-поэтические образы как самого Визбора, так и других бардов, предстают здесь в широком спектре индивидуальных интерпретаций, импровизированных ситуативных прочтений и обретают благодаря этому многоплановый художественный смысл. Таким образом, осмысление поэтики прозаических произведений Ю.Визбора тесно сопряжено с уяснением их синтезированной лироэпической природы, основанной на нераздельности прозы и творческой практики поэта-певца. 135 5. «Новый Визбор»: песенно-поэтическое творчество Олега Митяева (авторская песня на современном этапе) Синтетическое по своей природе искусство авторской песни, рожденное культурой и общественным климатом срединных десятилетий XX в., меняя свой образный язык, формы бытования, отчасти и слушательскую аудиторию, взаимодействуя со смежными искусствами, включая популярную песню, сохраняет на рубеже веков свою художественную самобытность и представлено поэтами-бардами разных поколений и творческих ориентаций. Дебютное публичное выступление Олега Григорьевича Митяева (род. в 1956) со ставшей знаменитой песней «Как здорово» состоялось в 1979 г. на Ильменском фестивале бардовской песни. С конца 1980 – начала 90-х гг. появляются первые публикации поэтапевца, альбомы и книги его песен. Критика активно откликалась на творчество Митяева, давая ему отдельные, подчас небезынтересные оценки, однако научного осмысления, соотнесения с традициями русской поэзии и авторской песни этот материал еще не получил. Довольно скоро после появления произведений Митяева рецензенты заговорили о нем как о «новом Визборе»,204 отмечая поистине визборовскую лирико-романтическую тональность его стихов и песен, что косвенно подкреплялось и фактами неоднократного исполнения Митяевым песен старшего барда. Также в прессе не раз указывалось на «промежуточное» положение его творчества между традиционной авторской песней и популярной музыкой. Подобная «пограничность» эстетического позиционирования поэта вызывала разноречивые оценки: от восприятия его в качестве «последовательного представителя традиционной авторской песни» «профанации» этого искусства. Наиболее до усмотрения в его произведениях точны, как представляется, критики, отметившие эстрадность, присущую в известной степени исполнительской манере, сценическому облику Митяева и чуждую непосредственно текстам его песен, лучшие из которых достойно вписываются в традицию «высокой» бардовской поэзии. Генетически митяевское творчество восходит к лирико-романтической ветви авторской песни, представленной прежде всего именами Б.Окуджавы, Ю.Визбора, Н.Матвеевой и др. Это влияние ощутимо уже в начальной песне «Как здорово» (1979) – раннем образце романтической пейзажно-философской элегии. В подлинно лирическом, 204 Цит. по: Митяев О. Светлое прошлое: Стихи и песни с нотным приложением / Сост. Р.Шипов. М., ЛокидПресс, 2003. С.152. Далее все тексты песен О.Митяева и отзывы критиков приведены по этому изданию. 136 задушевном исполнении звучат столь характерные для бардов интонации негромкого доверительного разговора, теплого обращения к близкому собеседнику. Беспредельное пространство под «куполом неба», разнообразный мир личностных связей предстают здесь «одомашненными» в атмосфере общения в тесном и в то же время открытом для родственных по духу людей кругу: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!». «Ты», «мы», «кто-то очень близкий», «те, чьи имена, как раны, на сердце запеклись» – предстают в стихотворении как ценностные величины, субъекты лирического переживания: и коллективного, и индивидуального для каждого из персонажей. При достаточно традиционной нетривиальные романтической поэтические находки, стилистике некоторые песни интересны, оригинальные однако, метафорические сцепления далеких образных планов: «Струна осколком эха пронзит тугую высь»; «…купол неба, большой и звездно-снежный»… Жанрово-стилевые истоки ранних произведений Митяева связаны с изначально фольклорными путевыми, походными песнями, которые переосмыслялись в бардовской поэзии, и в творчестве Визбора в частности. В стихотворениях Митяева «Оттолкнется от перрона» (1982), «Фрагмент» (1983) в элегическом звучании песни-путешествия слышны ноты интимной, психологически насыщенной лирики. Невербальные детали личностного общения лирического «я» с близкой душой («Только иногда глазами говорим по существу») получают таинственное соответствие путевым впечатлениям от внешнего мира, размыкающимся в бесконечность мироздания: А вагон опять смущенно Полустанок оттолкнет, И под свет звезды зеленой В темной сини поплывет. Для образного ряда «путевых» песен Митяева («Весенний призыв», «Таганай», «За Полярным кругом» и др.) характерны, с одной стороны, вполне традиционные приметы «визборовской» ауры «недопетых песен у костра», «походной юности», северных краев – с их и романтикой, и памятью о суровых исторических испытаниях; узнаваемые атрибуты жизни лирического «я»: «штормовка», «рюкзак», «поезд», «станции» и т.п. С другой стороны, здесь проявилась импрессионистской поэтике и оригинальность полутонов, из творческой которых манеры Митяева: складываются в контуры психологической «мининовеллы»; в приближенности «обжитого» лирическим чувством мирового пространства к переживаниям персонажей («А к стеклу прильнули звезды»); в усложненных образных сцеплениях, которые рождаются через восприятие мира в движении: «И скользят артерии рябин по холоду // Сквозь немую ярмарку сорвавшейся листвы…». Хронотоп пути, движения, передаваемый, например, в стихотворении 137 «Фрагмент» ритмическими чередованиями, обретает у Митяева и философский смысл, все чаще ассоциируясь с изгибами индивидуальной судьбы. Сохраняя хронотопические ориентиры пути, далеких и непознанных пространств, пейзажно-путевые элегии Митяева постепенно обогащаются жанровыми признаками элегии философской. Это ощутимо в реквиеме «Воскресение» (1997), посвященном памяти Визбора и соединяющем в процессе авторского исполнения задумчивоэлегическую тональность с элементами речитатива. Лирический портрет любимого барда, со «спокойной вязью его слов», предстает здесь и в ракурсе житейских «сюжетов» («Сколько раз через этот вокзал // Он опять к суете возвращался»), и в мерцающей перспективе таинственного посмертного пути: И, прощаясь, он двери толкнет, Разомлевший от пара и водки, И пойдет потихонечку к лодке, И домой между звезд поплывет. По верному замечанию Ю.Кукина, в песенно-поэтическом творчестве Митяева создан собирательный образ современника – человека «талантливого, лиричного, ироничного и, главное, думающего». В философских элегиях Митяева конца 1980-х и 1990-2000-х гг. («Живут такие люди», «Светлое прошлое», «Дорога», «Остров», «Неутешительные выводы», «Огоньки» и др.) элементы путевой зарисовки обретают драматичные ноты, достигают уровня образной онтологии жизненного пути и насыщаются подчас, как, например, в стихотворении «Дорога» (1993), мифопоэтическими ассоциациями: Только дату на борту грузовика Я сквозь изморозь никак не разберу. То ли год, когда вернусь издалека, То ли месяц тот, что встречей наградит, То ли день, когда глубокая река Бесконечную дорогу преградит. Элементы условно-поэтической образности («пароходик отходит в светлое прошлое… туда, где нас по-прежнему помнят…») соединяются со стремлением лирического «я» в простых житейских впечатлениях ощутить бесконечность мира, манящую присутствием внутренне близких людей («Живут такие люди в далеких городах, // Что я по ним скучаю, как по дому»), чтобы с ними «сверить наши истины до точек». Образный ряд строится здесь на столь характерном и для стихов-песен Ю.Визбора взаимопроникновении вещественного и метафизического («сломалась в будильнике времени хрупкая ось»), обыденные явления предметного мира предстают одушевленными спутниками героя: Нас кухня пустит на постой, Уставших от безверий, Согреет клеткою грудной Настенной батареи. 138 А в песне «Неутешительные выводы» (1998) простота грустно-ироничных разговорных интонаций («Неутешительные выводы // Приходят в голову по осени…») таит за собой углубленную лирическую медитацию, выраженную протяжным ритмом исполнения и открывающую в молчаливом природном космосе – непостижимом и в то же время обжитом и знакомом, как «первый лед на нашем озере», – сопряженность с душевными тревогами: Не мучительная, не запойная, А спокойная зимняя ночь. Бьется птица в груди беспокойная И ничем мне не может помочь. Одним из примечательных жанровых образований стали у Митяева и поэтические портреты городов; различные по степени детализации и внутренней организации городские зарисовки – жанр, получивший оригинальную разработку еще в песенной поэзии Б.Окуджавы. В ранней «Рассветной прелюдии» (1981) штрихи городской зарисовки сочетаются с элегическими мотивами и входят в изображение тихой, печальной природы («И город просыпается, // Но кажется, что спит»), пробуждающей в лирическом «я» смутные внутренние мелодии и творческие интуиции: «И в ветках нот запутаюсь, // Шурша листвой опавшею…». Как это нередко было в городских «песенках» Окуджавы, город предстает в митяевских песнях в своей одушевленной ипостаси, как хранитель исторической памяти и вместилище многих человеческих судеб. Так, в песне «Старые улицы» (1986) запечатлена телесная органика городского мира – с его улицами, «припоминающими» прошлое, «как девичьи свои фамилии», бревенчатыми стенами домов, у которых, «словно в морщинах у старика – // В трещинах грусть и память…». Духовно-эмоциональный мир городских улиц вбирает в себя и отголоски исторических катаклизмов, и тревоги современности: «Как по их спинам шли трактора, // Как грохотали танки…». В своей потаенной музыкальной гармонии город становится и действующим лицом в интимных переживаниях лирического «мы»: Как в парусиновых туфельках джаз, Помнят, мы танцевали. Как провожали улицы нас И как подолгу ждали. Сопряжение «телесной» конкретики и исторической масштабности городской зарисовки достигается и в стихотворении «Санкт-Петербург» (1995), которое своими мотивами перекликается с разноплановым «ленинградско-петербургским текстом», созданным в бардовской поэзии (Б.Окуджава, А.Городницкий, А.Дольский и др.). В 139 панорамных картинах и частных приметах городского быта и бытия – от «шпиля высокого», что «блестит сквозь года», до «разбитых ладоней плотин» – вырисовывается исторически емкий и одновременно глубоко личностный образ обремененной нелегким вековым опытом души города: «Он к себе суров и к жителям своим, // Он не злой, но так уставший от мессий…». Модальность обращения к персонажу-собеседнику, повороты судьбы которого обусловлены драматичными взаимоотношениями с Петербургом («И однажды этот город ты предашь // И в другой далекий город убежишь»), расширяет изобразительную сферу, привнося в образ думающего и чувствующего города оттенок пронзительного лиризма: «И, конечно же, он примет и простит, // И ты больше не уедешь никуда». Своеобразную лирическую «дилогию» составляют стихотворения, обращенные к родному для их автора Челябинску («Ни на что мне этот город не сменять…», 1985, «Город Челябинск», 1989). Пронизанное детскими ассоциациями одушевленное городское пространство предстает в песнях Митяева в импрессионистской цветовой гамме: «И окрасятся дома смущенно-розовым», «синим смогом одетый», «аляпист, прочих родней планет…», «в желтых огнях Челябинск», – что соединяется с присутствием и точных топонимических реалий, и буднично-прозаических подробностей («челябинские лужи», «пропахший сталью воздух»). Участный лиризм в создании образа Челябинска, который «дремлет, как старый дед» и подобен «родственнику и чудаку», позволил поэту воспринять город как инвариант домашнего, личностно освоенного хронотопа («По челябинским по лужам босиком // Я пройду, как по своей огромной комнате») и в то же время в качестве спутника в мечтах о неведомом, о «дальних далях». Это придает городской зарисовке элементы философской элегии, раскрывающей таинственную и индивидуальную для каждой души «диалектику» между домашней устойчивостью и непознанной мировой бесконечностью: Тонут домики в хляби, Снова город Челябинск – Мой родственник и чудак. Синим смогом одетый… <…> Где-то же теплый климат Без затяжной зимы. Разве бы не смогли мы Жить там? – Так что же мы, Как катера из меди, Портимся на мели… Слушай, давай уедем К морю на край земли… В песне «Крепитесь, люди! Скоро лето!» (1997) чудесное проступает в любовно обрисованных привычных реалиях столичной жизни, где «разводы метрополитена» 140 подобны «большой разноцветной руке». Примечательно, что в центральной, повторяющейся в качестве рефрена строфе город предстает как текст, дискурс205 глубоко доверительного общения, послание, обращенное к собирательному, но непременно внутренне близкому адресату, который является частью городской общности: И, конечно, еще прочитаю Эту надпись в сиреневой мгле, Что так любезно была прогрета На замороженном троллейбусном стекле: «Крепитесь, люди! Скоро лето!» – И мне в который раз покажется теплей. Диалогическая причастность лирического героя этому адресованному и ему текступосланию открывает в стихотворении внутреннее, сокрытое от поверхностного взгляда, человеческое измерение городского пейзажа: «И душа, словно льдина, отчалит // В дрейф по старым дворам и по кухням…». А в песне «С добрым утром, любимая!» (1993) смысловой центр дорогого поэту жизненного пространства малого «городка периферийного», где «отдает весна бензином», также образует текст-послание, который заключает в себе бытийно значимую коммуникацию любящих сердец: «С добрым утром, любимая!» – Крупными буквами. «С добрым утром, любимая!» – Не жалея белил. И лежит нелюдимая Надпись, огни маня, И с луны различимая, И с окрестных светил. Весьма тонкой подчас оказывается у Митяева жанровая грань между городской зарисовкой и лирической, творческой исповедью героя, как, например, в песне «Авиатор» (1991). Романтический образ полета «над притихшею летней Москвой», «над Таганкойвдовой» одухотворяет привычные будничные детали города («стая высохших пеленок»), прочувствованного как средоточие жизни близкой души – лирического «ты». Эта непривычная оптика обозрения города с высоты, над временем и пространством становится метафорой творческого вдохновения героя, переплавляющего картину мира и сферу интимных переживаний властью воображения: И вот так, бесконечно давно, Я кружусь и кружусь над Москвой. Я как будто снимаю кино Про случайную встречу с тобой. 205 См. материалы круглого стола на филологическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова: Город как дискурс (Публикация Т.Д.Венедиктовой, Т.Боровинской, Е.Кулик) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2004. №3. С.98-111. 141 В отзывах на творчество Митяева было справедливо отмечено возрастающее тяготение поэта к новеллистичной организации лирического сюжета и связанное с этим повышение удельного веса психологической детализации. Контуры психологической «новеллы», передающие драматизм сокровенных, невысказанных отношений «я» и «ты», проступают в песне «Сон» (1983). Тревожное лирическое переживание скрытой любовной драмы «невстречи» передано дискретным сюжетным рисунком, где «пропущен» центральный эпизод общения героев; поэтикой полутонов, элементами путевого хронотопа («на вокзал, на первый поезд»), а также чередой пейзажных образов: «А восход не потушить – // Горизонт уже распорот. // В эту ночь огромный город // Вьюга весь запорошит…». Новеллистическая структура митяевской песни проявляется и в форме имплицитного диалога с близким человеком, как в песне «Давай с тобой поговорим» (1987), где в самом лирическом монологе ощутимо присутствие личностной экзистенции «ты», «другого» и косвенно передается его голос. Напряженную сюжетную динамику обретает нередко и любовная лирика поэтапевца. Так, в «Самой любимой песне» (1987), звучащей в авторском исполнении как протяжная лирическая песня, проникновенная любовная исповедь героя развертывается благодаря фольклорному в своей основе параллелизму с подвижными стихиями природного бытия, несущими таинственные предвестья судьбы. Подобный параллелизм, запечатленный автором в неординарных образных сцеплениях предметного и метафизического, привносит в частное любовное переживание универсальный смысл: А той ночью я бродил по пустому городу, Собирая паузы да осколки дня, А ветра до петухов все играли с вороном Да случайно с листьями принесли тебя. Прием сюжетного «умолчания» о событийных подробностях любовной драмы применен и в песне «Лето – это маленькая жизнь» (1995), где интимные переживания лирического «я» косвенно отражены в россыпи психологических деталей, параллелях с меняющимися состояниями природы. В новеллистичных песенных зарисовках Митяева возникает и разноплановый персонажный мир, мозаика пестрых характеров и напряженная «драматургия» человеческих судеб. Яркий пример психологической новеллы такого рода – известная песня «Соседка» (1986), звучащая в исполнении как неспешное бытовое повествование, которое оборачивается, однако, обобщением о повторяющихся закономерностях судьбы. Внимание к неустроенности личной, семейной жизни героини, переживаемой ею драме 142 одиночества, к болезненным «неполадкам в душе» (М.Ковтунова) заостряется посредством точных бытовых, предстающих каждый раз в новом эмоциональном освещении, деталей-лейтмотивов: «Сквер листву меняет, // Дочка подрастает… // И пустяк, что не наточены ножи…». Пунктир повествования о перипетиях ее жизни, сопровождаясь «драматургичными» ремарками («дочка спит, торшер горит», «где-то капает вода, плащ в углу висит»), проникнут и горькой иронией, и одновременно мягким, неосуждающим авторским сочувствием, душевной теплотой. Введение в образный мир песни фонового городского пространства («зеленая звезда позднего такси»), смена лирического субъекта в финальной части наполняет рассказ об одной несложившейся судьбе тревогой за духовный мир современника, неустойчивость личностных, семейных привязанностей, порожденную влиянием «века казенного»: Правит нами век казенный, И не их это вина – Некого винить… <…> Фонарю приснились ливни – Вот теперь он и не спит, Все скрипит: пора, пора. В песенной «новелле» «Вечная история» (1995) сюжетные перипетии, конфликтные узлы в личных судьбах персонажей – «актрисы» и «простого полярника» – раскрываются во взаимопроникновении окрашенных легким юмором интонаций устного, импровизированного рассказывания («Итак, он спал на льдинах…», «А дальше все по кругу…») и внутреннего драматизма непрочности человеческих общностей, который ощущается в повседневной динамике житейских обстоятельств: А дальше все по кругу: Развод в суде районном И неотложка маме, И поиски жилья. Потом опять на время Покой в быту законном, Гуляния с собакой И крепкая семья. Логика жанровой динамики песенных «новелл» Митяева связана с «романным» расширением охвата в них судеб лирического «я» и других персонажей. В ряде подобных «песен-судеб» дух времени ощущается в призме семейной темы. В стихотворении «Мой отец» (1986) в зеркале участно воссозданной личной, внутренне драматичной жизни героя отразились противоречивые знамения эпохи и повороты истории: и «тридцать лет профсоюзных собраний», «люди будущего – на фронтонах ДК…», и «задумчивый стих Окуджавы». Ощущение героем-повествователем себя как наследника нелегкого опыта 143 уходящего поколения насыщает эмоциональный фон стихотворения пронзительным лиризмом и нотами философической грусти: Жизнь и боль – вот и все, что имею, Да от мыслей неверных лечусь. А вот правды сказать не умею, Но, даст Бог, я еще научусь. На лирическую тему детства и материнства спроецирована и песня-судьба «Мама» (1996), где в проникновенном образе матери, «одной в осеннем городе», деталях заветного для героя жизненного пространства («город расположен далеко», «в подъезде ржавая пружина») явлена диалектика не умирающих в своей свежести детских воспоминаний и невозвратных потерь на жизненном пути: «И как же мы бессильны пирожками с вишней // Возвратить ту радость детства своего…». А в «Песне для старшей дочери» (1983) романное обозрение жизни героини, ее женской участи в форме прямого обращения к ней раскрывается в масштабе предстоящей, интуитивно предугадываемой судьбы, этапы и повороты которой ассоциируются в каждой новой строфе с ритмами природных циклов («забредет васильковый рассвет», «будут падать на крышу снега и пурга колыбельную петь»). Этот параллелизм в сочетании с сюжетными штрихами, раздвигающими рамки картины человеческих судеб в финальных строках, – придают песне философское звучание и характер лирико-романтического открытия бесконечности бытия: Будешь ждать, будешь долго в окошко смотреть, И уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, Будет кто-то сидеть у костра. Романные песни-судьбы Митяева порой характеризуются условностью персонажного мира: это могут быть таинственный «кто-то», «мой друг», «он» и «она», как в песнях «Тоска» (1996), «Когда проходят дни запоя…» (1996). Во внешне заурядных и привычных коллизиях в жизни героев, в их извечной у Митяева смутной романтической устремленности от «пейзажей пасмурного дня» к далеким «знакомым городам», «где жизнь по-прежнему течет, // Где был он так любим и молод», в психологически емких предметных деталях – от «гулко» звенящего телефона до скрипа качелей во дворе, подобных «на зиму оставшейся птице», – прорисовывается подавляемый грузом повседневности и несбывшихся упований, но не утративший до конца высоких порывов душевный мир современника. Персонажи иных «романных» митяевских песен обрисованы с большей социальнопсихологической конкретизацией. Это, к примеру, «маленький человек» нового времени в песне «Почтовый чиновник» (1992). Дискретные сюжетные звенья запечатлели жизнь героя, кульминацией которой стало прочтение чужого письма, внезапно открывшего в 144 унылой сумрачной повседневности «чиновника смирного», кому «так немного осталось от жизни», новое, небудничное измерение: «Но вдруг ему вздумалось, что далеко, // В неведомом городе N, его ожидают…». Финальное умолчание о подробностях дальнейшего пути покинувшего свой дом персонажа передает неисповедимость внешне ординарной судьбы, привносит в реалистически конкретное изображение социальных обстоятельств таинственно-романтический колорит. Утонченный психологический анализ осуществлен и в известной песне «Француженка» (1990). Уже в самом названии образ героини – «такой же москвички, как была» – рисуется в грустно-ироническом и одновременно сочувственном свете. В отрывистых новеллистичных зарисовках эпизодов жизни в «семнадцатом квартале» проступает драматизм ее глубинного душевного несовпадения с чуждыми ритмами парижской жизни и природы: «Каштаны негры продают // У площади Конкорд, // Бредет сквозь лампочек салют // Бесснежный Новый год». Внутренний мир и судьба героини раскрываются ступенчато: от характеристики извне («тем, кто встретится ей улочкой узкою, не догадаться…»), через косвенную детализацию («в квартире кавардак… что-то и в душе наверняка не так») – к погружению в мир ее грез и воспоминаний («пригрезится Москва белым-бела»), образующих своего рода потаенный «сюжет» этого стилистически незатейливого, но эмоционально многомерного песенного «романа» о судьбе: И, вспоминая сон про дворики арбатские, Она, как в реку, погружается в дела. И несмотря на настроение дурацкое, Она такая же москвичка, как была… В качестве особого жанрового образования выступают в песенной поэзии Митяева исторические зарисовки, обращенные к переломным эпохам национального прошлого, трагическим поворотам XX века и имеющие местами остро публицистическое звучание. В ранней «Провинциальной истории» (1985) сюжетные штрихи событий усобицы Гражданской войны выведены на фоне гротескного образа потрясенного мира («Окна смотрят растерянно – // Снова воля расстреляна»), частью которого оказывается и лирическое «я»: «И найдут – вижу как во сне – // Утром здесь лишь мое пенсне». Единичный эпизод взятия города белочехами перерастает в обобщенно-символический персонифицированный образ: А кровь такая же везде – В столице и в провинции, – Идет в золе по всей земле Гражданская война. Целый ряд исторических песен Митяева построен на «ролевом» перевоплощении, в виде «сказового» повествования свидетеля событий, что придает им стилевую 145 многоплановость и эмоциональную непосредственность («На Торговой площади», «Глазами молодого мещанина», «Солнечное затмение» и др.). Первые два произведения обращены к событиям Первой мировой и Гражданской войн, которые увидены в призме потрясенного сознания обычного человека. В стихотворении «На Торговой площади» (1985) сгущающаяся атмосфера грядущих бурь передается через мироощущение губернского города, где острые социальные контрасты между «веселием» «господ из высшего сословия» и обреченностью «старичонки в зипуне с обшарпанной шарманкою» приобретают апокалипсическое звучание. Болевым «нервом» песни становится горестная исповедь ролевого героя – участника и жертвы «германской» войны, с горечью вспоминающего несбывшееся предсказание шарманщика о счастливой доле: «А теперь лицо мое как окорок заветренный, // Нам германец на окоп все газы распылял. // И на счастье от судьбы достались мне заветные // Два новых, будь вы прокляты, кленовых костыля». Колорит устного повествования свидетеля «закипания» России на пороге революционного хаоса окрашивает и стихотворение «Глазами молодого мещанина» (1985), где в изображении исторических подробностей сквозит онтология Апокалипсиса, подчинившая себе сознание современников: «Офицеры, эполеты // Сбросив, без чинов // Рвутся в поезд, будто в Лету…». А в большей степени публицистичной песне «Солнечное затмение» (1988), явившей «кровавую жатву тридцать седьмого года и тревожное обращение к ныне живущим» (А.Розенбаум), искажающий душу опыт века передается в «монологе сотрудника НКВД», где высвечиваются «изнаночные», болезненные стороны общенародного сознания, отчетливо напоминающие о себе в пору «оттепельных» исторических сдвигов. Примечателен в митяевских песнях рассматриваемой группы и диалог с фольклорными жанровыми формами, традицией народной исторической песни, расширяющий стилевой диапазон творчества поэта-певца. Фольклорным духом проникнута песня-портрет «Ермак» (1986), которая воплощает мощь народного характера «коренного уральского» казака, осмысленную вековым культурно-историческим опытом нации: Ты спроси у стариков – С высоты годов виднее. Сказывают старики Поскладнее… В народнопоэтической стилистике выдержана и песня «Провожала казачка» (1986). Пронзительно-лирическая тема («Провожала казачка до самых ворот // Казака. Не велел до заставы») обрамляет здесь историческое повествование о становлении уральского казачества («На крови зачинался казачий Урал, // На крови и закончился Яик…»), где 146 образная выразительность в раскрытии далеких эпох достигается благодаря неординарным и в то же время предметно точным метафорическим ассоциациям с природным миром: Словно галькой река, кандалами бренчит Каторжан пропыленных колонна. Прежде жизнь как степной подорожник росла, А теперь отцвела, построжала. Исторические сюжеты художественно осмысляются Митяевым и посредством балладных жанровых решений – как, например, в исповедальном стихотворении «Ко мне во сне приходит друг…» (1985), где нравственное напряжение памяти лирического «я» воскрешает трагедийный эпизод гибели друга в Афганистане, разрушающий внешнее, официальное благополучие времени: «Войны как будто бы и нет, // Но друга нет. И это странно, // Что есть седые ветераны, // Которым лишь по двадцать лет…». Значительно подробнее балладный военный сюжет разработан в песне «В осеннем парке» (1982). Сочетая «ролевое» повествование сержанта о роковом бое с фашистскими танками и «объективный» рассказ о судьбе героя, поэту удается посредством напряженнодинамичного интонирования и контрастного перехода от элегически звучащей описательной части («В осеннем парке городском // Вальсирует листва берез») к военной картине – воспроизвести «драматургию» боя. Редуцируя «проходные» сюжетные звенья, в батальном эпизоде автор передал кульминацию трагизма человеческой судьбы в ее слабости перед роковой стихией насилия и смерти и в то же время потенциал превозмогания трагедии в жизнепорождающем природном бытии. Неслучайно даже в самых горьких произведениях Митяева критика отмечала явное или скрытое присутствие светлых тонов: И ахнет роща, накренясь, Сорвутся птицы в черный дым, Сержант лицом уткнется в грязь, А он таким был молодым… <…> «Не закрывай! – кричат грачи. – Ты слышишь, потерпи, родной». И над тобой стоят врачи, И кто-то говорит: «Живой». Особенно личностное звучание имеет у Митяева посвященная А.Галичу песня «Абакан» (1988). Тревожно-вопросительная модальность в переживании современности («щит прибит о перестройке»), нелегкого наследия «лагерного» века – на уровне сквозных лейтмотивов ассоциируется с жгуче-современными, содержащими духовное прозрение народной судьбы в лагерной реальности песнями Галича – в частности, со строками из знаменитых «Облаков» (1962): «Облака плывут в Абакан, // Не спеша плывут облака. // 147 Им тепло, облакам, // А я продрог насквозь на века!».206 Участь нации становится в песне ключом к пониманию изгнаннической судьбы самого барда: Кто в сугробе тающем На парижском кладбище Мокнет, как чужой… В обобщение стоит отметить, что песенно-поэтическое творчество Олега Митяева – одно из не только популярных, но и художественно весомых явлений новейшей авторской песни, опровергающее расхожие суждения об уходе в прошлое этого вида искусства. При том, что творческое дарование поэта – в основном элегического, лирикоромантического склада, жанрово-тематический репертуар его произведений разнообразен: это и философские, любовные элегии, и городские лирические этюды, и сюжетные, «новеллистичные» зарисовки, и «романные» по охвату действительности «песни-судьбы», и различные в жанровом отношении исторические произведения. Опираясь на лучшие традиции стихов-песен Ю.Визбора, Б.Окуджавы, О.Митяев показал художественную продуктивность и социальную востребованность этой традиции в современном культурном пространстве, ее способность обновляться и вступать в творческое взаимодействие с иными жанрово-стилевыми тенденциями. 206 Галич А.А. Сочинения. В 2-х т. М., Локид, 1999. Т.1.С.87. 148 «Страна Дельфиния ». III. Романтический мир поэзии Новеллы Матвеевой Творчество Новеллы Николаевны Матвеевой (род. в 1934) стало самобытным явлением, которое органично вписалось в лирико-романтическое направление авторской песни, представленное именами Б.Окуджавы, Ю.Визбора, Е.Клячкина, отчасти А.Дольского и др. С 1957 г. Матвеева создает песни на свои стихи, писать которые начала еще в военные годы. В 1961 г. выходит ее поэтическая книга «Лирика», а в 1966 г. – две пластинки песен. Начиная с 1972 г. Матвеева пишет песни и на стихи своего мужа – Ивана Киуру, многолетнее творческое содружество с которым стало весьма плодотворным. Как признавалась поэт в одном из интервью, в отличие от многих других бардов, музыкальная мелодия рождалась в ее творческом воображении задолго до стихотворного текста и затем, ритмически варьируясь, в течение долгих лет «находила приют» в сочетании с различными поэтическими произведениями, что знаменовало неустанное «развитие личного мелоса» поэта-певца.207 Настоянная еще на гриновских «дрожжах», романтика в песнях Матвеевой явилась главным путем познания бытия, проникновения в его вековечные загадки. В «оттепельные» годы и позднее этот романтический модус мировосприятия означал внутреннее раскрепощение нации, «вызов казенному коллективизму, тотальному подавлению личности, закону собора и казармы» (Л.А.Аннинский208). В по-детски тонком, грустно-задумчивом голосе поэта-исполнителя звучала, по выражению критика, «колыбельная… орущему и кричащему миру».209 Одним из ключевых жанрово-тематических образований становятся у Матвеевой пейзажные – чаще всего морские – лирические зарисовки, заключающие в себе философские мотивы. Во многих песнях 1960-70-х гг. («Какой большой ветер!», «Кораблик», «Горизонт», «Адриатика», «Корабли», «Синее море», «Аргентинская», «Капитаны без усов» и др.) художественно моделируется относительно автономная от внешней эмпирики поэтическая реальность. В первой из них сквозь штрихи пейзажного эскиза («Какой большой ветер // Напал на наш остров»), в сплетении зримого плана и 207 Робинзонада одинокой гитары. Вместо послесловия. Беседа с Новеллой Матвеевой о ее песнях. (Беседовал М.Нодель) // Матвеева Н.Н., Киуру И.С. Мелодия для гитары / Сост. М.Нодель. М.,1998.С.387. 208 Аннинский Л.А. След гвоздя в стене воображаемой харчевни. Новелла Матвеева // Аннинский Л.А. Барды. М.,1999.С.64-65. 209 Там же.С.63. 149 чудесных метаморфоз во всем живущем («Аж корешок редьки // Из почвы сам вылез») проступает притчевое обобщение о личности «маленького» человека – романтика, сохраняющего, в противовес ветру, разрушительной стихии времени, душевное устояние: А ты глядишь нежно, А ты сидишь тихо, И никому силой Тебя нельзя стронуть.210 Образ личностного противостояния стихии получает развитие в песне «Кораблик» (1961). Построенная на развернутом олицетворении, она соединяет в себе романтический лиризм в изображении повествования, с таинственного использованием морского традиционных мира и сказочных элементы оборотов, эпического песенной интонации неторопливого рассказывания: Жил кораблик, веселый и стройный, Над волнами, как сокол, парил. Сам себя, говорят, он построил, Сам себя, говорят, смастерил. В образе кораблика, сохраняющего право «о чем-то мечтать», «делать выводы самому» в общении с другими судами, иносказательно проявилось сущностное качество песенного героя Матвеевой, самобытного и принципиально «независимого от внешних ветров».211 Условно-романтическая, сказочная образность таила в песнях Матвеевой мощный заряд противостояния и вызова обезличивающим тенденциям несвободной эпохи и была ориентирована на глубинный диалог с мыслящими вопреки официозным догмам современниками. Вещная детализация сплавляется у Матвеевой с притчевой условностью, бесконечностью художественного пространства и времени. Действительно, «ключевые слова поэтического словаря Матвеевой – даль, далеко, горизонт, черта, край, граница»,212 а также многочисленные вымышленные географические названия. В песне «Горизонт» (1961) открытие широкой перспективы бытия происходит в цепочке прихотливых ассоциаций, передающих таинственные сплетения всего сущего, и достигается в процессе доверительного общения с близкой душой: Яхты и пароходы ушли куда-то. Видишь? – по горизонту они прошли. Так же, как по натянутому канату В цирке канатоходцы пройти смогли. 210 Здесь и далее тексты Н.Матвеевой цитируются по изд.: Матвеева Н. Пастушеский дневник. М.,1998; Матвеева Н.Н., Киуру И.С. Мелодия для гитары / Сост. М.Нодель. М.,1998. 211 Аннинский Л.А. Указ.соч.С.64. 212 Соколова И.А. Авторская песня: от фольклора к поэзии. М., 2002.С.220. 150 Пространственные лейтмотивы «натянутого каната», заключающие смысловую ассоциацию с одноименной песней В.Высоцкого 1972 г., образы «края моря» и «края земли», «обрыва отвесного» становятся знаками онтологического напряжения лирического «я», угадывающего в себе и в душе своего собеседника – барда-романтика – таинственную связь с мировой беспредельностью. Распространенная у Матвеевой речевая форма обращения к собеседнику сближает ее поэзию с песнями Б.Окуджавы, Ю.Визбора: Ты же так хорошо это море знаешь, И песни, Песни про эту пропасть поешь, поешь… Если в рассмотренном произведении образ бесконечности развертывается в горизонтальной плоскости, то песня «Адриатика» (1962) построена на иносказательной параллели скрывающейся в морских глубинах «великаньей раковины» – с неисследимыми безднами человеческой души. Выразительная подвижность интонационного рисунка песни, с обилием вопросов, восклицаний, облекает мистическое прозрение чудесного во «всеедином» мире («Раковина … как далека в небе звезда») в форму занимательного, «новеллистичного» рассказа: Кто мне ее, ах, кто мне ее достанет? Водолазил водолаз – Водолазу не далась! Чья тут вина? В импрессионистско-утонченных образной ткани, мелодическом рисунке «экзотических» песен Матвеевой, поэтический мир которых таится «за волоокою далью далекою» и приоткрывается часто в отрывистых «мазках» (как, например, в «Аргентинской»), просматривается преемственная связь с традициями лирики Серебряного века, с «музой дальних странствий» К.Бальмонта, Н.Гумилева… Этот живописный мир «солнечных сказочных песен», как проницательно подметил собрат Матвеевой по бардовскому «цеху» А.Городницкий,213 вступал в непримиримый контраст с атмосферой неприютной московской коммуналки, где жила поэт в начале 60-х гг., и становился своего рода творческим изживанием «коридорной системы» советской действительности, поработившей души многих. В матвеевских песнях романтическая экзотика преломлялась в призме и популярных в бардовской поэзии «пиратских» мотивов 213 («Отчаянная Мэри»), и жанровых элементов пастушеской Городницкий А. Песни о далекой дали // Матвеева Н.Н. Пастушеский дневник. С.1. идиллии 151 («Пастушеское», «Пастораль»), переработанной литературной сказки («андерсеновский» цикл 1972-76 гг.), а также географического портрета («Миссури», «Пингвиана», «Страна Дельфиния»). Пейзажные зарисовки в романтических песнях Матвеевой заключали в себе разнообразные жанровые возможности. Так, в песне «Страна Дельфиния» импрессионистическая морская образность («Набегают волны синие. // Зеленые? Нет, синие») становится экспозицией к последующей лирической исповеди, наполненной антиномичным чувством душевной близости миру далекой мечты – и одновременно дисгармоничным переживанием разлученности с этим миром, онтологической тоской души по утраченному райскому состоянию. Щемящий драматизм окрашен здесь в мягкие лирические тона, а «вещность» романтической образной сферы («Cо штемпелем моей Дельфинии, // Cо штампом Кенгуру»), обилие разговорных оборотов придают песне психологическую достоверность: Белые конверты с почты Рвутся, как магнолий почки, Пахнут, как жасмин, но вот что Пишет мне родня: Пальмы без меня не сохнут, Розы без меня не глохнут, Птицы без меня не молкнут… Как же это без меня? А в неторопливо исполняемой «Песне о далекой дали» через морской пейзажный эскиз дано широкое эпическое обобщение о человеческой жизни. В повествовательном «пунктире» экзистенция лирического «я» («Только помыслишь о дали далекой…») сопрягается с «романным» по масштабу изображением пестрой судьбы персонажа – в ее трагических изломах и в духовном торжестве личности над властью «пучины»: Знаю: пучина морей Скрыла троих сыновей. Не оттого ли с тех пор и доныне Старенький сторож перечит пучине? Пальцем грозит океанской пустыне, Бурю встречая, трясет головой… Романтическая устремленность лирического «я» Матвеевой к «далекой дали» актуализирует в ее поэзии начала 60-х гг. жанровые элементы путевой зарисовки. Дорожная романтика в песнях «Ах, как долго едем!», «Дорожная», «Караван» окрашивается в сказочно-фантастические тона и основывается порой на развернутых олицетворениях («Первый верблюд о чем-то с грустью думал, // И остальные вторили 152 ему…»), причудливых метафорических сцеплениях, характерных в целом для песенного мира Матвеевой:214 …Шел состав, разворотистый такой! Сам помахивал дымом, как рукой, И с презреньем короля Горы, долы и поля Он отбрасывал заднею ногой. При этом матвеевская путевая зарисовка обогащается признаками психологической мининовеллы и становится путем глубокого проникновения в тайну людских судеб и человеческих отношений, которая приоткрывается в контурно прочерченной персонажной сфере, в неприметных, казалось, деталях «дороги тревожной»: и в «многосложном дорожном разговоре» на верхних вагонных полках, и в любовной песне погонщика верблюдов, и в минутной размолвке с другом героя песни «Караван»… А в песне «Старинный бродяга» (1976) происходит своеобразное «ролевое» перевоплощение лирического «я» в странника, бродячего поэта-музыканта: Я только спою: «Дорога – мой дом» – И дальше в путь ухожу… Психологический сюжет выведен в дорожных песнях «пунктиром», он нередко привносит в них элегическое звучание и предопределяет разнообразную ритмику песен, исполняемых, по указаниям самого поэта, то «довольно медленно», то «оживленно», «подвижно». Вообще мотивы движения, непрестанного открытия мира лирическим «я», а также хронотоп пути, «дали» были весьма характерны для творчества других бардов – и Ю.Визбора с его горной романтикой, и Б.Окуджавы, воспевшего «дальнюю дорогу, данную судьбой» («Песенка о дальней дороге»), и А.Городницкого, автора, в частности, многих проникновенных «северных» песен, и А.Дольского, с бесконечными странствиями его героя «по дорогам России изъезженным»… Это объясняется как общим психологическим и историческим климатом «оттепельной» эпохи, так и генетической связью авторской песни с «туристским» песенным фольклором.215 Приметным жанровым образованием в поэзии Матвеевой становятся новеллистичные сюжетные зарисовки, своеобразные песенные «рассказы», вырастающие до бытийных обобщений. Так, песни «Окраины, или дома без крыш» (1961), «Водосточные трубы» (1961) построены на романтическом преображении бытовой городской зарисовки, ступенчатом 214 215 развитии ключевого метафорического Новиков Вл.И. Новелла Матвеева // Авторская песня. М., 2002.С.296. Соколова И.А. Авторская песня… С.53-149. образа. В первом случае 153 кульминацией лирического сюжета становится чудесная трансформация в картине мира. По ходу «эпического» рассказывания городские окраины обретают сказочные черты, вступают в соприкосновение с душевными порывами лирического «я», прозревающего присутствие высокой романтики в прозаической обыденности: «Там на ветру волшебном // Танцевал бумажный сор»; «Плыли, как будто были // Не дома, а корабли». «Окраинный» хронотоп негромкой матвеевской песни как бы исподволь противостоит помпезному официозу песни массовой. В утонченной звуковой инструментовке стиха, в особой «прозрачности» образного ряда выражается взаимопроникновение воспринимающего сознания лирического «я» и «белой ночной дали» творчески преображенного мира: Облики облаков, Отблески облаков Плавали сквозь каркасы Недостроенных домов. А в «Водосточных трубах» обыденная деталь городского пейзажа, погружаясь в лирико-романтическую ауру произведения, приобретает психологический смысл, ассоциируется с сокровенным пространством домашней жизни: А эти трубы Сделали трубочкой губы, Чтобы Прохожим Выболтать тайны домов. Метафорическое уподобление становится у Матвеевой зерном многомерного – на грани воображения и яви, грусти и надежды – повествования о драматичных сплетениях людских судеб, которое развертывается в модальности проникновенной исповеди, участного обращения к одушевленному миру: Верю, ах, верю Тому, что за этою дверью И в том окошке – Измена, обида, обман… Верю, ах, верю! – Но почему-то… не верю. И улыбаюсь Каменным этим домам. Новеллистичная ткань матвеевских песен характеризуется дискретностью, частым опущением сюжетных звеньев, логических мотивировок. Подобное «рассеяние» сюжетного центра происходит в «Песне про котел» (1961), где импрессионистичное изображение безымянного персонажа, «сидевшего» и «мечтавшего» у костра, внезапно обрываясь, раскрывает неисповедимость интонациями задушевного песенного «сказа»: И мы не знаем, Ах, мы не знаем: Был или не был жизненных перепутий, передаваемую 154 Он на Земле, Что в тихом сердце Его творилось, И что варилось В его котле. Обыденные житейские эпизоды, наблюдения порой обогащаются в песенных «новеллах» Матвеевой иносказательным притчевым потенциалом. В песнях «Пожарный» (1961), «Фокусник» (1962) новеллистичная заостренность изображения достигается благодаря тонкому диссонансу завершающих строк с эмоциональным фоном предшествующего рассказа. В первой песне в призме романтической фантазии развертываются детские впечатления от героически-возвышенного образа «пожарного в каске ярко-бронзовой», которые в заключительной строфе оборачиваются скорбным философским обобщением о мире: «А между тем горело очень многое, // Но этого никто не замечал!». Сходное открытие в глубинах лирического «я» Матвеевой черт грустного романтика-философа, чуждого, невзирая на обилие «экзотической» образности, иллюзорному, утопическому мироощущению, происходит и в песне «Фокусник», этом образце изысканной психологической лирики. За сюжетными деталями занимательных наблюдений за игрой фокусника проступают горько-отрезвляющее восприятие действительности, приметы невысказанной внутренней драмы лирического героя: Ах ты фокусник, фокусник-чудак, Поджигатель бенгальского огня! Сделай чудное чудо: сделай так, Сделай так, чтобы поняли меня! В перспективе своего жанрового развития поэтическая «новелла» Матвеевой достигала масштабов «романного» обобщения, вмещала в орбиту своего художественного содержания целое человеческой судьбы. К подобным песенным «романам» может быть отнесена известная матвеевская песня «Девушка из харчевни» (1964), которая по достоинству была оценена критикой как одна из вершин русской любовной лирики.216 По резко очерченному рисунку «вещных» образов песня напоминает поэтические «новеллы» А.Ахматовой 1910-х гг., где именно предметные детали часто выступали в качестве «консервантов» любовной памяти героини.217 Но динамика образной сферы в стихотворении Матвеевой оказывается сложнее, чем у Ахматовой. Если первоначально героиня песни хранит память об ушедшем возлюбленном, вглядываясь в «плащ, висевший на гвозде», в «гвоздь от плаща», в «след гвоздя», который «был виден – вчера», то «с теченьем дней, шелестеньем лет» эта память уходит в бесплотную, 216 Городницкий А. Указ.соч.С.2; Нодель М. А меня позабыли на праздник позвать (от составителя) // Матвеева Н.Н., Киуру И.С. Мелодия для гитары.С.7. 217 Кихней Л.Г. Поэзия Анны Ахматовой. Тайны ремесла. М.,1997.С.13-21. 155 таинственно-романтическую сферу душевной жизни. В «мерцающем» образном мире этой проникнутой затаенной грустью песни-притчи, песни-судьбы, где, по признанию самого автора, «речь идет об идеальном»,218 запечатлена стихия времени, исподволь подтачивающая «вещные» опоры памяти; явлена зыбкая грань предметного и невещественного, ускользающего от рационального осмысления. В бытовых явлениях жизни героини приоткрывается их сокровенный смысл, просматривается масштаб прожитой судьбы, одухотворенной высоким чувством. Пронзительное лирическое чувство сквозит в «уравновешенном» эпическом «повествовании»: Теченье дней, шелестенье лет, – Туман, ветер и дождь… А в доме событье – страшнее нет: Из стенки вырвали гвоздь! Туман, и ветер, и шум дождя… Теченье дней, шелестенье лет… Мне было довольно, что от гвоздя Остался маленький след. Когда же и след от гвоздя исчез Под кистью старого маляра, – Мне было довольно, что след Гвоздя Был виден – вчера. В песнях-судьбах Матвеевой, как и в ее поэтических «новеллах», часто наблюдается редукция психологических мотивировок, их сюжетный рисунок порой обрывается в самой кульминационной точке, как это происходит в песне «Цыганка-молдаванка» (1961). Рассказ о драматичной участи выкраденной цыганами «молодой молдаванки» обретает очертания древнего предания об иррациональных изгибах человеческой судьбы и завершается в вопросительной модальности: Что же с ней, беглянкой, было? Что же с ней, цыганкой, будет? Все, что было, – позабыла, Все, что будет, – позабудет. В фокусе песен рассматриваемой жанровой группы нередко оказывается судьба художника. В поэзии Матвеевой выведены творческие личности самых разных масштабов дарования. Этой теме посвящены объемный лирический цикл «Шекспириада» (1964, 1993-94), горестный рассказ о страданиях «короля светотени» в стихотворении «Рембрандт» (1953). Но в собственно песенных произведениях Матвеевой чаще звучат раздумья о судьбах «маленьких» людей искусства – шарманщиков, трубачей, барабанщиков, художников, «пишущих красками на хмурых мостовых» («Мы слышали 218 Беседы с Новеллой Матвеевой. Интервью вел М.Аскин // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.IV / Сост. А.Е.Крылов, В.Ф.Щербакова; М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2000. С.418. 156 слух», «Кисть художника», «Венгерская баллада» и др.). Так, в «Венгерской балладе» (1962) раскрывается высокий трагедийный конфликт свободного творчества «слепого парнишки», ходившего по дворам «старого Будапешта» «с гибкою и дерзкою скрипкою венгерскою», – с жестокими историческими потрясениями; конфликт, высвечивающий духовную высоту певца-простолюдина. Напряженное балладное повествование переходит здесь в звучание авторского лирического голоса, выводящее описанную ситуацию на архетипический уровень: Не скажу, что было дальше – Это так обычно! Ясных глаз, давно закрытых, Не закрыть вторично. В Будапеште старом Мальчик жил недаром И незрячими глазами Видел все отлично! В песне «Шарманщик» (1963) рассказ о старом музыканте также основан на совмещении стилизованного древнего песенного предания («И кто-то пел о том, // Как жил да был старик // С шарманкой и сурком») и лирического слова. Лирическим голосом утверждается духовная и эстетическая сила незамысловатой игры старого шарманщика, порожденная свободой его творческой личности. В стилистике слегка старомодного обращения лирического «я» к слушательской аудитории ощутим голос душевно утонченного, мыслящего вопреки стереотипам несвободного времени интеллигента: Достойные друзья! Не спорю с вами я: Старик-шарманщик пел Не лучше соловья. Но – тронет рукоять, – И… – верьте, что порой Он был самостоятельнее, чем король! А в песне «Поэты» (1975) в парадоксальном соединении сказочно-романтического ореола и сниженной обыденности запечатлелись метафизические, надвременные закономерности бытия поэтов, способных силой духа «эпохи таскать на спинах» и «небо подпирать». Примечательна в образном мире произведения смысловая параллель с легендарными «Атлантами» А.Городницкого: И скажут ребятам такие слова: «Вы славу стяжали, Вы небосвод На слабых плечах Держали, Вы горы свернули, В русло вернули Волны грозных вод…». 157 Потом засмеются И скажут потом: «Так вымойте блюдца За нашим скотом!» Итак, романтика песенно-поэтического творчества Н.Матвеевой, ставшего самобытнейшим явлением в авторской песне середины века, воплотилась в различных жанровых формах – от пейзажных, путевых, городских зарисовок, лирической исповеди, многообразных по тематике элегий до стилизованных древних сказаний, песен-новелл, «романных» по широте охвата действительности песен-судеб… Это романтическое мироощущение по своей сути знаменовало не утопический уход в «далекую даль» экзотики, но художественное открытие путей познания подлинной духовной сферы человеческого бытия, вытесненной из несвободного сознания эпохи. В полифоничном бардовском многоголосии тембр голоса Матвеевой, ритмикомелодические рисунки, стилистика ее исполнительского искусства оказались уникальными: поистине, по словам Л.А.Аннинского, «голосом забывшегося ребенка девочка-сомнамбула поет народу колыбельные песенки, от которых народ просыпается со смутным ощущением, что есть реальность выше и истиннее той, что ревет и хрипит за окнами…».219 219 Аннинский Л.А. Указ.соч. С.65. 158 IV. «Скорбь мыслящего интеллигента ». Элегическая поэзия Евгения Клячкина Творческое наследие Евгения Исааковича Клячкина (1934 – 1994) стало неотъемлемой частью бардовской песенно-поэтической культуры. С песнями Клячкин стал выступать с 1961 г., исполняя и собственные произведения (известность приобрели такие его вещи, как «Псков», «Сигаретой опиши колечко…», «Прощание с Родиной»), и песни иных бардов – Б.Окуджавы, Ю.Визбора, М.Анчарова, А.Городницкого… В 1964 г. поэт мужественно выступил в поддержку И.Бродского, ряд стихотворений которого получил новую творческую жизнь благодаря клячкинским мелодиям («Пилигримы», «Рождественский романс» и др.). Образный мир и стилистика песен Клячкина сформировались «на ленинградской культурной почве», с ее «атмосферой сдержанности, дистанционности»220 – на почве, с которой в авторской песне связаны имена Ю.Кукина, А.Городницкого, А.Дольского и др. Представители музыкального мира дали высокую оценку оригинальным мелодическим решениям, композиторской фантазии поэта-певца (А.Шнитке, В.Высоцкий и др.221). Вместе с тем собственно поэтическая сторона творчества Клячкина не получила пока литературоведческого осмысления. В отличие от преимущественно балладного, многогеройного мира песен В.Высоцкого и А.Галича, сатирически окрашенных произведений Ю.Кима, творческое дарование Клячкина – элегическое, многим созвучное той романтической ветви в авторской песне, которая ассоциируется с творчеством Б.Окуджавы, Ю.Визбора, Н.Матвеевой. Жанр элегии развивался у Клячкина по целому ряду проблемно-тематических и стилевых направлений: это элегии пейзажные, «городские», любовные, гражданские, философские. В грустной, негромкой тональности элегических медитаций раскрылось лирическое «я» поэта, свойственная его герою «скорбь мыслящего интеллигента, обреченного на одиночество и часто на непонимание» (А.Городницкий222). Здесь выразилось мироощущение человека «одинокого и неприкаянного, откровенного и беззащитно-лиричного… Городского интеллигента, постоянно ощущавшего одиночество и тревогу».223 220 Новиков Вл.И. // Цит.по: Клячкин Е.И. Осенний романс: Стихи. Песни. Проза. Ноты. М., 2003. С.30. Далее поэтические тексты Е.Клячкина приведены по этому изданию. 221 См.: Клячкин Е.И. Указ.соч.С.52, 68. 222 Там же. С.164. 223 Там же.С.283-284. 159 Истоки многих философских элегий Клячкина коренились в его пейзажной лирике. Чаще всего это лирические «ноктюрны», где дремлющий ночной мир оттеняет тревожную гамму переживаний героя. Стихотворения «Ноктюрн» (1969), «Бессонница» (1976), «Размышление в стиле блюз» (1978) – это своеобразные элегии-«самоисследования»,224 основанные на параллелизме ночного пейзажа и потаенного мира души. Клячкину-лирику близка тютчевская антиномия дня как блестящего покрова мироздания и ночи как воплощения его сокровенных глубин. В «Бессоннице» ночные мотивы раскрывают зыбкость очертаний реального мира, изображенных здесь в импрессионистической манере: «И, в ночь погружены, предметы бестелесны, // лишенные всего, чем их наполнил день». Экзистенциальное напряжение души лирического «я» обусловлено ощущением утраты привычных «дневных» ориентиров бытия («И ни в одном из них ты не найдешь опоры»), проницаемости внутреннего мира перед лицом космической беспредельности – «когда звезда любая – // пронзительный прокол и в небе, и в тебе». Метафорический образный ряд, импрессионистичные ассоциации облекаются Клячкиным в форму непринужденного разговора, беседы, модус которой явился стилеобразующим фактором искусства авторской песни. «Лирический космизм» клячкинских элегий соединяет онтологическую тревогу,225 мучительные сомнения героя в размышлениях о мгновенном и вечном («не верю, что вот он, весь я, // на жесткой этой доске») с поиском опоры в чувстве единения со всем сущим. Это единение в ощущении невозможности самоуспокоения, в драматичном миропереживании: И верю – я буду весь в любом, кому станет хуже, чем мне, лежащему здесь. Из лабиринтов непознанных загадок ночной Вселенной герой Клячкина прорывается к просветленному ощущению бессмертия души, к редким мгновениям внутреннего покоя, что находит воплощение в скрытой оксюморонности поэтического образа: И черным воздухом дыша, я прозреваю эту местность, и обретает легковесность моя бессмертная душа. Различные жанрово-стилевые модификации песенных элегий Клячкина воплотили взыскание лирическим «я» немеркнущей истины в изменчивом потоке жизни. Примечательна с жанровой точки зрения своеобразная поэтическая «дилогия» – «Молитва» (1965) и «Антимолитва» (1977). 224 225 Фризман Л.Г. Жизнь лирического жанра. Русская элегия от Сумарокова до Некрасова. М.,1973. С.141. См. суждение В.Мозгового о «тревожной лирике» Е.Клячкина: Клячкин Е.И. Указ.соч. С.287. 160 В первом стихотворении молитвенное обращение к Богу выявляет неизбывную антитетичность художественной мысли, самой картины мира, ускользающей от однозначных определений: «Длинную, о Господи, память дай // и лиши, о Господи, длинной злобы». Форма молитвенного обращения диалогизирует речевую ткань произведения, с его тревожно-ударными хореическими строками, и становится отражением немолчного внутреннего спора героя с собой, процесса его самопознания в сложном мире межчеловеческих отношений: Господи, не дай мне забыть друзей. Радостью, о Господи, можно ранить. Сам решу я, Господи, что сильней, ты на их предательства – дай мне память. А в «Антимолитве» диалогические потенции художественной мысли заданы эпиграфом из известной философской песни Б.Окуджавы «Молитва» (1963). Если у Окуджавы раздумья лирического «я» о себе вливаются в поток интуиций о вечных законах бытия («Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет, // Господи, дай же ты каждому, чего у него нет…»), то в центр клячкинской элегии выдвигается образ современной души. И у Окуджавы, и у Клячкина картина мира просквожена тончайшей, местами горестной авторской иронией. В «Антимолитве» это и острие самоиронии: душа по своей слабости жаждет заглушить в себе способность к саморефлексии, просит у Бога «извилин поменьше», чтобы «вторые и третьи смыслы // неведомы были мне», и тут же с болью чувствует гибельное следствие такой безмятежности: «Спокойствием идиота // я буду вознагражден». Тревожная онтологическое звучание нота песенной традиционным лирики темам Клячкина элегической придает поэзии. Его новое герой прорывается из удушливой атмосферы «застойных» лет, делая выбор в пользу нелегкого знания о «напастях» на человеческую душу и возвращая слушательской аудитории изгнанные из общественного сознания понятия о душе, истине, вечности… Поиск и открытие истины осуществляются в элегиях Клячкина не в дискурсе обобщенной риторики, но в уязвляющих своей зримостью и конкретностью мгновенных впечатлениях, поворотах жизненного пути лирического «я» – как в «Песне об истинах» (1964), «Песне покоя» (1969), «Грустной цыганочке» (1978). Элегическое содержание проступает здесь чаще всего в эскизных, но психологически насыщенных сюжетных зарисовках, что привносит в элегию жанровые элементы стихотворной «новеллы». В «Песне об истинах», очевидно перекликающейся с «Песней об истине» М.Анчарова (1959), это импрессионистическая цепочка столь любимых Клячкиным «путевых» 161 образов, являющих драматическую изменчивость ракурсов видения мира, истину, недоступную плоскостному восприятию: Гудок перережет надвое, назад поплывет вокзал. И вдруг ты поймешь – «обокраден я». А кто ж тебя обокрал?! В груди ворохнется стеклышко – неровные края… Так вот ты какая, истина, единственная моя! Философская насыщенность мысли сочетается здесь с бытовой простотой и точностью изобразительного ряда, а сама форма обращения к собирательному собеседнику позволяет распознать истоки бытийных прозрений, лежащие в сфере повседневных, знакомых многим впечатлений и психологических состояний. Сплав метафизического масштаба и выпуклой предметной детализации на уровне композиционной организации текста придает авторской мысли афористическую емкость, что особенно важно при учете сценического, публичного исполнения бардовской поэзии: И ты постигаешь равенство, что истина – это боль. И ребра, как мост, расходятся – корабль прибывает в порт. В «Песне покоя», «Грустной цыганочке» умиротворенное душевное состояние («Отовсюду я уже приехал, // все билеты я давно купил») по мере развития образного ряда окрашивается в тревожные тона, что передается напряженным интонированием, повторением ключевых строк при исполнении: «Ты же, пока живой – кровоточишь». По силе онтологического трагизма, прозрению непрочности мира и экзистенции лирического «я» элегии Клячкина созвучны порой лермонтовской поэзии: Что любить, когда кругом – потери! Остается жить, без веры веря, что родные люди – все, кого мы любим, вечно рядом с нами будут. От «новеллистичной» сюжетности диапазон философских элегий Клячкина простирается до обобщающей перспективы видения масштабов человеческого бытия, с чем связано онтологическое звучание одной из ключевых тем элегической поэзии – темы времени. Примечательна в этом смысле «Фантазия до начала» (1987). Творческая интуиция поэта прорывается здесь за грани земных сроков человеческой жизни и устремляется в таинственную сферу, «что в девять месяцев длинной». Провидение в малой субстанции 162 едва зародившегося живого существа действия высших вселенских сил сообщает образному плану стихотворения «космический» колорит: Эпохам диктовались сроки: Семь дней – на рыб, на птиц – три дня. И как бы в книге как бы строки – они составили меня. Радость от причастности индивидуального мировому целому наполняется в финале клячкинской элегии скорбными тонами, драматичным переживанием рефлектирующей личностью тоски по беспредельному, непреодолимой дисгармонии бытия. Грусть и душевная просветленность в лирике поэта-певца оказываются взаимопроникающими: И лучшим, чем вот это время, жизнь – и прекрасна, и нежна, меня вовек не озарила. Но я об этом не узнал. Одной из заветных стала в элегическом мире песенной поэзии Клячкина лирическая тема детства, о которой поэт размышлял не только в самих стихотворениях, но и в развернутых автокомментариях в ходе концертных выступлений. Так, в стихах и песнях «Две девочки» (1978), «Дитя и мать» (1979), «Детский рисунок» (1983) эта тема обретает глубоко интимное и одновременно – обобщающе-философское звучание. В земном и знакомом поэтическая мысль угадывает сокровенное; материнское и детское начала увидены как воплощение высшей красоты вечного обновления всего сущего, а потому в элегиях этого тематического ряда возникают элементы лирического гимна: И что бы с нею ни случилось, вдоль жизни долгой! – уже дарована ей милость прожить Мадонной. Счастье прощенья всем Матерям. Свет утешенья тем, кто терял. Ave Maria! В песне «Две девочки» высокая романтика, проявившаяся через лейтмотив полета, перерастает в нелегкую нравственно-философскую рефлексию лирического «я» о подлинной, подчас трагической цене прожитого. Клячкинский трагизм не столь экспрессивен и обнажен, как в балладах В.Высоцкого или А.Галича, но, окрашенный в мягкие, лирические тона задушевного разговора, он тем не менее беспощадно высвечивает горько-отрезвляющее понимание трепетной хрупкости жизненных ценностей. Этими содержательными гранями обусловлена импрессионистическая, «мерцающая» фактура поэтической образности: Две девочки, две дочки, два сияния, два трепетных, два призрачных крыла 163 в награду, а скорее – в оправдание судьба мне, непутевому, дала… И невдомек летящему, парящему, какая сила держит на лету. И только увидав крыло горящее, ты чуешь под собою пустоту. Элегические размышления обращены в произведениях барда и на пройденную часть земного пути, сближаясь по звучанию с поздними песнями-воспоминаниями Ю.Визбора, А.Городницкого. В элегии «Моим ровесникам» (1973), отталкиваясь от текста незатейливого детского стихотворения, поэт рисует многоцветную панораму прожитых лет, где проникновенный лиризм насыщается едва ощутимой самоиронией, а этапы человеческой жизни обретают бытийный смысл, уподобляясь движению «далеких и пестрых миров». В стихотворении же «Зимний сон» (1979) подобная онтологизация лирического переживания связана со сновидческим ракурсом изображения, символикой цветовых образов: Все белее сон – ни пятнышка кругом, ни тени, хоть сначала жизнь пиши, а вот и край листа. Так с чего ж начнем, на белые упав колени, белою рукой по белым проведя вискам. Цветовые лейтмотивы сводят воедино макро- и микрокосм жизненного пространства лирического героя («белая дорога» – «белые виски»), а его душевное состояние впитывает в себя дыхание многовековой истории родной земли. И таким образом философская элегия Клячкина обнаруживает точки соприкосновения с его же циклом элегий гражданских («Прощание с Родиной», «Тройка», «Улица моя» и др.): Легкие штрихи один с одним ложатся рядом: вот мой дом, семья, а вот они – мои друзья. Вот страна, вобравшая и боль мою, и радость. И, конечно, тот, стоящий сбоку – это я. Своего рода обобщение ключевых мотивов философских элегий Клячкина вырисовывается в одном из последних стихотворений – «Холмы» (1994), где в предстоянии героя перед молчаливыми тайнами мироздания, в символическом образе пути («Холмы и горы позади // нам обещали спуск в долину»), в «экспрессивных сочетаниях цветовых пятен»226 («И льют молочный свет шары») – все большую пронзительность обретает тревожный лирический голос, возвещающий о невозможности «спасительного покоя» на «окольных путях» жизни и утверждающий тем самым этику духовного стоицизма: 226 Добровольский В. // Клячкин Е.И. Указ.соч.С.124. 164 И, хоть в спасительный покой, срывая путы, рвется тело, но, как бы тело ни хотело, ему дороги нет такой. Наряду с философской, пейзажной – любовная элегия и связанные с ней элементы психологической «новеллы» занимают весомое место в песенной лирике Клячкина. Черты обозначенных жанров просматриваются в ранней популярной клячкинской песне «Сигаретой опиши колечко…» (1964), где сквозь тонкую ткань предметных деталей и ассоциаций намечается пунктирный психологический сюжет, передающий невысказанную драму отношений лирического «я» с близким адресатом, переживание бытийной хрупкости жизненных ценностей: «Что-то, что-то надо поберечь бы, // но не бережем – уж это точно!». Признаки имплицитного или явного диалога с близким собеседником придают песням Клячкина исповедальное звучание и сюжетную заостренность. В «Задумчивой песенке» (1965) черты психологической, любовной новеллы приоткрываются в дискретном сюжетном рисунке, пропущенные звенья которого, как и в «лирических новеллах» ранней А.Ахматовой, являют, в сочетании с элементами прерванного, несостоявшегося диалога с близкой душой, невольные душевные несовпадения героев: Десять заповедей мне, А тебе – одна… Силуэт в седом окне – Чья же тут вина?! <…> Спросит: «Любите цветы?». А я люблю траву… И зачем я с ней на «ты»?.. И куда зову? Диалогическая композиция существенна и в позднем стихотворении «Встреча» (1986), где, как и во многих зрелых стихах-песнях Ю.Визбора, мир интимных переживаний героя включается в напряженный процесс осмысления им пройденного пути. Если в «экспозиции» стихотворения афористически емкая словесная форма передает концентрат философских раздумий о дорогах жизни («стечение – путей наших пересечение»), то последующий разговор с возлюбленной и одновременно – как выясняется в завершающей части произведения – с виденным когда-то краем «незабытой Тынды» содержит отзвуки давних встреч и переживаний: « – Ты нравишься мне. // А вот я уже старый. // – Ты – мальчик навек // с вечно юной гитарой». Взаимопроникновение лирического монолога и диалога сообщает «новеллистичному» повествованию «драматургичную» динамику, важную в целом для сценичного по своей природе искусства бардовской поэзии. 165 Диалогические потенции любовных элегий Клячкина обусловили и актуализацию здесь жанровых примет послания, с характерной для него активностью лирического «ты». В песнях «Тебе» (1984), «Тане» (1992) вчувствование героя в личностный мир женского образа романтически возвышает конкретные детали внешнего облика героини: «Ах, только бы легкие пальцы летали // над сумрачным нашим житьем, // ах, только б незримые дыры латали // волшебные руки ее». Модальность обращения к близкому человеку предопределяет в этих песнях многообразие интонационного рисунка и стиля. Философские раздумья органично входят в атмосферу непринужденного разговора и обретают благодаря этому словесную выразительность: «От веры до сомненья путь короче, // намного, ох, короче, чем назад». Основой образного мира клячкинских любовных элегий становятся нередко и романтические пейзажные зарисовки, и хранимые памятью предметные ассоциации. В «Песне прощания» (1966) воспоминания о любви косвенно передаются через психологическую ассоциацию с портретно-бытовыми микродеталями («Давай запомним звук соседней двери. // Давай запомним волосы на лбу») – прием, отмеченный исследователями и в психологической лирике Ахматовой.227 У Клячкина эта предметнобытовая точность подчеркивает достоверность изображения всего пережитого песенными героями. В песнях «На море» (1966), «Мокрый вальс» (1972), «Не уходи» (1973) тайна любовной близости персонажей увидена в зеркале импрессионистичных, одушевленных пейзажных образов, на которые экстраполируется лирическое чувство («камни с гладкой, нежной кожею»). Уязвимость, хрупкость интимных переживаний переданы здесь в поэтике фрагментарного построения произведений («А ветер… А волны…»), в стихии шелестов, полутонов природного мира. В «Мокром вальсе» психологический сюжет реализуется в антитезе тревожного «мерцающего дождя», дождя «бессонного, шелестящего в ночи» – и «голубого пламени надежды», согревающего сердце героя, уставшего от «непрочных дверей // у страны доверья». Семантика этих почти персонифицированных образов «надежды», «доверья» имеет здесь явно окуджавские обертоны, выражающие драматичную, тревожную, но необходимую веру в гармоничные основания мира. Своеобразие стиля любовно-пейзажных элегий Клячкина – в их оригинальном метафорическом строе, импрессионистской ассоциативности, сочетаемостные возможности словесных образов. расширяющих Стихотворение может строиться здесь как синтаксическое целое, по принципу нанизывания ассоциаций, что усиливает 227 Кихней Л.Г. Поэзия Анны Ахматовой. Тайны ремесла. М.,1997.С.29. 166 интонационное напряжение, как, например, в песне «Не уходи» (1973), которая основана на образном параллелизме любовных переживаний и динамики природного бытия: …и старый двор, пустой и мокрый, на меня глядит в упор и повторяет наш последний разговор почти без слов, и тем понятнее укор… Контуры песенной новеллы подчас врастают у Клячкина и в ткань лирической путевой заметки. В стихотворении «В поезде» (1979) благодаря взаимоналожению ощущений зыбкости любовных чувств, воспоминаний, подобных «едва натянутой нити», и мерцающего в окне вагона ночного пространства – малая сфера личностного бытия становится сопричастной мировой беспредельности: «Пространство – вот он, вечный враг двоих, – // страна неверия, снегов и лет». Клячкинские «новеллы» тяготеют нередко к широкому – «романному» – изображению, соответствующему масштабу целой судьбы. В песне «Телефон-автомат» (1989) лирическое «я» перевоплощается в «роль» телефона, становящегося свидетелем событий душевной жизни собеседников. Психологически комментируемое воспроизведение диалогов любящих («рядом боль и надежда, оттуда безмерная жалость, // и над всем – от натяга звенящий, немыслимый страх») осложняется в песне новеллистичным сюжетным поворотом (поломка телефона), а финальная отрывистая ремарка, неожиданно конкретизирующая обстановку действия, добавляет в изображенное принципиально новый смысл, рисуя общение героев на грани небытия: «Ленинградская область, платформа Песочная, // институт онкологии, третий этаж». Подобное привнесение принципов новеллистичного сюжетосложения, связанных с перипетиями, неожиданными коллизиями в судьбах героев, резкими концовками, расширяет жанровый диапазон клячкинской лирики, оттеняет ее тревожную окрашенность. Примечательный жанровый синтез осуществлен в песне «Возвращение» (1974). Это и взволнованное лирическое послание матери, и в то же время диалог с ней («Да-да, конечно, – это все война»), и песня-воспоминание, построенная на «кинематографическом» совмещении «кадров» настоящего и блокадного прошлого, и точная до подробностей бытовая зарисовка отчего дома, и элегическое раздумье о прожитом, запечатленное в деталях-лейтмотивах: Вечерний город зажигает свет. Блокадный мальчик смотрит из окна. В моей руке любительский портрет И год на нем, когда была война… 167 Таким образом, философские элегии, любовная лирика и психологическая «новеллистика» явились художественной сердцевиной песенно-поэтического мира Клячкина. В их негромком и в то же время внутренне напряженном, пронзительном звучании, импрессионистических штрихах и ассоциативных образных сцеплениях, передающих драматичную изменчивость мира и души, во взаимопроникновении лиризма и тончайшей иронии, не оставляющей места для самоуспокаивающих иллюзий, – раскрылась ищущая, тревожная личность грустного «лирического романтика»,228 интеллигента, адресующего песенное слово мыслящей, пробуждающейся от духовного анабиоза аудитории. При очевидном созвучии романтическому направлению в бардовской поэзии, явление Е.Клячкина все же остается уникальным – глубоко тревожной, онтологически насыщенной философской и любовной лирикой, а также пересекающейся с ней песенной «новеллистикой» с ее динамичным сюжетным рисунком, глубиной подтекста, выходами на «романный» уровень художественного обобщения. 228 Ким Ю. Лирический романтик // Клячкин Е.И. Указ. соч. С.5-6. 168 Предварительные итоги Предложенное рассмотрение творчества поэтов, создавших лирико-романтическое направление в авторской песне, позволяет уяснить важные типологические особенности как данного жанрово-стилевого течения песенной поэзии, так и бардовского творчества в целом. Наиболее характерными для лирико-романтического направления явились малые лирические жанровые формы, доминирующим среди которых выступил жанр элегии – во всем богатстве своих разновидностей (элегии пейзажные, философские и др.). С точки зрения связей с фольклорно-музыкальными истоками, решающую роль в формировании образного мира, стилевого облика данного поэтического направления сыграла опора на разноплановую и менявшуюся во времени романсовую традицию. В творческом наследии бардов-«романтиков» яркое художественное воплощение получил жанр пейзажной элегии, в призме которой осуществлялось глубокое самовыражение лирического героя и той духовной, социально-исторической общности, частью которой он себя ощущал. Особенно показательны в этом плане философские пейзажи в стихах-песнях Ю.Визбора, с раскрывающейся в них романтикой северных краев, горного мира; часто иносказательные, наполненные притчевыми ассоциациями пейзажные зарисовки Б.Окуджавы и Н.Матвеевой; утонченно-психологичные, порой открывающие вселенскую перспективу человеческого и природного бытия пейзажные элегии Е.Клячкина и О.Митяева. С пейзажной образностью связана в произведениях бардов столь характерная для авторской песни романтика бесконечного открытия «дальних далей», которая обретает здесь не только сугубо личностный, но и общественный смысл, знаменующий прорыв за барьеры несвободной эпохи. Активное присутствие «путевого» хронотопа в художественном мире лирико-романтической песенной поэзии выявляло ее глубокие преемственные связи с «туристским» фольклором и стимулировало индивидуальные жанровые поиски. Это песни-путешествия Визбора, с эстетически значимой для них точной топонимикой, романтические «дорожные» зарисовки Матвеевой, Ю.Кукина, Митяева, импрессионистские, наполненные порой исповедальным звучанием путевые «заметки» Клячкина. Интенсивное развитие получила в лирико-романтическом направлении и философская поэзия, в полноте выразившая возвышенный романтический идеал поиска потаенной гармонии «надежды маленького оркестрика», одерживающего духовную победу над 169 разрушительными вызовами времени. В философских элегиях Окуджавы, открывающих вселенский ракурс видения частного и исторического бытия, просматривается внутренний диалог с традициями Тютчева и поэзии Серебряного века. Потенциал широких бытийных обобщений заключен в песнях-воспоминаниях Визбора и Клячкина и реализуется нередко на почве внешне незатейливых обыденных зарисовок, житейских бесед между персонажами, открывающих перспективу поиска истины в дискурсе негромкого, доверительного разговора. Ключевой для многих философских элегий Визбора, Клячкина, Митяева становится характеризующаяся смысловой многомерностью тема времени. Значительным эстетическим завоеванием романтической бардовской поэзии стало новое, оригинальное открытие задушевного исповедального лиризма в литературе середины столетия, знаменовавшее вызов ходульным штампам официозного дискурса, обезличивающему напору современности. Элементы лирической исповеди от имени героя и его поколения стали сквозными в поэзии Окуджавы. В произведениях Визбора исповедальное начало часто выражалось посредством «ролевых» персонажей – в рассказе «бывалого» человека. В стихах-песнях Матвеевой контуры лирической исповеди проступали сквозь иносказательную – притчевую и сказочную образность, а в поэзии Клячкина, позднее – Митяева они нередко проецировались на постижение архетипических закономерностей человеческого бытия, на темы детства, материнства. В образном мире лирико-романтической песенной поэзии серьезную разработку получили различные формы художественной условности, связанные с поиском нешаблонного, не освоенного литературой эпохи языка для выражения глубин человеческой личности, законов ее существования в пространстве истории и вечности. Характерное для всех бардов-«романтиков» обращение к жанровым возможностям притчи открывало пути для широких иносказательных обобщений, расширяло пространственно-временную перспективу их поэтических миров. В песнях-притчах Окуджавы, Клячкина рисуются персонифицированные образы Надежды, Доверия, Веры, Любви, Музыки, выступающие в качестве персонажей и зримо воплощающие необходимые первоосновы жизни. В притчевых образах и обобщениях Окуджавы, Матвеевой, Клячкина достигается прочный художественный сплав предметно- вещественного и возвышенно-романтического образного планов. Разработка форм художественной условности оказывалась сопряженной в бардовской поэзии и с актуализацией сказочных, фольклорных образов. Опирающееся иногда на литературные истоки сказочное начало ярко обнаруживается в системе песенных персонажей Матвеевой, Окуджавы и ведет к романтическому преображению сферы 170 повседневной обыденности, к открытию в ней места для неповторимой личностной экзистенции. Элементы сказочной фантастики придают таинственно-романтический колорит и ряду романсовых стихов-песен Визбора. Продуктивным жанровым образованием в романтической бардовской поэзии, рожденной в основном в среде городской интеллигенции, стали поэтические портреты городов, вступающие нередко в содержательный диалог с литературными традициями «московского», «ленинградско-петербургского» «текстов». В лирико-романтическом направлении авторской песни город выступил как воплощение одомашненного жизненного пространства лирического «я», как вместилище интимных переживаний, высоких романтических устремлений, индивидуального и общенародного исторического опыта. В портретах городов Окуджавы и Визбора, в сказочно-романтических городских зарисовках Матвеевой, в насыщенной сложными психологическими ассоциациями «городской» лирике Клячкина, в лирических этюдах Митяева образ города стал поэтической моделью мира, воплощением всечеловеческого единства, воспетого бардами-«романтиками» в качестве главного духовно-нравственного идеала. В их поэзии город – это сфера проникновенного диалога с близкой душой, с большими и малыми человеческими общностями, с одушевленным городским космосом, с историей, а иногда, как, например, в творчестве Окуджавы, это и основа автобиографического мифа. Устойчивой типологической особенностью многожанрового художественного мира бардовской поэзии стало богатство персонажной сферы, что обусловлено ориентацией авторской песни на самобытное, адогматичное познание социально-психологического, нравственного облика современника. В лирико-романтическом направлении внимание художников часто сосредоточено на изображении индивидуальностей «маленьких» людей, осознающих себя частью крупного человеческого сообщества, профессиональной среды. В песнях Окуджавы, Визбора, Матвеевой это фронтовики, не мыслящие себя вне боевого братства, «маленькие радисты с большого корабля», простые горожане, скромные труженики искусства, иногда условно-сказочные персонажи, обретающие, в отличие от официальной литературы, право непосредственного личностного речевого самовыражения. Художественное постижение поэтами-бардами комплекса внешне незаметных, но личностно глубоко значимых судеб современников порождало в их произведениях дискурс диалога, непосредственного общения, интонации задушевной беседы, обуславливало композиционную и речевую значимость лирического «ты», «мы», существенным образом воздействовало на жанровую систему песенной поэзии. 171 Значимыми жанровыми образованиями становятся в этой связи песни-портреты, «ролевые» стихотворения-песни, песни-диалоги. В поэзии Окуджавы, Клячкина, Матвеевой, Визбора художественных высот достигает любовная лирика, обретая все большую изысканность психологического рисунка и стилистики. Элементы дружеского послания особенно показательны во многих произведениях Визбора, наследующих традиции «кружкового» – армейского, студенческого, туристского – фольклора. Многообразие жанровых форм «сюжетной», «персонажной» лирики в бардовской поэзии проявилось в развитии песенной «новеллистики», с характерным для нее динамичным, утонченным сюжетным рисунком – в произведениях Окуджавы, Клячкина, Матвеевой, Митяева, а также «романных» по масштабу охвата жизненных путей героев «песен-судеб», наиболее яркие образцы которых явило поэтическое творчество Визбора и Окуджавы. Таким образом, уже в лирико-романтическом направлении, открывшем новое, вытесненное из той эпохи измерение человеческой личности и имплицитно заключавшем в себе вызов несвободному времени, наметились важнейшие типологические черты искусства авторской песни, которые будут проявляться и трансформироваться в художественной логике ее последующей эволюции. Если в данной главе речь шла о поэтах-«чистых лириках», творивших прежде всего в малых лирических жанрах, то в следующей главе будет представлено творчество бардов, эволюционировавших в направлении крупных лиро-эпических форм, трагедийного песенно-поэтического эпоса. 172 Глава 2. От лирики к трагедийному песенному эпосу «Отдыха нет на войне...»: I. фронтовая и исповедальная поэзия Евгения Аграновича Евгений Данилович Агранович (род. в 1919) начал писать стихи и песни еще до войны, в конце 1930-х гг., и хотя с концертами стал выступать лишь в последнее десятилетие ушедшего века, может вполне быть отнесен к числу основоположников бардовского движения. Агранович прошел через всю войну и стал автором известной по кинофильму «Офицеры» песни «От героев былых времен // Не осталось порой имен…» и целого ряда других стихотворений и песен на военную тему. Впоследствии, в пору, как вспоминал сам поэт, «боя с безродными космополитами», он имел возможность лишь анонимно писать русский текст для дублируемых фильмов, а позднее работал в качестве сценариста мультфильмов для взрослых и детей («Отважный Робин Гуд», «Наш друг Пишичитай» и др.). Сотрудничая с профессиональными композиторами, Агранович явился в то же время создателем известных «самодеятельных» песен, прочно вошедших в контекст бардовской поэзии («Пыль», «Лина», «Одесса-мама» (в соавторстве с Б.Смоленским), «Я в весеннем лесу пил березовый сок…» и др.), а также разножанровой прозы. В песенно-поэтическом творчестве Аграновича существенное место принадлежит военной лирике, включающей в себя «сюжетные» зарисовки фронтовых эпизодов, поэтические диалоги, портреты, «ролевые» произведения. Кроме того, это значительный пласт философских стихов и песен, тяготеющих к жанровым формам баллады, исповеди, притчи. Окрашенные порой в романтические тона, они пропитаны, однако, ощущением глубинного драматизма эпохи и творческого призвания поэта-певца. В стихах-песнях Аграновича о войне, как позже в произведениях М.Анчарова, В.Высоцкого, конкретных важны многоплановость фронтовых эпизодов, их эпического внутренней изображения, динамики, запечатление раскрывающей психологическую сущность выведенных характеров. Одно из наиболее известных произведений данного ряда – родившаяся еще в годы войны под влиянием стихов Р.Киплинга «самородная-самоходная» песня «Пыль». Секрет ее артистического исполнения самим автором – стихотворного текста и попутных прозаических в оригинальном совмещении комментариев, органично 173 вписывающихся в общий интонационный рисунок произведения; маршевого ритма (мелодия, «сложившаяся из топота роты и хриплого дыхания»), зримой картины пешего продвижения – с исповедальной глубиной, приоткрывающейся в экспрессии взрывных звуковых «сближений», которые особенно ощутимы в процессе пропевания: Быль-быль-быль-быль или небыль этот путь? Боль-боль-боль-боль, отпусти когда-нибудь. Пыль-пыль-пыль-пыль от шагающих сапог, 229 Отдыха нет на войне… В иных «сюжетных» зарисовках военных эпизодов («Первый в атаке», «Сержант шутит», «Выбор» и др.) нравственное напряжение героя в размышлениях о себе и о «том, кто первым встает в бою» соединяется с пластичной детализацией поведения и речи повествователя и персонажей. Так, в стихотворении «Сержант шутит» (1942) эпически обстоятельное изображение вещных примет деревенского быта, экспрессия разговорного, подчас шутливого языка в речи рассказчика и сержанта, звучащей в тяжкую минуту «огневого налета» («И ему ты не указ – // Напевать ли, нет ли»), составляют эмоциональный противовес страху перед внезапной гибелью. В стихотворении же «Выбор» (1951) в простом разговоре о мироощущении фронтовиков делается важный в историческом плане акцент на давшемся страшной ценой их душевно-нравственном раскрепощении вопреки духу сталинской эпохи: «М-да, неважно шли у нас дела. // Но свобода выбора была…». Как позднее в военном цикле В.Высоцкого, существенное место во фронтовой поэзии Аграновича принадлежит пейзажным образам («Партизаны», «Выздоравливающий», «Третья осень», «Оборона» и др.). Природа выступает здесь как активная, одушевленная действующая сила, воплощая врачующую мощь родной земли в пору катастроф. В стихотворении «Выздоравливающий» (1944) прелесть весеннего мира являет сильнейшее сопротивление природного мироздания бремени войны, побуждая героя к душевному и физическому перерождению, что на уровне языка выразилось в поэтике неординарных сочетаний лексем с отвлеченным и предметным значениями: «Душу – в стирку, память – в чистку, // И судьбу – в утюжку». А в другом стихотворении увиденные глазами немецкого майора сосны предстают в обличии суровых бойцов: И краснокожи, бородаты, С зарубцевавшейся корой Они стояли как солдаты, В струну выравнивая строй. 229 Тексты Е.Аграновича приведены по изданию: Агранович Е.Д. «Я в весеннем лесу пил березовый сок…». Песни, баллады, рассказы, повести для чтения и экрана. М., Вагант-Москва, 1998. 174 В жанровом отношении примечательны в военной поэзии Аграновича и стихотворения-портреты. Если в стихотворении «Раненый» (1941) проникновенный портрет бредящего неоконченным боем сержанта приобретает выразительность благодаря живости разговорного стиля повествования («Ни черта ему покоя нет»), то в стихотворении «Слепой» (1946) эпизодическое наблюдение за ослепшим в войну бывшим летчиком-фронтовиком перерастает в остро трагедийный рассказ о динамике военной и послевоенной судьбы героя и его личной драме. Слово повествователя диалогически пересекается с прямым речевым самовыражением персонажа; создается эпически разработанный духовной психологический портрет героя, заставляющего своей стойкостью «отступить несчастье слепое». «Драматургия» исходного эпизода встречи со слепым таит в себе перспективы символического обобщения, дальнейшей рефлексии повествователя и о собственном «грозном» пути, причем высокая романтика парадоксально сочетается здесь с доподлинным, неприкрашенным знанием об исторической и человеческой судьбе: На миг немею я от смущенья: Зачем ты отнял руку? Постой! Через грозную улицу Возвращенья Переведи ты меня, слепой! Вообще во фронтовой поэзии Аграновича обнаруживаются весьма продуктивные для его художественного мира в целом жанровые тенденции, связанные с тяготением к притче, а также исповеди – в том числе от имени военного поколения, мучительно ощущающего боль несбывшегося в своей исторической судьбе: «Может быть, наш Рембрандт лежит на столе в медсанбате, // Ампутацию правой без стона перенося» («Моему поколению», 1944). В притчевых же стихотворениях «Старуха» (1943), «Мать» (1944) единичные эпизоды – будь то ночевка взвода в деревенском доме или нелегкий путь матери к могиле погибшего сына – обретают архетипический смысл, связанный не только с исторически конкретным, но и с мистическим переживанием войны народным сознанием «Руси вековой» и обнаруживающийся в емкой речевой ткани отрывистых и вместе с тем внутренне содержательных реплик персонажей, в сопровождающих их раздумьях повествователя: Но что-то мне грудь стеснило, Я даже вздохнуть не мог, Когда – «Мой сыночек милый, Гони их, спаси тебя Бог!». И растеряв слова, я С покорной стоял головой, Пока меня Русь вековая Благословляла на бой… 175 Речевая форма диалога повествователя с персонажем иногда в произведениях Аграновича становится фактором жанрообразующим – как, например, в стихотворении «Пограничный капитан» (1944). Картина гибели капитана обретает особый трагедийный смысл, предваряясь воспроизведением его житейского и в то же время наполненного бытийным смыслом разговора с рассказчиком – о жизни и смерти, судьбе, военном опыте: Сталбыть, выполнение задачи, Если таковая есть у вас, – Нечего откладывать – иначе Неприятно будет в смертный час. Психологическое напряжение обусловлено здесь атмосферой прерванного нелепой гибелью капитана диалога – в сходной функции композиционная форма прерванного, несостоявшегося диалога позднее будет использована в таких известных военных стихахпеснях В.Высоцкого, как «Он не вернулся из боя», «О моем старшине». В жанровом и смысловом целом военной поэзии Аграновича выразительно прозвучали и ноты интимной лирики, задушевной любовной элегии – как, например, в ранней песне «Лина», которая, представляя собой, по словам поэта, «простенькое сентиментальное танго», «разнеслась по фронту, как степной пожар», или в написанной уже в 1991 г. «Лебединой песне», где народнопоэтическая «лебединая» символика, эхо военных мотивов накладываются в обращении к любимой на драматичные, философски насыщенные размышления о конечности земного пути, о запечатленных в измученной войной душе «полете» и «отраде» бытия: Просто крылья устали, А в долине война… Ты отстанешь от стаи, Улетай же одна. И не плачь, я в порядке, Прикоснулся к огню… Улетай без оглядки, Я потом догоню… Связанные же с военной тематикой «ролевые» песенные монологи Аграновича разнятся по эмоциональному настрою. Если «Песня нищего инвалида», артистически стилизованная под «вагонные» обращения инвалидов, пронизана в целом сопереживанием бедам «повидавшего много боев и побед» персонажа, а в монологе героя тыла («Настали суровые годы войны…») авторское сочувствие просквожено незлой иронией («И вот утешаю один, третий год – // Девиц незамужних, и вдов, и сирот»), то в незатейливой 176 «фронтовой песенке» «Ребята подходящие // Мы всю войну в пивной» проступают признаки «ролевой» сатиры. Оригинальный жанрово-родовой синтез интимной лирики и масштабных эпических обобщений осуществлен Аграновичем в посвященной памяти погибшего на фронте молодого поэта поэме «Борису Смоленскому – поэту и воину», которую сам автор определял и как «балладу», и как «поэму-памятник». Здесь возникает типологическая ассоциация с жанром поэмы-реквиема, разнопланово представленным в поэзии XX в., если вспомнить, к примеру, «Реквием» А.Ахматовой, «Новогоднее» М.Цветаевой, песенную поэму Ю.Кима «Московские кухни» и др. Откровенно антиофициозные раздумья о тяжелом историческом опыте, реальных причинах катастрофических потерь первых лет войны («Небось войну бы скоро повернули // Наш Блюхер, Тухачевский и Якир») соединены здесь с живыми зарисовками фронтовых эпизодов, причем в стихотворный текст привносится прозаический фрагмент, который обогащает интонационно-ритмическую гамму нотами неприкрашенного задушевного повествования: Такой знакомый облик, повадка... кто? Ну да, Борька, поэт Борис Смоленский, До войны два года неразливно дружили… «Поэма-памятник» образует сферу диалогического встречи авторского слова с голосом персонажа-«адресата». Пятистопный ямб основного повествования легко переходит в анапестические строки фронтовых «Борькиных стихов», а затем в цитирование сочиненной двумя поэтами песни «Одесса-мама». Ее раскрепощенный, «нелитованный» дух, живое присутствие стилистических нюансов одесского говора, знаменовал «в годы казенного безвитаминного искусства», как напишет впоследствии Агранович, спасение «оцепеневших душ, как один глоток свободы»: Был Одиссей бесспорно одессит, За это вам не может быть сомненья! А Сашка Пушкин тем и знаменит, Что здесь он вспомнил чудного мгновенья. Подобная «метатекстовость», включающая в себя воспроизведение самой песни, настороженных откликов на нее современников и даже полемику поэтов с идеологизированными голосами несвободной эпохи, расширяя жанровый диапазон произведения, позволяет ощутить атмосферу времени, понять явные и скрытые импульсы бардовского творчества. Художественное время поэмы, сопрягающее глубокие пласты индивидуальной и общенациональной памяти с восприятием современности, устремлено 177 к масштабу вечности, что становится особенно очевидным в изображении содержательного диалога Бориса со своим боевым напарником о смысле солдатского братства, военной, исторической памяти – разговора, происходящего уже в сфере посмертного бытия: Все песни, благодарные слова, И вздохи девушек, и слезы, и цветы Ты вправе, как и я, считать своими, Ты больше заслужил: ты отдал даже имя. Решаем так: укроемся с тобою Одной шинелью и одной плитою И – руку, парень! – именем одним. Поэт Смоленский – имя небольшое, Но как-нибудь нам хватит и двоим!.. Важные в поэме размышления о творческом делании в условиях общественной несвободы, смысле бардовского призвания оказываются весомыми и для иных произведений поэта-певца. Тяготение к афористичной выразительности в размышлениях о судьбе художника в XX веке ощутимо в целом ряде стихотворений Аграновича, имеющих нередко отчетливо автобиографичное и явно неподцензурное звучание: «Только ведь неизданный – не автор // Так же, как непойманный – не вор» («Левый художник», 1955); «Рукописи не горят. // Горят авторы» («Костры», 1995). Во многом созвучной рассмотренной поэме о Б.Смоленском стала заряженная высоким трагизмом баллада Аграновича «Высоцкий» (1981), которая пропитана впечатлениями от личного знакомства с поэтом-певцом. В основе баллады – остро драматичное «сюжетное» повествование об изломах творческого пути персонажа: Колонного зала ему не давала Всесильная Фурцева в славе своей, Его же в ту пору концертная зала – Легла от тайги до британских морей. Рассказ о поединке бардовской песни с властными голосами времени иллюстрируется здесь непосредственным звучанием этих голосов – композиционный прием, характерный в целом для песенного «лиро-эпоса» Аграновича. Звучание голосов времени обретает социально-психологическую конкретность в разговоре полковника и майора о «таганском Гамлете» и «недострелянных менестрелях», а также в горестно-пронзительном монологе самого Высоцкого, контаминацией ключевых образов его поэзии, запечатлевшей, по мысли автора, «портрет века», «особую энциклопедию жизни»: Надтреснутый колокол трех поколений, Родной академику и бичу, Он хрипел. И великий народ без стесненья Хлюпал, прижавшись к его плечу. 178 <…> Он шел без страховки по тоненькой нити, По узенькой ленточке пленки магнитной, Внизу оставляя обиды, измены, Ограды, завалы, тюремные стены. Осмысление судьбы героя-певца перерастает в исповедь собирательного лирического «мы» – выросшего в «России, давящейся немотой» поколения. В этом интимнолирическом и в то же время эпически обобщенном исповедальном слове скорбная элегичность сочетается с протестной энергией сатирического звучания: Почти без мелодии и вокала, В ритме, в котором орет воронье, Песня на ощупь в нас душу искала И мертвой хваткой сжимала ее. Постижение автором неповторимой творческой и личностной индивидуальности своего героя обуславливает в произведении отход от традиционных жанровых канонов – тональности и стилистики реквиема: Не плачь о Высоцком – подпой ему лучше. Ты вспомни: веселый он был и везучий, Любимый, влюбленный, Друзей – миллионы… От «портретов века» художественная мысль барда устремлена к притчевым обобщениям. Поэтические притчи Аграновича, с одной стороны, могли прорастать из «драматургии» самой советской эпохи с ее фобиями и мифологемами – как, например, в стихотворении «Еврей-священник» (1962), которое в 1960-е гг. в рукописных копиях широко распространилось в московских интеллигентских кругах.230 С другой стороны, притчевые образы внешне часто отвлечены в поэзии Аграновича от непосредственных реалий эпохи и приобретают общефилософский смысл – в стихотворениях «Киты» (1956), «Настройщик» (1939), «Крушение веры» (1980) и др. Сознание лирического «я» этих и других притч отчасти сходно с мироощущением героя песенной поэзии Б.Окуджавы – грустного романтика, трезво воспринимающего трагедийность бытия и все же не теряющего веры в потаенную мудрость мироздания. У Аграновича эта сокровенная вера проступает в размышлениях о «солидарности» морских животных, которая может стать мудрым уроком человечеству («Киты»); в сказочно-аллегорическом и одновременно житейски конкретном образе Надежды («Тетя Надя», 1993) – «женщины с котомкой», смысл упорных странствий которой по земле 230 См. об этом во вступительной заметке Б.Сарнова к указанному выше изданию произведений Е.Аграновича. 179 заключен – подобно миссии окуджавского «надежды маленького оркестрика» – во взыскании гармоничных оснований мира и души: И будет долгие века Искать настойчиво и тщетно, От устья и до маяка Свершая путь ежерассветно. Мягкая романтика, сентиментальность, ноты доброго юмора (как, например, в песне «Последний рыцарь на Арбате»), будучи важнейшими свойствами авторской эмоциональности, подчас соединены в притчах Аграновича с балладным жанровым фоном, создающим трагедийную перспективу нелицеприятного изображения жестокой, сниженно-бытовой реальности. Так, в ранней балладе о настройщике роялей («Настройщик», 1939) образ странника, «чудака», «обитателя земли», отчаянно сопротивляющегося царящему на земле насилию и бесславно гибнущего в этом поединке «у грязной стены, на открытом морозе», выведен на грани тонкой, незлой иронии автора над утопическими чаяниями героя – и решительного утверждения поэтом ценности «негнущейся веры» персонажа. В позднем же философском стихотворении «Крушение веры» неостановимая утеря современной душой этого дара воспринимается равносильной вселенской катастрофе, что на уровне художественной образности передается сопряжением повседневно-бытового со вселенским: Вздрагиваю от треска, Особенно в час рассвета, Когда пугающе резко Лопается планета. Тут жалобно заскрипели, Там рвутся, дойдя до точки, Заржавленные параллели, Как обручи старой бочки… Иносказательное, притчевое начало активно проникает у Аграновича и в сферу лирической исповеди. В песне «Я в весеннем лесу пил березовый сок…» (1954) сквозь характерный для ранней бардовской поэзии романтический мир далекой экзотики в раздумьях лирического «я», эпически обобщающих его земные странствия, проступают узнаваемые вехи судьбы Родины, горечь невольной отторгнутости от нее: И окурки я за борт бросал в океан, Проклинал красоту островов и морей, И бразильских болот малярийный туман, И вино кабаков, и тоску лагерей. Зачеркнуть бы всю жизнь и сначала начать, Прилететь к ненаглядной певунье моей, Да вот только узнает ли Родина-мать Одного из пропавших своих сыновей?.. 180 Среди иных исповедальных стихотворений и песен особенно выделяется философская «новелла» «Мельница-метелица» (1980). Ретроспективное изображение довоенного эпизода из московской жизни героя с возлюбленной в старом «домишке», память о «ветхом, старом доме» вырастают до масштабов эпически многомерного образа времени, неумолимых «жерновов» судьбы, до философского соотнесения интимно-личностного и глобально-исторического, войны и мира как полярных первооснов бытия. Притчевая глубина связана здесь с ключевой символической деталью, осмысляемой в духе фольклорной традиции древнего эпоса: упущенное из дома тепло оказывается вещим предзнаменованием гибели дома, всей прошлой жизни в пору грядущих потрясений: Я же ей доказывал: это не опасно. И пока мы рядышком – не замерзнем мы… Я еще не знал тогда, что теплом запасся На четыре лютых фронтовых зимы… Как и в народной поэзии, образ «мельницы-метелицы» воплощает здесь прихотливую игру судьбы, горестную разлуку героя со знакомым и любимым миром прошлого. Эти переживания получают в стихотворении как глубоко интимный, так и – в свете образного контраста довоенной и современной Москвы – эпохальный исторический смысл: Словно храм гостиница, гордая «Россия», Мелочь деревянную сдула и смела. И не помнят граждане, кого ни спроси я, Где такая улица, где ты тут жила. А церквушка старая чудом уцелела – Есть с кем перемолвиться, помянуть добром. Знать, она окрашена снегом, а не мелом, Прислонись – и вот он тут, ветхий старый дом. Аж до крыш засыпана ледяной мукою Рубленая, тесаная старая Москва… Таким образом, творчество Е.Аграновича стало примечательным явлением в истории как авторской песни, так и «задержанной» литературы в целом, постепенно получающей перспективу объективного исследования. Многоплановая по тональности, музыкально-интонационным решениям, жанровой природе – от коротких бытовых сценок, сюжетных зарисовок до баллад, развернутых лиро-эпических полотен и поэтических притч – песенная поэзия Аграновича, воплощенная в артистической экспрессии авторской исполнительской манеры, оказалась созвучной как ранней бардовской культуре 1950-60-х гг., с ее лирико-романтическим 181 образным миром, так и позднейшей авторской песне, которая обретет в произведениях М.Анчарова, В.Высоцкого, А.Галича и др. балладное, трагедийное звучание и повышенную социально-психологическую остроту. 182 Диалог эпох и культур II. в песенном творчестве Александра Городницкого 1. Русская история в стихах и песнях: поэзия Городницкого Песенно-поэтическое творчество Александра Моисеевича Городницкого (род. в 1933) характеризуется лирической проникновенностью, глубиной и одновременно эпической разносторонностью в освоении истории и современности. В его поэзии 19601990-х гг. сложился своеобразный «цикл» стихов и песен, обращенных к художественному постижению русской и мировой истории – в ее конкретности и символической многомерности. С жанровой точки зрения в данном «цикле» выделяются такие образования, как исторические портреты, обрисованные с той или иной степенью детализации; «ролевые» стихотворения и песни, которые связаны со вживанием «изнутри» в сущность исторических характеров, событий. В этом ряду – и сюжетные зарисовки исторических эпизодов, и панорамные историософские обобщения пройденного Россией пути, магистральных тенденций ее векового развития. Существенным в посвященных отечественной истории произведениях Городницкого стало поэтическое проникновение в сущность метафизики власти в России. С этим связан ряд художественных портретов правителей, в которых выведена их разнообразная характерология. В таких исторических портретах, как «Памятник Петру I» (1995), «Николай I» (1998), «Немецкий принц, доставленный в Россию…» (1977), «Петр Третий» (1987), важен парадоксальный модус авторской мысли, ее тяготение к символическим обобщениям. Так, в изображающем шемякинский памятник стихотворении «Памятник Петру I» неожиданный ракурс видения фигуры царя «без парика и без венка, // Что Фальконетом выдан» порождает трагедийные исторические ассоциации – от воспоминания о грехе сыноубийства до проекции на катастрофы XX столетия: «Он худобою черной схож // С блокадным ленинградцем… Бритоголового зека // Напоминая видом».231 Сплетение исторических драм проступает и в портрете «Николай I». Психологически емкая зарисовка последнего земного прощания императора с сыном-наследником («Оставляю, 231 Тексты произведений А.М.Городницкого, кроме оговоренных случаев, приведены по изд.: Городницкий А.М. Стихи и песни. СПб., Лимбус Пресс,1999. 183 Сашка, Россию // Я в плохом порядке тебе»), раскрытие сложного личностного облика персонажа, чьи «исполинские зиккураты // Слабость гибельную таят», перерастают в финале в грандиозное прозрение мистической сопряженности исторических судеб в масштабе вечности: Причастился он тайн святых, И ушел, догоняя в небе Им повешенных пятерых. А в иронически окрашенных портретах Петра III раскрывается тип слабого, чуждого России правителя, воплощающего своей фигурой частое господство иррационального и даже абсурдистского начала в российской власти и действительности в целом. В стихотворении «Немецкий принц, доставленный в Россию…» в детализированное описание слабого государя, что «в солдатики играл, читал Расина», неожиданно вторгается ощущение роковой, гротескной «логики» истории, подчас легко «перетасовывающей» лики и личины своих героев. Вопросительная модальность, свойственная интонационному рисунку многих исторических вещей Городницкого и передающая мироощущение сомневающегося, мыслящего вопреки догмам своего времени интеллигента, в финале стихотворения заостряет эту парадоксальность: «Мечтал ли он, голштинец худосочный, // Об облике ужасном Пугачева?». В песне «Петр Третий» подробно прорисованные «вещные» детали дворцового хозяйства («режут в кухне петрушку и лук») подчеркивают его глубинный отрыв от жизни остальной страны, – отрыв, чреватый личиной «пугачевщины»: Блеском сабель и пламенем алым Ненавистных пугая вельмож, Он вернется огнем и металлом, На себя самого не похож. Неожиданные образно-ассоциативные ходы, характерные для поэзии Городницкого, присущи и другим его историческим портретам: «Рылеев» (1998), «Чаадаев» (1987), «Денис Давыдов» (1998). Последние два особенно примечательны параллелями с реальностью XX в. В стихотворении «Чаадаев» эта параллель проходит на уровне частных судеб – «затворника на Старо-Басманной» и его «сгинувшего в Бутырках» потомка. Сквозь бытовую конкретику этих жизненных путей просматривается «подводное течение» национальной истории, ход которой в разные эпохи оказывается подчиненным варьирующимся личинам тоталитаризма: «Сначала цари, а позднее – вожди и генсеки…». Прозрение потаенной, подчас роковой связи времен влечет автора к полемическому переосмыслению – в форме диалога со слушателем – исторического оптимизма ранних, обращенных к Чаадаеву, пушкинских строк: 184 И в тайном архиве, его открывая тетрадь, Вослед за стихами друг другу мы скажем негромко, Что имя его мы должны написать на обломках, Но нету обломков, и не на чем имя писать. Апеллирующий же к мифологии пушкинских времен исторический портрет Дениса Давыдова («Денис Давыдов»), «поэта во стане русских воинов», по контрасту ассоциируется с болезненными явлениями современности – уже с иными воинами, отчаянно поющими «над выданною водкой» «среди хребтов Афгана и Чечни»… В галерее созданных поэтом-певцом художественных портретов значимое место принадлежит образу историка, постигающего хитросплетения русской судьбы. В стихотворении «Карамзин» (1977) размышления о подвижническом труде великого историка сплавлены с философски насыщенным образом исторического времени, которое «дни на нитку нижет», ускользая от однозначного рационального понимания. В стихотворениях «На даче» (1985), «Мой друг писал историю Кремля…» (1990), «Последний летописец» (1989) создается проникновенный личностный портрет современного историка Натана Эйдельмана – автора многих трудов о потаенных лабиринтах общественной жизни России, Пушкине и его эпохе, о развитии отечественной интеллигенции в ХVIII – ХIХ вв. В последние годы жизни друг Городницкого, Н.Эйдельман предложил в предисловии к вышедшей в 1991 г. книге стихов барда объективную и проницательную характеристику его как «тонкого, глубокого историка», для которого «поэзия оказывается одним из сильнейших, вернейших способов соединения времен, геологической разведкой, открывающей нравственные сокровища во всех эрах и эпохах».232 Действительно, песенная поэзия Городницкого образует особую сферу бытия исторического знания, обогащаемого, по мысли Эйдельмана, «смелостью, высокой субъективностью, откровенностью, стремлением к нравственным оценкам, и настоящей радости – и «злой тоске»».233 В стихах же об Эйдельмане поэт протягивает незримую нить, связующую мучительные загадки русской истории, которые символически запечатлелись в самом сердце страны («Царь-колокол, не знавший звонарей, // Царьпушка, не стрелявшая ни разу»), и безвременно оборвавшуюся жизнь ее «летописца». Таким образом само историческое знание предстает у Городницкого не обезличенноанонимным, но тесно сращенным с породившим его временем, с выстрадавшим его творческим духом: 232 233 Цит. по: Городницкий А.М. И жить еще надежде… М., 2001.С.584. Там же. 185 Скончался Натан Эйдельман. Случайно ли это? – Едва ли: Оборван истории план, Стремящийся вверх по спирали… Размышляя о творчестве Городницкого, рецензенты подмечали, что его «песни исторического и литературного цикла – это как бы роли, сыгранные для себя и для слушателей. Это уже театр».234 Постижение «театра» российской истории актуализирует в творчестве поэта-певца «ролевую» поэзию, позволяющую проникнуть изнутри в существо национального характера, прочувствовать его высоты и бездны, концентрированно передать дух исторической эпохи. В таких «ролевых» песнях и стихотворениях, как «Плач Марфы-посадницы» (1971235), «Смутное время» (1994), «Молитва Аввакума» (1992236), «Песня декабристов» (1963), пластично запечатлены исторические характеры героев. В «Песне декабристов» существенна скрытая ассоциация с лагерной действительностью в России XX века – параллель, актуализация которой весьма симптоматична для культурной и общественнополитической ситуации начала 1960-х гг.: А рудников еще на всех Хватит и вам. <…> Кто может нам сказать, какой Век на дворе? <…> Могильный снег – его на всех Хватит и вам.237 В «Плаче Марфы-посадницы» авторское повествование о подробностях новгородской исторической драмы выполняет функцию экспозиции «ролевого» лирического монолога – плача героини об утраченной городом вольнице. Это оплакивание, отражающее ее глубоко личностное восприятие истории родного края, окрашивает песню фольклорным колоритом, который усилен и созвучным народной поэзии образным строем: – Мой город, надломленный колос, Что встал у обочин, рыдая, Рассыплется медный твой голос На тихие слезы Валдая. Таинственная устремленность национального сознания к обретению высшего, надысторического смысла бытия по-разному отражена в «ролевых» стихотворении 234 Столяр И., Столяр М. Театр одного поэта // В мире книг. 1988.№11. С.59. В издании Городницкий А.М. Сочинения / Сост. А.Костромин. М., Локид, 2000 данная песня датирована 1969 годом. 236 В издании 2000 г. произведение датировано 1991 годом. 237 Городницкий А.М. Сочинения. С.90. 235 186 «Смутное время» и песне «Молитва Аввакума». В «Смутном времени» стилизованный под частушечную, разухабистую песню монолог выстроен от лица бродяг-самозванцев, что позволяет изнутри ощутить противоречивое мироощущение русского скоморошества и самозванства, жаждущего путем разрушительной вакханалии обнажить последнюю «правду» истории: «Пусть над собственной кончиной // Посмеется государь. // Мы его разоблачили: // Он расстрига, как и встарь». А в «ролевой» песне «Молитва Аввакума» поэтичная в своей книжной архаичности и фольклорно-песенной организации (рефрен «Ино побредем дале», синтаксические параллелизмы) речь не покорившегося подвижника приоткрывает глубинные истоки русского раскола, возвышенную, отрешенную от будничного измерения ипостась русского духа, «алчущего» надвременной правды истории. В монологе Аввакума проступают древние пласты народных верований, эсхатологические чаяния, прозрение греховного соблазна мирской власти, чуждой ощущению вечности «Господнего мира»: Господи, твой мир вечен – Сбереги от соблазна; Льстивые манят речи, Царская манит ласка. В пронзительном предсмертном вопле-молении героя полнота изобразительного плана соединилась с его проницательным самоанализом: «Глохнут подо льдом реки. // Ужасом сердца сжаты». В «ролевых» произведениях Городницкого вырисовывается и внутренняя «драматургия» переломных исторических эпизодов, умонастроение целых эпох русской жизни. Стилизованная, подобно «Молитве Аввакума», под древнерусскую речь песня «Соловки» (1972) построена как грозное, предшествующее военному наступлению предупреждение «царских людей» монахам мятежного монастыря. Стилистика древнего сказания, ярко-тревожная цветовая гамма, которая заряжена символическим смыслом, воссоздают атмосферу трагического для Руси столкновения духовной и государственной власти: Плаха алым залита и поката, Море Белое красно от заката. Шелка алого рубаха у ката, И рукав ее по локоть закатан. Ролевые же песни «Меншиков» (1992), «Песня строителей петровского флота» (1972) выразили в своих бодрых ритмах приподнятый дух петровской эпохи, пронизанной ощущением наступления «нового века» в истории России. Мажорная тональность лирического монолога Меншикова, построенного на ударных повторах звукообразов («Петербургу-городу быть, быть, // И на то Господняя власть, власть»), и особенно 187 залихватская песня «строителей петровского флота» отразили не только душевный подъем на заре новой эпохи, но и активизацию процесса национальной самоидентификации: Иноземный, глянь-ка С берега, народ, – Мимо русский Ванька По морю плывет! В сюжетной динамике стихов-песен Городницкого запечатлелось обширное эпическое полотно русской истории, ее кульминационные, часто катастрофические эпизоды – в их конкретно-историческом и надэпохальном значении. Это полотно охватывает и 1990-е гг., когда в своих произведениях бард предстает вдумчивым и пристрастным летописцем происходящих в российской действительности тектонических сдвигов: «Баррикада на Пресне» (1991), «Четвертое октября» (1993), «Не удержать клешнею пятипалой…» (1995), «Перезахоронение» (1998) и др. Особый интерес поэта-певца – петровское время в его подспудных и явных противоречиях («Родословная Петра», «Петровская галерея» и др.). В стихотворении «Петр Первый судит сына Алексея» (1989) детально прорисованный эпизод сыноубийства обогащен метаисторическим смыслом, связанным с драматичным расколом между исконной духовностью и замыслами государственного переустройства в России. Авторское слово тяготеет здесь к максимальному аналитизму, афористичности и вместе с тем проникнуто лиризмом, проявляющимся в элегических интонациях, экспрессивных речевых оборотах, которые взрывают ритм мерного «повествования»: Россия стремится на Запад, – В скиты удаляется Русь. Хмельных капитанов орава Уводит на Балтику флот. Держава уходит направо, Духовность – налево идет. А образный ряд стихотворения «Петровская галерея» (1988) рисует парадоксальное наложение «безумия фантазии петровской» на реформаторскую «эпоху просвещения в России» и в диалоге с классической традицией («встал на дыбы чугунный конь рысистый») обретает обобщающую перспективу. Примечательна с композиционной точки зрения песня «Ах, зачем вы убили Александра Второго» (1978). В горьком лирическом монологе автора, осмысляющего «неожиданный взрыв» цареубийства с учетом последующих потрясений и революционных катаклизмов в России («Кровь народа открыта // Государевой кровью»), звучит дерзостное, имеющее 188 общественно-политическую подоплеку обращение поэта к действующим лицам «театра» истории: Ненавистники знати, Вы хотели того ли? Не сумели понять вы Народа и Воли. Именно рефлексия об историческом опыте XX столетия, современности становится для Городницкого отправной точкой в процессе творческого погружения в глубь веков. Н.Эйдельман подметил, что в художественном сознании барда «существует некий поэтический циркуль, чья ножка постоянно вонзается в сегодняшнее, в уходящий XX век, круги же свободно витают на каких угодно дистанциях – «мимо Сциллы и Харибды, мимо Трои, мимо детства моего и твоего».238 Пунктиром в обращенных к XX веку песенно-поэтических картинах Городницкого проходит страшная череда войн и революций, которые порой предстают здесь в доселе непознанных ракурсах. В стихотворении «Блок» (1985) история «мира обреченного» увидена в зеркале личной и творческой трагедии великого поэта. Бытовая сцена, обрисовывающая процесс создания роковой поэмы, вбирает в себя агрессивные голоса и звуки, формирующие климат времени и посягающие на творческую гармонию. Сам язык, стилистика революционной смуты художественно прочувствованы здесь в качестве катализаторов всеобщего разрушения: «И ломятся в строчки похабной частушки припевки, // Как пьяный матрос, разбивающий двери гостиной». Обостренный интерес к «изнаночной» стороне исторического процесса, его воздействию на индивидуальные судьбы дает знать о себе и в стихах-песнях Городницкого о Второй мировой войне («Вальс тридцать девятого года», 1988; «Поминальная польскому войску», 1988 и др.). Доминантой авторской эмоциональности «Вальса…» оказывается жесткая ирония в раскрытии фарсовых поворотов исторического действа, усиленная нагнетанием подробностей молотовского приема «берлинских друзей»: «Вождь великий сухое шампанское // За немецкого фюрера пьет». Однако эта ирония оборачивается своей трагедийной стороной, когда мысль поэта переключается на столь значимый для персонажного мира авторской песни масштаб частных судеб, загубленных в результате авантюристской перекройки «карты мира»: И не знает закройщик из Люблина, Что сукна не кроить ему впредь, Что семья его будет загублена, Что в печи ему завтра гореть. 238 Цит. по: Городницкий А.М. И жить еще надежде… С.584. 189 Болезненные, сокрытые «в смоленских перелесках» страницы Второй мировой войны предстают и в «Поминальной польскому войску» – и вновь в сопряжении общеисторического и личностного (изображение судеб капитана и подхорунжего). Интересен разветвленный метафорический ряд стихотворения. Рвы захоронений начинают жить по своей, независимой от человека воле, выступая наружу и уподобляясь вечно гноящейся ране на «теле» родной земли и истории: «Но выходят рвы наружу, // Как гноящаяся рана». По справедливому замечанию критика, поэт-певец «с безрассудством отчаяния вскрывает наши национальные гнойники».239 Природный мир в стихотворении заключает в своих недрах ту историческую память, к правдивому восприятию которой еще не готово общественное сознание, а «телесная» метафорика овеществляет сам образ исторического времени, делая его до боли осязаемым: Не на польском рана теле – А на нашем, а на нашем. И поют ветра сурово Над землей, густой и вязкой, О весне сорокового. В художественном целом песенно-поэтической историософии Городницкого чрезвычайно важны и произведения, рисующие панораму русской истории осмысляющие глобальные закономерности ее протекания. Спецификой и лиризма Городницкого становится укорененность многоплановой рефлексии о «странном фильме» отечественной и мировой истории не только в сознании, но и в подсознательных, сновидческих глубинах личности его лирического «я» («Мне будет сниться странный сон…», 1992). Вероятно, именно это помогает поэту в размышлениях об иррациональном, бессознательном в самом историческом процессе. Главным в подобных размышлениях стал принципиальный адогматизм, вызвавший еще в 1960-е гг. официозные обвинения в «клевете» на русскую историю. Парадоксализм мышления поэта влечет его не к разрешению определенных проблем истории, но к диалогу со слушателем об извечных загадках национальной судьбы – диалогу, способствующему пробуждению и активизации исторической памяти. Как верно отметил Л.А.Аннинский, исторические проблемы Городницкий «и не решает. Он их вмещает. Он о них – поет. Хотя чем дальше, тем труднее петь о том, что понимаешь».240 В поэзии барда емко выражается катастрофизм самоощущения личности в истории, где «безопасного нет промежутка» («Будет снова оплачен ценою двойной», 1992). Горечь 239 240 Шарков О. Откровения от Александра // Нева.1997.№12. С.167. Аннинский Л.А. Барды. М.,1999. С.57. 190 авторских раздумий об изломах истории предопределяет заметную антиутопическую деромантизацию и дегероизацию образа России, что не исключает, однако, и надежды на взлеты русского духа, святости, спасавших страну в годины лихолетий («Русская церковь», 1988): Не от стен Вифлеемского хлева Начинается этот ручей, А от братьев Бориса и Глеба, Что погибли, не вынув мечей. В землю скудную вросшая цепко, Только духом единым сильна, Страстотерпием Русская церковь Отличалась во все времена. В стихотворении же «От свободы недолгой устали мы…» (1998) вырисовывается явленная в прошлом и постсоветской современности Русь «воровская, варнацкая, ссыльная», а в нелицеприятных вопросах, звучащих в «Петровских войнах» (1965), приоткрывается оборотная сторона движущегося колеса истории – такой, какой запечатлелась она в простонародном сознании: А чем была она, Россия, Тем ярославским мужикам, Что шли на недруга босые, В пищальный ствол забив жакан, Теснили турка, гнали шведа, В походах пухли от пшена? Обобщающую перспективу приобретают у Городницкого и размышления о феномене русского самозванства, «бессмысленного и беспощадного бунта», обращенные к «бессознательным» импульсам русской истории, архетипическим пластам национальной ментальности («Российский бунт», 1972, «Самозванец», 1979 и др.). В центре стихотворения «Самозванец» – неторопливое, способствующее прозаизации поэтической ткани аналитичное размышление о «самозванстве – странной мечте, приснившейся русскому народу». Как в калейдоскопе, сменяют одна другую картины русского бунта («Лжедмитрия бесславная кончина // И новое рождение его»), автором художественно постигается, как правдоискательства несбывшаяся оседает в утопия темных «мужицкого недрах народного рая», национального подсознания, навеки откладываясь в генетической памяти. Зрительная конкретика образного ряда в произведении Городницкого просвечивается мистической бездонностью: Но будут век по деревням мужчины Младенцам песни дедовские петь При свете догорающей лучины, И, на душу чужих не взяв грехов, Все выносить – и барщину, и плети, Чтоб о Петре неубиенном третьем Шептались вновь до третьих петухов. 191 Важным в песенной поэзии Городницкого становится и многоплановое соотнесение опыта XX столетия с прошлым, проливающим новый свет на восприятие современности («Минувшее», «Шестидесятники», «Петербург» и др.). В стихотворении «Шестидесятники» (1995) историческая рефлексия облечена в неординарную форму прямых обращений, разговора с революционерами-демократами ХIХ в. («Ах, Николай Гаврилович, не надо // Заигрывать с крестьянским топором!»), а реминисценция из известных стихов В.Маяковского предстает в новом, пронизанном трагической иронией оценочном измерении: В двадцатом веке, где иные нравы, Где битвы посерьезнее Полтавы, И не сдержать взбесившихся коней, Не сладко от соленой вашей каши. Во входящем в разветвленный у Городницкого «петербургский текст» стихотворении «Петербург» (1977) субъективно-лирическое восприятие атмосферы северной столицы («С какой-то странною тоской // Мы приезжаем в этот город») помещено в объемный культурфилософский контекст. Здесь весомы и элементы психологического портрета основателя города («самодержавный государь, сентиментальный и жестокий»), и сознательный диалог с чаадаевскими раздумьями о европейском и азиатском в русской жизни, и символическое прочтение «текста» петербургского пространства, воплотившего собой «Европейскую Россию»: Не зря судьба переплела Над хмурой невскою протокой Соборов римских купола, Лепное золото барокко. В явленных в поэзии Городницкого перепутьях исторической судьбы России обнаруживается особый характер ее «всечеловечности». Внутренне полемичное по отношению к шовинистическим настроениям, актуализирующимся в переломную эпоху, стихотворение «Несчастливы те, кто упорно…» (1987) близко по стилистике и интонационному складу историческому сказанию, которое вводится в русло непринужденной, негромкой беседы. Раскрывается драма и вместе с тем с тем историческая уникальность «горькой Российской земли», засеянной столь разнородными этническими «зернами»: «Мешали с славянской хазары // Степную дремучую кровь. // Была к своим детям жестока // Земля, для любого ничья». Обладая тонким пространственным ощущением России, ее многополярного мира, поэт, развивая идеи В.Ключевского, рисует в стихотворении «Провинция» (1993) особый хронотоп нестоличной России, чувствование «неспешных» ритмов бытия которой расширяет горизонты художественно-исторического знания: «В столице царица, // А здесь 192 Пугачевы да Разины». Ученый-геофизик, Городницкий проецирует многослойность, полицентризм национального бытия на поэтическое видение незыблемых природных законов: «Так глубь океана // И стынет, и греется медленно». Драматизм историософским размышлениям поэта в 1990-е гг. придает созвучная духу эпохи конца XX в. тема распада Империи и даже, как следствие, возникающее порой ощущение исчерпанности российской истории: «От российской истории скоро останется нам // Лишь немецкая водка с двойною наклейкой «Распутин»» («Физики и лирики», 1994). В стихотворении же «Имперский дух в себе я не осилю…» (1993) крушение советской империи, угрозы распада России прочувствованы в плане не только социальноисторическом, но и образно-символическом, ассоциируясь с тайной «анатомией» «тела» государства, изменениями в его геофизике. В подобном «естественнонаучном» расширении образного ряда – проявление стилевой оригинальности песенной поэзии Городницкого: Трещит по швам великая держава, Готова развалиться на куски. Скрипят суставы в одряхлевшем теле Империи, – пора ее пришла, – Не зря веками в стороны смотрели Две головы двуглавого орла. Осыпались колосья, серп и молот Не давят на долины и хребты. Евразиатский материк расколот, – Байкал зияет посреди плиты. Важнейшими в стихах-песнях Городницкого становятся разноплановые пути художественной символизации в процессе постижения векового исторического опыта. В стихотворении с напоминающим о многом в национальном пути XX в. названием «Гемофилия» (1991) неожиданная параллель между убийствами двух царевичей, синхронное изображение действующих лиц истории («Полысевшему гению мальчик кровавый не снится») раскрывают «потаенные рвы» далекого и относительно недавнего прошлого, образуя обобщающий ракурс в видении тяжкого бремени этого прошлого, кровоточащих язв русской жизни: И почти уже век, появляясь негаданно вновь, На просторах империи, – что Магадан, что Фили ей, – Проступает сквозь снег убиенного мальчика кровь, Неспособная высохнуть вследствие гемофилии. Символическую значимость в произведениях Городницкого о России имеют пейзажные образы, тональность и эмоциональная окрашенность которых здесь могут быть весьма различными. Если в стихотворении «Кремлевская стена» (1994) выведенный 193 резкими, экспрессивными красками кремлевский пейзаж напоминает о многократно исходивших из Кремля импульсах насилия («вечен цвет кирпичной этой крови»), о темных страницах истории («дышит ночь предсмертным криком Стеньки»), то в своеобразных «кладбищенских элегиях» «Донской монастырь» (1970), «На кладбище СенЖеневьев де Буа» (1996) образный ряд выстроен иначе. В призме пейзажной символики здесь постигается мудрое бытие природы, которая живет неотменяемыми циклами, уравновешивает крайние «перегибы» и разрывы в историческом развитии. В песне «Донской монастырь» в «параде» времен года интуитивно прозревается сокровенная, знаменующая сохранение связи времен встреча двух столетий – «гусарской чести» и «вселенских сует»: Под бессонною Москвой, Под зеленою травой Спит – и нас не судит Век, что век закончил свой Без войны без мировой, Без вселенских сует. В песне же «На кладбище Сен-Женевьев де Буа» через изображение «московских снов» погребенных здесь эмигрантов прочувствованы трагедийные ритмы минувшей истории, а символический параллелизм пейзажных образов – ассоциация «скворцов двусложного напева» на французском кладбище с «пением птичьим» на Донском и Новодевичьем – создает ощущение гармоничного песенного многоголосия, подспудной целостности претерпевшей мучительный раскол отечественной культуры и как бы восстанавливает глубинные связи «вросшей в парижскую землю лебединой стаи» с родной землей: И снова в преддверии новой весны Покойникам снятся московские сны, Где вьюга кружится витая, Литые кресты облетая. В масштабной композиции лиро-эпической поэмы «Северная Двина» (1993) на жанровые признаки путевого очерка, запечатлевшего кризисные стороны современности (река, «пропитанная аммиачным ядом»), накладывается художественная интерпретация объемного «северного текста» русской культуры и истории. Мир северной реки образно воплощает здесь глубинные токи русской жизни, хранит память и о грандиозных петровских замыслах («Здесь Петр когда-то вздумал строить флот»), и о наследии тоталитаризма XX столетия («Лесное царство пересыльных тюрем, // Владения зловещего ГУЛАГа»), размыкаясь в «безмолвную» природную бесконечность, что создает в поэме символический пространственный ракурс изображения России: Единственная русская река, В российское впадающая море, Откуда путь уходит в никуда – Навстречу льду, безмолвию и мраку. 194 Итак, эпически многоплановый по фактографическому материалу, жанрово-стилевым тенденциям, системе персонажей «цикл» стихов и песен А.Городницкого об отечественной истории отразил драматичные повороты национального бытия, символические смыслы вековой народной судьбы, запечатлел русский характер в его извечных парадоксах. Художественный рассказ поэта-барда об истории России, который в ходе концертных выступлений дополняется и развернутыми комментариями, хотя и предстает часто в виде неторопливого, эпически обстоятельного повествования, в ракурсе щедро детализированных описаний, заключает в своей динамичной «внутренней драматургии», стилевой неоднородности колоссальный заряд лирической экспрессии, сосредоточенность на болевых точках истории и современности, а порой и злободневнополитическую остроту. Не содержащие «рецептов» немедленного исцеления России, стихи и песни Городницкого часто обращены к высотам русского духа, способным проявиться в кризисные эпохи. Исполняемые публично, эти произведения сыграли и продолжают играть важную общественную и отчасти педагогическую роль, ибо возвращают современникам утерянную память об историческом, нередко трагедийном, опыте, саму способность к национальной объективно-самокритичной рефлексии. 195 2. «Северный текст» в песенной поэзии Городницкого Хронотоп Севера составил один из самых значительных пластов песенного «лироэпоса» А.Городницкого. Проработавший на Крайнем Севере в 1950-1960-е гг. более семнадцати лет, поэт многопланово запечатлел свои «северные университеты» в песеннопоэтическом творчестве и воспоминаниях. текст» «Северный Городницкого характерология персонажей – это и разнообразная художественная трудного профессионального призвания; и творческая среда, необычайно питательная для развития бардовской поэзии, с ее вольным, неофициальным духом; и средоточие исторической памяти о трагических вехах национальной судьбы как в далеком прошлом, так и в XX столетии; и почва для масштабных философских обобщений.241 Существенен в произведениях Городницкого антропологический аспект «северного текста». Фактор экстремальности жизни и труда в северных краях «с грозной стихией один на один» предопределял особый личностный склад людей: полярных летчиков, с чьей, как вспоминал поэт, «бесшабашной вольницей связано немало легенд и «баек», где правда неотличима от вымысла»; самих народов Крайнего Севера, в мировосприятии которых бард отметил редкостное «единение с окружающей природой, ощущение себя частью ее».242 Север, как показал Городницкий в песнях и воспоминаниях, закладывал в души людей «основы нравственных критериев человеческого общежития… в маленьком, оторванном от нормальных условий мужском коллективе» и был, по сути, исключительной сферой реализации свободного духа в несвободной общественной среде. Для персонажей многих песен Городницкого именно «уроки» северной жизни стали решающим фактором личностного становления. В «северных» песнях 1950-60-х гг. на почве частных сюжетных зарисовок рождаются важные психологические обобщения. В знаменитой «ролевой» «Песне полярных летчиков» (1959), которая вызвала в бардовской среде ряд остроумных юмористических пародий, значима пространственная антитеза «южных городков», ассоциирующихся с тихим уютом и теплом любви, – и «северной вьюги» полярного края, 241 Понятие «северного текста» получило многоаспектное историко-литературное и культурологическое обоснование в сб.: Северный текст в русской культуре: Материалы международной конференции, Северодвинск, 25-27 июня 2003 г. / Отв. ред. Н.И.Николаев. Архангельск, Поморский университет, 2003. 242 Городницкий А. И жить еще надежде… С.137, 146. 196 испытывающей на прочность человеческие качества. Психологическое постижение внутреннего стоицизма выведенных здесь персонажей передается в пластике языка, тонко соединяющего, как и в «морских», «горных» песнях Ю.Визбора, В.Высоцкого, предметную и эмоциональную сферы: «Наглухо моторы и сердца зачехлены». Душевное единение полярников оказывается непредставимым вне атмосферы гитарного пения, а сама «старенькая гитара» становится у Городницкого знаковым образом, за которым таится проницательное чувствование нюансов личностного общения героев: Командир со штурманом мотив припомнят старый, Голову рукою подопрет второй пилот, Подтянувши струны старенькой гитары, Следом бортмеханик им тихо подпоет. Важны в данных произведениях внутреннее сближение автора с героями, физическое чувствование им ритмов их труда («штурвал послушный в стосковавшихся руках»), а также созвучные по духу лирико-романтической бардовской поэзии раздумья о соотношении юности и зрелости, которые приобретают в песне расширительный, далеко не только возрастной смысл: «Лысые романтики, воздушные бродяги, // Наша жизнь – мальчишеские вечные года». Психологическая достоверность «северных» песен основана во многом на их языковой выразительности, порой пропитанной «злой тоской» пребывания вдали от «материка». Такие произведения, как «На материк» (1960), «Черный хлеб» (1962), передают реальность диалогической, подчас нелицеприятной разговорной речи, в них преобладают интонации непосредственного обращения к особенно близкому в «таежной глуши» адресату, афоризмы, в которых общечеловеческие ценности, приложенные к крайним ситуациям северного похода, обретают животрепещущую актуальность: Ты кусок в роток не тяни, браток, Ты сперва погляди вокруг: Может, тот кусок для тебя сберег И не съел голодный друг. Ты на части хлеб аккуратно режь: Человек – что в ночи овраг. Может, тот кусок, что ты сам не съешь, Съест и станет сильным враг. Одним из ключевых в «северном тексте» поэта-певца стал и песенный цикл 1960 г., посвященный памяти погибшего на реке Северной друга, геолога С.Погребицкого. Черты путевого очерка, описывающего отчаянные поиски друга, накладываются здесь на суровонежное звучание адресованной далекой возлюбленной исповеди продвигающегося по северным краям персонажа. В проникновенном исповедальном дискурсе образ пути наделяется особым психологическим смыслом и позволяет острее ощутить ценность 197 человеческих привязанностей: «В промозглой мгле – ледоход, ледолом. // По мерзлой земле мы идем за теплом». Примечательна динамика общей тональности цикла. Боль за пропавшего друга, повышенное экзистенциальное напряжение памяти о сгинувшем в северных краях человеке – памяти, что «болотом и ветром испытана и спиртом обожжена», пропитываются зарядом душевной бодрости, юмора во взгляде героев на свою рисковую судьбу. Заключительная песня цикла «Перекаты», рисующая драматичную ситуацию перехода «по непроходимой реке», насыщена каламбурами, экспрессией живой разговорной речи. За внешним эмоциональным мажором здесь скрывается глубинный драматизм ощущения «поворотов» земного бытия, обнаруживающих его неизбывную хрупкость: К большой реке я наутро выйду, Наутро лето кончится, И подавать я не должен виду, Что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, – Не стоит долго мучиться: Люблю тебя я до поворота, А дальше – как получится… Северный хронотоп обретает порой у Городницкого психологический и бытийный, общечеловеческий смысл – как, например, в одной из первых песен «Снег» (1958), где в призме «северных» ассоциаций приоткрывается глубина любовных переживаний героя, вырисовывается родное для него жизненное пространство, проступают контуры романтического женского образа: Долго ли сердце твое сберегу? – Ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу Мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, Наших стоянок огни. Вплавь и пешком – как придется, – Песня к тебе доберется Даже в нелетные дни. В стихотворении же «Обычай» (1958) очерковая зарисовка похоронного обряда в тундре выливается в философское размышление о северном крае как месте особой близости человека к «границе» бытия, к дыханию вечности и чувствованию бессмертия души: Быть может, за арктической границей И нету вовсе смерти никакой, Где солнце вечерами не садится, И мертвым не даруется покой. 198 В позднейших стихотворениях Городницкого о Севере («Отражение», 1996, «Ностальгией позднею охваченный…», 1998) на место художественных зарисовок конкретных эпизодов полярных экспедиций, их острой «драматургии» приходят элегичность, «поздняя ностальгия» по многим ушедшим друзьям, молодости, «смотревшейся» когда-то «в зеркала Енисея». А потому даже самые прозаические и отнюдь не всегда радостные детали северного быта в свете всего прожитого художественно укрупняются и окрашиваются в горестно-восторженные тона: Комары над ухом пели тонко, Перекат шумел невдалеке, Плавилась китайская тушенка В закопченном черном котелке. <…> Я один на свете задержался Из троих, сидевших у огня. Творческая аура русского Севера – его как вековой песенной культуры, так и пропитанных трагизмом пронзительных «зековских» песен, – оказала, по собственному признанию барда, немалое влияние на тональность и образный мир его «северных» произведений («Полночное солнце», «На материк», «Перелетные ангелы» и др.), нередко распространявшихся в местной среде как безымянные, народные и обраставших причудливыми мифологемами. Авторской песне, рождавшейся во многом из народнопоэтической традиции, «профессионального» и «городского» фольклора, для которого была характерна предельная конкретность изобразительной сферы, оказалось близким тонко подмеченное Городницким эстетическое качество эвенкийских народных песен – «нехитрая творческая манера – петь только о том, что видишь и знаешь». С другой стороны, в тяжких условиях Арктики песня, по наблюдениям поэта, становилась и важным коммуникативным событием, «выражением общего страдания, усталости, грусти». Корректируя известное утверждение Б.Окуджавы о рождении авторской песни на «московских кухнях», Городницкий выявляет истоки данного художественного явления и в «лагерном» фольклоре, суровых «зековских» песнях. В стихотворении «Ноют под вечер усталые кости…» (1996) возникает образ бардасоавтора, «делящего» это соавторство с «бывшими зеками», чьи «матом измученные уста» «без подзвучки гитарной» раскрывали в песне изнаночные стороны «позабытых и проклятых лет», судьбы личности и нации в XX столетии. Поэт прорисовывает здесь емкую художественную характерологию своих «соавторов»: Всякий поющий из разного теста, – Возраст иной, и кликуха, и срок, 199 Значит, строку изначального текста Каждый исправить по-своему мог. В посвященной «памяти жертв сталинских репрессий» песне «Колымская весна» (1995) в «ролевом» монологе заключенного, обращенном к собрату, конкретика лагерного быта («Мы хлебнем чифиря из задымленной кружки»), мучительное чувство отъединенности от свободного мира («Схоронила нас мать, позабыла семья») соединяется с заветной мечтой о возвращении в «родные края», о катарсическом очищении родной земли. Стилевой «нерв» песни – в парадоксальном переплетении отчаянно звучащего лагерного языка и той высоты поэтического слова, образа бесконечности, к которым устремлена душа героя: Только сердце, как птица, забьется, когда Туча белой отарой на сопке пасется, И туда, где не знают ни шмона, ни драк, Уплывает устало колымское солнце, Луч последний роняя на темный барак. А созданная еще в 1960 г. песня «Мокрое царство» представляет собой «ролевой» исповедальный монолог заключенного, экзистенциальная напряженность которого обусловлена самоощущением героя на грани небытия: «За моим ноябрем не наступит зима, // И за маем моим не последует лето». Примечателен здесь художественный сплав жанровых свойств лагерной и народной лирической песни, с присущими последней интонациями доверительного общения человека с природным миром в минуту крайних испытаний: Я сосне накажу опознать палача, Я березе скажу о безрадостной доле, Потому что деревья умеют молчать, Потому что деревья живут и в неволе.243 В песне же «Полночное солнце» (1963) интимный лиризм обращения героязаключенного к возлюбленной обретает вселенский смысл и вместе с тем повышенную личностную напряженность – при наложении этих признаний на властно напоминающий о себе хронотоп Заполярья. Значительную художественную функцию выполняет в песне композиционная симметрия, проявляющаяся в контрастном совмещении в каждой из строф двух противоположных модусов миропереживания, несхожих пространственных ощущений: И будет все, как мы с тобой хотели, И будет день твой полон синевой. А в Заполярье снежные метели, И замерзает в валенках конвой. 243 Городницкий А.М. Сочинения. / Сост. А.Костромин. М., Локид, 2000. С.37. 200 «Северный текст» Городницкого вбирает в себя и объемные пласты исторической памяти – в масштабе как многовекового пути России, так и нелегкого наследия века XXго. На обращении к давней истории построены такие «северные» песни поэта, как «Соловки» (1992) и «Молитва Аввакума» (1992). Первая из них исполняется Городницким в стилизованной манере, воспроизводящей угрожающее воззвание «царских людей» к мятежным монахам Соловецкого монастыря. Контрастная экспрессия северного пейзажа («Море Белое красно от заката»), подчеркивая стоический дух монахов древней обители, выводит на осмысление трагического для России антагонизма власти и вековых традиций духовности: «Не воюйте вы, монахи, с государем! // На заутрене отстойте последней, – // Отслужить вам не придется обедни». В ролевом же монологе Аввакума («Молитва Аввакума») суровый северный природный космос выступает, как и в древней словесности, в качестве живого спутника героя. Эта природа являет мощь духовного мужания «алчущей правды» личности в ее роковом противостоянии «вьюге», «ветру» исторических перемен. С этим сопряжен характерный параллелизм в изображении северной «стужи свирепой» и душевного потрясения персонажа в неравной схватке со стихией. Здесь рисуется насыщенный духовным смыслом поединок между Севером и не теряющей своей индивидуальности личности: Стужа свирепей к ночи, Тьмы на берега пали. Выела вьюга очи – Ино побредем дале… В песнях и воспоминаниях Городницкого мир русского Севера естественным образом ассоциируется и с чудовищными изгибами национальной истории эпохи тоталитаризма – как с ее загадочными страницами (например, «заметенная метелью» память о реалиях финской войны в песне «Финская граница», 1963), так и с «кругами лагерного ада», навсегда запечатлевшимися в душах многих из тех, с кем поэту-барду доводилось общаться еще в 1950-е гг. во время заполярных экспедиций. В стихотворении «Беломорские церкви» (1994) приметы северного хронотопа наполняются символическим смыслом, а сам образ потемневших от времени храмовых сводов, которые веками «исцеляли людские раны», сводит воедино далекое прошлое и сегодняшний день нелегкого возвращения нации к духовным ценностям: «Сладким ладаном дыша, // Забывали здесь невзгоды, – // Чем светлей уйдет душа, // Тем темнее станут своды». 201 Из достоверности живых впечатлений, на почве автобиографических воспоминаний рождаются в стихах и песнях Городницкого художественные образы-символы, воссоздающие целостную историческую перспективу минувшего столетия. Например, в основе стихотворения «Крест» (1995) – воспоминание о посещении музея истории Норильска, экспозиция которого обнажила «изнанку сталинской империи», раскрыла страшную обреченность узников ГУЛАГа. Образ увиденного в музее чугунного креста приобретает в произведении расширительный смысл, воплощая собой «монумент неизвестному зеку» по закономерной аналогии с сакральной могилой неизвестного солдата, а его напоминающая «большой вопросительный знак» форма художественно запечатлена как «безмолвный вопрос уходящему нашему веку». Историческое время органично сплавлено в песенной поэзии Городницкого со временем индивидуального бытия и личностного становления лирического «я». Образ северных мест, скованных «цепким таймырским морозом», предстает нередко в сфере творческой памяти, воображения лирического героя, где на смену молодому «экстазу экспедиций» приходит нелегкое знание о безответных «железных вопросах», с беспощадностью заданных историей XX века, крайние явления которой ассоциируются именно с Севером, его «слепящей вьюгой». В стихотворении «Крест» пунктир отрывистых назывных предложений, повествующих о походной романтике первого прикосновения к северному миру («Экстаз экспедиций. // Мечтателей юных орда. // Рюкзак за спиною. // Со спиртом тяжелая фляга»), в заключительной части произведения уступает место сложным по эмоциональному настрою развернутым воспоминаниям, придающим углубленное, трагедийное понимание когда-то воспринятому: И с чувством любви, Вспоминая об этих местах, Я вижу во мгле, На рядне снегового экрана, То храм на крови, То бревенчатый храм на костях, То храм на золе. Да на чем еще русские храмы? Симптоматична у Городницкого и образная ассоциация Севера со смысловым полем «петербургского текста», весьма разнопланово представленного как в его поэзии, так и в авторской песне в целом. В стихотворении «Этот город, неровный, как пламя…» (1987) многослойный хронотоп Ленинграда-Петербурга – «города-кладбища, города-героя, где за контуром первого плана возникает внезапно второй» – максимально приближен к миру Севера вследствие тяжести 202 выпавших на его долю природных и исторических испытаний, фактора экстремальности, всегда сопутствовавшего бытию «града Петра», который неспроста поименован в произведении «северных мест Вавилоном». Важно, что и «северный» и «петербургский» «тексты» в поэзии Городницкого, пересекаясь, заключают в себе масштабные историософские раздумья автора о России, о полярных, нередко взаимоисключающих импульсах ее векового пути: первозданном «древлем» благочестии, стоицизме аввакумовского типа – и личинах тоталитаризма; причастности европейской культуре – и одновременном торжестве «Азии упорной»… Символическое обобщение о месте северного пространства в русской истории XX столетия возникает в песне-притче «Перелетные ангелы» (1964). Вечно длящийся полет на север «перелетных ангелов», чьи «тяжелые крылья над тундрой поют», ассоциируясь с цветаевской мифологемой «Лебединого стана», воплощает глубинные пласты национальной памяти о замученной России. Элементы «сюжетного» повествования соединены здесь с горестно звучащим лирическим монологом: Опускаются ангелы на крыши зданий, И на храмах покинутых ночуют они, А наутро снимаются в полет свой дальний, Потому что коротки весенние дни. В стихотворении же «Климат» (1998) северное пространство России спроецировано на коренные свойства национальной ментальности, предопределившие исторический путь народа. Сквозь зримое, чувственно воспринимаемое мысль поэта устремлена к потаенным закономерностям русской жизни, с ее «дикими символами воли»: «Не для русских метелей зеленая эта дубрава, // Не для наших укрытых лишь крестным знамением лбов. // Где лютуют морозы – не действует римское право». Своего рода обобщение смысловой и художественной многомерности созданного Городницким «северного текста» достигается в поздней панорамной поэме «Северная Двина» (1993). Написанное «белым» стихом, произведение рождается из жанра путевого очерка, неторопливого рассказа, беседы об увиденном повествователем в Архангелогородье: «Мы плыли вниз по Северной Двине // На белом пассажирском теплоходе». Все поэтическое «повествование» основано на взаимопроникновении двух временных измерений – настоящего, передающего подробности нелегкой жизни северного крестьянства («Крестьянские морщинистые лица, // Согбенные, но крепкие тела»), и истории. Исторические ассоциации, навеянные таинственной, молчаливой аурой русского Севера, позволяют поэту остро ощутить контрасты национального бытия. Это и популярные в 203 северных краях песенные сказания о покаявшемся Кудеяре, отражающие сущностные грани национального сознания; и свидетельства высокой духовности предков: «Я вспоминаю контуры церквей // Преображенья или Воскресенья, // Плывущие над белою водой». Однако это же пространство несет бремя памяти о радикальных переделках русской жизни петровской поры, о «гулаговских» экспериментах над нею в XX веке. Символически многозначен северный пейзаж в поэме. Здесь и поэзия северной природы, с ее «таинством полночной тишины» и «берестою северного неба», и в то же время появление зловещих красок, когда архангельские, непохожие на «петербургскопушкинские», белые ночи настойчиво напоминают о лагерной реальности: И вышки зон и постоянный день, Как в камере, где свет не гасят ночью, Бессонница, что многодневной пыткой Пытает обескровленный народ. Здесь и величие «спокойной российской реки с болотистым многорукавным устьем», и одновременно отражение в северодвинском пространстве бед современности: вода, «пропитанная аммиачным ядом бумажно-целлюлозных комбинатов». Иллюзорной оказывается географическая близость отделенного от окружающего мира северного края к Европе: «Пробить пути на Запад и Восток // Отсюда не сумели мореходы». Таким образом, осмысление мистических и явленных ритмов бытия северной реки приводят поэта, соединившего взгляд художника и ученого-естественника, к постижению перепутий национальной истории в прошлом и современности. Лирический монолог сращен в произведении со стилистикой исторического предания, а изображение реальных путевых встреч просвечено символическим смыслом: И впереди, и сзади, и вокруг Струилась неподвижная Двина, С обманчиво прозрачною водой. Итак, в песенно-поэтическом творчестве Городницкого мир Севера явился как одной из заветных лирических тем, так и основой эпических обобщений. Память о совершенных в молодые годы северных экспедициях, ставших источником знания о многообразных человеческих характерах и судьбах, мощным импульсом к бардовскому творчеству, постепенно выводила поэта-певца к эпически емкому постижению русского Севера как кладезя исторического опыта. «Северный текст» поэзии Городницкого, органично вписываясь в ткань его лирических медитаций, прирастая персонажным миром, в жанровом отношении 204 эволюционировал от драматургичных сюжетных сценок, «ролевых», стилизованных монологов – к лирической исповеди, масштабной символической панораме и становился почвой для историософских и культурологических обобщений. 205 3. Пушкин и его эпоха в стихах-песнях Городницкого Воплощением многогранного песенно-поэтического эпоса Городницкого явился не только рассмотренный выше исторический «цикл» его произведений, но и широкий спектр культурфилософских обобщений, органично «вживленных» в ткань художественных образов и по-новому высвечивающих грани исторической проблематики. В стихах и песнях барда начиная с 1960-х гг. оформляется внутренне единый разножанровый пушкинский «цикл», где многоплановый образ поэта, его жизненного и творческого пути сращен с самим духом современной ему эпохи, с портретами поэтов пушкинской плеяды. Уже в ранних сфокусирован на стихотворениях Городницкого художественный взгляд автора конкретных вехах судьбы Пушкина, при этом смысловой акцент делается на ее трагедийной доминанте. В стихотворении «Поэты» (1969) рефлексия о драматичных поворотах его жизни, гибели («сколько раз ни приходилось биться…») оборачивается глубоким духовно-нравственным осмыслением удела русского гения: Причина здесь не в шансах перевеса, – Была вперед предрешена беда: Когда бы Пушкин застрелил Дантеса, Как жить ему и как писать тогда? Эти поэтические интуиции Городницкого органично вписываются в контекст русской философской мысли о Пушкине: о фатальной невозможности примирения между «служением высшей красоте» и «фактом убийства из-за личной злобы» размышлял в работе «Судьба Пушкина» (1897) В.С.Соловьев.244 В «ролевой» песне «Дуэль» (1971), написанной «от лица» спешащего на роковой поединок поэта, в сквозном мотиве «веселой скачки» бодрые ритмы, творческое переживание героем радости бытия парадоксально соединены с драматичными нотами, которые придают преобладающей в произведении «вакхической» тональности оттенок пронзительной скорби: Спешим же в ночь и вьюгу, Пока не рассвело, За Гатчину и Лугу, В далекое село. Сгорая, гаснут свечки В час утренних теней. Возница к Черной речке Поворотил коней. 244 Соловьев В.С. Литературная критика. М.,1990. С.201, 203. 206 В статье «Светлая печаль» С.Л.Франк особое внимание уделил «трагическому элементу» поэзии Пушкина, проницательно распознав в глубинах этого трагизма путь к духовному просветлению – таинственная диалектика, получившая многостороннее исследование в философской пушкинистике: «Глубоко и ясно видя трагизм человеческой жизни, Пушкин, сполна его изведав, ведает и такой глубинный слой духовной жизни, который уже выходит за пределы трагизма и по самому своему существу исполнен покоя и светлой радости. Он находит его в уединении, в тихой сосредоточенности размышления и творчества».245 В песенной «пушкиниане» Городницкого эти философские прозрения получают оригинальное художественное воплощение. Постижением им онтологического трагизма бытия поэта обогащено катастрофическим опытом XX столетия, вследствие чего Пушкин и его эпоха восприняты здесь в объемной исторической перспективе. Так, в стихотворении «Мне будет сниться странный сон…» (1992) картина гибели поэта, а также устойчивые символические образы «шестикрылого серафима», «окрестностей дубравных», «петербургской пурги», родственные контексту лирики Пушкина, увидены в калейдоскопе значимых исторических вех в общемировом масштабе: Мне будет сниться до утра Земли коричневое лоно, Арап Великого Петра, – Фалаш из рода Соломона, И петербургская пурга Среди окрестностей дубравных, Где в ожидании врага Стоял его курчавый правнук. Мне будет сниться странный фильм: Пустыня сумрачного вида И шестикрылый серафим Слетевший со щита Давида. А в песне «Донской монастырь» (1970) образы пушкинских персонажей введены в русло напряженных раздумий барда о мистической связи исторических и культурных эпох, о соотнесенности «века гусарской чести» со «вселенскими суетами… века двадцатого»: Ах, усопший век баллад, Век гусарской чести! Дамы пиковые спят С Германнами вместе. Размышления о Пушкине, его личной судьбе приобретают в целом ряде стихов и песен Городницкого обобщенно-символический смысл («Не женитесь, поэты…», «Поэты – изгои природы…», «Дом Пушкина» и др.). 245 Франк С.Л. Светлая печаль // Пушкин в русской философской критике. М.,1990. С.474. 207 В стихотворении «Дом Пушкина» (1987) глубоко прочувствованная земная бесприютность лишенного «жилья родного» Пушкина – от «Лицейского дортуара без потолка» до «чужого мундира», «последнего дома, потравленного врагом», «чужой неприютной эпохи» в целом – распространяется и на посмертную участь поэта, которая таинственно сопрягается с историческими катаклизмами в России XX века: «Дом мужики в Михайловском сожгут, // А немцы заминируют могилу». В изображении отдельных эпизодов, напряженной «драматургии» частной и общественной жизни поэта бытовое сопрягается с бытийным, а сам Пушкин предстает в поэтическом мире Городницкого в качестве надэпохальной, по преимуществу трагедийной фигуры, запечатлевшей в своей судьбе извилистый путь отечественной культуры и истории последних двух столетий: Мучение застыло на челе – Ни света, ни пристанища, ни крыши. Нет для поэта места на Земле, Но вероятно, «нет его и выше». Подобная символическая масштабность поэтической мысли барда о Пушкине не умаляет, однако, чувствования уникальных личностных черт поэта. В стихотворении «Старый Пушкин» (1978) творческое вживание в ритмы бытия героя запечатлелось в его воображаемом портрете «от противного», построенном на отталкивании от заведомо неправдоподобного образа «степенного» поэта, творца «поэм величавой музыки». В финале этот гипотетический портрет художественно опровергается емкими метонимическими деталями, создающими эффект живого присутствия пушкинской личности: И мы вспоминаем крылатку над хмурой Невой, Мальчишеский профиль, решетку лицейского сада, А старого Пушкина с грузной седой головой Представить не можем; да этого нам и не надо. Художественную весомость приобретает в произведениях Городницкого и хронотоп пушкинских мест России, который составляет основу развертываемого здесь «текста» родной культуры. Поэтический образ Пушкиногорья запечатлелся в стихотворениях «Тригорское» (1995) и «В Михайловском» (1992), написанных в излюбленном пушкинском жанре непринужденного по стилю дружеского послания и обращенных Городницким к самому поэту. Композиционной осью стихотворения «В Михайловском» оказывается дружеский разговор с сосланным в псковскую глушь поэтом, раздумья о перипетиях его пребывания в опале, о стихийных силах природы, о русской истории, ее «бесовской» игре в преддверии исторических взрывов: «Скоро, скоро на Сенатской // Грянет гром, прольется 208 кровь». Образный мир произведения, его отрывисто и тревожно звучащие энергичные хореические строки вступают в диалогическое, реминисцентное соприкосновение с мотивами пушкинских «Бесов» и «Зимнего вечера». Здесь осуществляется значимое наложение современных реалий на точно воспроизведенные повседневные приметы михайловской жизни героя, а личностное общение поэтов в атмосфере негромкой доверительной беседы перерастает здесь в диалог двух эпох о перспективах национального бытия, с его иррациональными и непредсказуемыми поворотами: Сесть бы нам с тобою вместе, Телевизор засветить, Посмотреть ночные вести И спокойно обсудить. Страшновато нынче, Пушкин, Посреди родных полей. Выпьем с горя, – где же кружки? Сердцу будет веселей. В стихотворении «Тригорское» участное обращение лирического героя к Пушкину характеризуется смысловым и стилевым разнообразием. Окрашивающий изображение житейской обыденности легкий юмор («Сенная девушка брюхата, // Печурка не дает тепла»), простой, разговорный стиль послания к «уездному Мефистофелю», поэтически преображенные биографические реалии («Покуда заплутавший Пущин // В ночи торопит ямщика») органично сплавлены с философским постижением антиномичной связи радости «чудных мгновений» жизни и трагедийного переживания ее кратковременности: Как разобщить тугие звенья Паденья вниз, полета ввысь? Запомнить чудное мгновенье И повелеть ему: «Продлись»? Недолгий срок тебе отпущен… Образ Пушкина ассоциируется у Городницкого и с «петербургским текстом» русской литературы и культуры. Например, в стихотворении «Старый Питер» (1998) вековые исторические пласты сплавляются со сферой личных воспоминаний лирического «я», а многослойный хронотоп города являет образ синхронного сосуществования ХIХ и XX столетий в едином культурно-историческом континууме: «Воды Мойки холодной, смещаясь от Пушкина к Блоку, // Чьи дома расположены, вроде бы, неподалеку, // Протекают неспешно через девятнадцатый век». Вообще в поэтическом мире Городницкого ассоциирующиеся с Пушкиным пространственные образы – «решетка лицейского сада», «зимний вечер над Святыми над Горами» и др. – становятся устойчивыми лейтмотивами, а подчас и символами целой эпохи русской жизни: 209 Российской поэзии век золотой, – Безумного Терека берег крутой, Метель над Святыми Горами. Безвременной гибелью он знаменит, И колокол заупокойный звонит В пустом обезлюдевшем храме. («Российской поэзии век золотой…», 1995). Пушкинская тема входит в поэзии Городницкого в широкий круг ассоциативных связей. Немаловажную роль сыграла тут дружба поэта с историком Натаном Эйдельманом, автором ряда книг о Пушкине, его окружении и эпохе. Его «страстное пожизненное увлечение Пушкиным» позволяло, по мысли барда, представить жизненный путь и творчество поэта в качестве «главной несущей конструкции описываемой эпохи, начала координат».246 Весомы в рассматриваемом «цикле» Городницкого художественные портреты друзей Пушкина, поэтов его эпохи («Батюшков», «Веневитинов»), главное место в которых занимает глубоко личностное осмысление их судеб, иногда напрямую перекликающееся, как в стихотворениях «Дельвиг» или «Матюшкин», с жизненным опытом поэта-певца. В стихотворении «Матюшкин» (1977) образ «с лицейского порога на корабль перешагнувшего шутя» мореплавателя, в согласии с творческим пристрастием самого автора – барда и ученого-океанолога, – проникнут вдохновением бесконечного открытия природного космоса, которое близко и общему настрою авторской песни: «Такие видел он пейзажи, // Каких представить не могли // Ни Горчаков, ни Пушкин даже». А в поэтическом портрете Матюшкина актуализируются крылатые пушкинские строки, которые косвенно спроецированы здесь и на богатый житейский опыт Городницкого, и на «жестокую» современность: Жил долго этот человек И много видел, слава Богу, Поскольку в свой жестокий век Всему он предпочел дорогу. Автобиографическими ассоциациями пронизано и стихотворение «Дельвиг» (1995), где сама модальность прямого обращения к адресату напоминает воспевшее дружеское родство двух поэтов пушкинское послание «Дельвигу» (1817). Образ А.Дельвига прорисовывается Городницким на грани реального и легендарного, воскрешающего его лицейскую репутацию невозмутимого ленивца («мечтатель, неудачник и бездельник») и привносящего в произведение живое дыхание пушкинских времен: 246 Городницкий А.М. И жить еще надежде… С.593. 210 В асессоры ты вышел еле-еле, Несчастлив был в любви и небогат, Прообразом для Гоголя в «Шинели» Ты послужил, сегодня говорят. Проникновенное обращение к «старшему брату по музам и судьбе», которое содержит реминисценцию из написанного после Лицея и адресованного Пушкину стихотворения Дельвига («А я ужель забыт тобою, // Мой брат по музе, мой Орест?»247), ассоциируется в произведении Городницкого с автобиографичными раздумьями о себе – «вывихе древа родового». Неслучайно в композиции сборника «Ледяное стремя» поэтический портрет «инородца» Дельвига соседствует с наполненной драматичными размышлениями об истории собственного рода, России лирической исповедью «У защищенных марлей окон…» (1995): Я вывих древа родового, Продукт диаспоры печальной, Петля запутанной дороги, Где вьюга заметает след. Интуитивное прозрение «братства» с Дельвигом «по музам» подкреплено у Городницкого и близостью поэзии друга Пушкина музыкально-песенной народной культуре, в высшей степени созвучной творческим устремлениям самого поэта-певца: «И горестная песня инородца // Разбередит российскую тоску…». В художественном портрете другого, («Кюхельбекер», 1978) тонкая «душою по-немецки странного» поэта психологическая зарисовка героя, «сюжетное повествование» об эпизоде встречи с ним Пушкина в тюремном заключении перерастает в лирический монолог автора, открывающий эпически масштабную панораму воспоминаний о драматичных страницах русской истории, о подчас причудливом пересечении путей России и Европы на уровне частных человеческих судеб: Когда, касаясь сложных тем, Я обращаюсь к прошлым летам, О нем я думаю, затем Что стал он истинным поэтом. Что, жизнь свою окончив на щите, Душою по-немецки странен, Он принял смерть – как россиянин: В глуши, в неволе, в нищете. Образ пушкинской эпохи, художественное постижение жизненных и творческих путей ее ярчайших представителей выводят поэтическую мысль Городницкого и на познание опыта XX века, язв современной действительности, таинственных «скрещений судеб» далеких потомков героев пушкинского времени, парадоксально явленных, к 247 См.: Друзья Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2-х т. М.,1986. Т.1.С.181. 211 примеру, в том, как «В далеком Сульце правнуки Дантеса // Гордятся с Пушкиным нечаянным родством» («Наследники Дантеса», 1997). В стихотворении «Денис Давыдов» (1998) выведенный в качестве фигуры народной и литературной мифологии образ бравого «певца во стане русских воинов», актуализирующий поэтический контекст пушкинского времени, – ассоциируется в художественной логике произведения и с поющими отчаянные песни солдатами «среди хребтов Афгана и Чечни»: « «Ах, Родина, не предавай меня», // Поют они, но просьбы их напрасны». В стихотворении «Чаадаев» (1987) образный параллелизм судеб «затворника на Старо-Басманной» и «сгинувшего в Бутырках» его потомка, переведшего чаадаевские письма, являет тоталитарные крайности русской жизни и сопряжен с диалогическим переосмыслением пушкинских строк из раннего послания «К Чаадаеву» (1818), которые вынесены в эпиграф. Новое обращение к ним в конце стихотворения приоткрывает глубины авторского опыта «медленного» чтения Пушкина, заостренность связанной с фигурой Чаадаева, его «дальней эпохой туманной» рефлексии об умноженном в XX веке трагизме частного и исторического бытия: Он был арестован и, видимо, после избит И в камере умер над тощей тюремной котомкой. А предок его, что с портрета бесстрастно глядит, Что может он сделать в защиту себя и потомков? В глухом сюртуке, без гусарских своих галунов, Он в сторону смотрит из дальней эпохи туманной. Объявлен безумцем, лишенных высоких чинов, Кому он опасен, затворник на Старо-Басманной? Одно из центральных мест принадлежит в пушкинском «цикле» Городницкого и декабристской теме, соотнесенной с драматичным осмыслением исторических судеб России в прошлом и настоящем: в таких произведениях, как «Могила декабристов», «Иван Пущин и Матвей Муравьев», «Рылеев», «Пушкин и декабристы». В написанной от лица Муравьева «ролевой» песне «Иван Пущин и Матвей Муравьев» (1983) эмоциональное воззвание к другу-собрату по «сырым рудникам» соединяет горькое видение судьбы декабристов с осознанием необходимости активного личностного противостояния давлению «жестокого века». Итоговая строфа песни таит вполне определенные ассоциации далекой истории с реалиями «застойной» современности: Не ставит ни во что Нас грозное начальство, Уверено вполне, Что завтра мы умрем. Так выпьем же за то, Чтоб календарь кончался Четырнадцатым незабвенным декабрем! 212 В масштабной драматургичной поэтической композиции «Пушкин и декабристы», (1981) где в центр выдвинут эпизод беседы-спора узнавших о гибели Пушкина ссыльных декабристов Волконского, Горбачевского и Пущина, осуществлен жанровый синтез описательной пейзажной части, монологов персонажей и авторского голоса, который звучит в экспозиции и финале произведения. С имеющего локальное культурноисторическое значение спора собеседников о сложных отношениях Пушкина с декабристским движением смысловой акцент смещается на итоговые слова Пущина, которые в яркой образной форме передают философское обобщение об онтологической свободе творческого духа поэта, из века в век предопределяющей его трагичную участь в России: И молвил Пущин: «Все мы в воле Божьей. Певец в темнице песен петь не может. Он вольным жил и умер как поэт. От собственной судьбы дороги нет». Авторский же лирический голос воссоздает в стихотворении окрашенный скорбным чувством святогорский хронотоп («В Святых Горах над свежею могилой…»), который увенчивается в конце надвременным символическим образом «Руси великой» и, рифмуясь с пушкинским эпиграфом к стихотворению, с лейтмотивом «бесчинства бушевавшей пурги», обогащается также пронзительными блоковскими обертонами: Мела поземка по округе дикой. Не слышал стражник собственного крика. Ни голоса, ни дыма, ни саней, Ни звездочки, ни ангельского лика. Мела метель по всей Руси великой, И горький слух как странник брел за ней. В целостном контексте философской лирики Городницкого образы, строки произведений Пушкина, просветляющая сила пушкинского слова теснейшим образом соотнесены с духовным бытием поэта-певца. Так, в стихотворении «Герой и автор» (1985) в ткань философских раздумий о судьбе личности в «подлунном этом мире» вживлены образы пушкинских героев, которые ассоциируются с постижением как крутых поворотов истории («Кто больше прав перед судьбою хитрой – // Угрюмый царь Борис или Димитрий»), так и извечных духовнонравственных дилемм: «Кто автор – Моцарт или же Сальери? // И Моцарт и Сальери – в равной мере». Произведения Пушкина прочувствованы здесь как «вечные спутники» жизни автора, делящегося опытом вдумчивого, многолетнего проникновения в тайнопись пушкинских строк: 213 Немного проку в вырванной цитате, – Внимательно поэта прочитайте И, жизнь прожив, перечитайте вновь. В поздней философской поэзии Городницкого лирические воспоминания о прожитом, созвучные зрелым произведениям Пушкина раздумья об «отеческих гробах», «племени младом, незнакомом» нередко вступают в глубинный диалог с образами и мотивами пушкинской лирики. В стихотворении «А мы из мест, где жили деды…» (1991) авторская эмоциональность, окрашивающая доверительный диалог с собеседником о «жизни собственной дороге», просветлена гармонизирующим воздействием пушкинского слова – в образных ассоциациях со стихотворениями «Воспоминание» (1828) и «Пора, мой друг, пора…» (1834): И в царстве холода и снега, Душою немощен и слаб, О вероятности побега Подумает усталый раб. Постой и задержи дыханье, Мгновение останови, И смутное воспоминанье В твоей затеплится крови. И жизни собственной дорога, Разматываясь на лету, Забрезжит, как явленье Бога, И снова канет в темноту. Таким образом, единый, складывавшийся на протяжении десятилетий «цикл» стихотворений и песен Городницкого о Пушкине, его окружении, эпохе характеризуется как эпической широтой – в освоении исторических примет того времени, подробностей частных судеб друзей поэта, так и глубиной лирического вчувствования в потаенные смыслы строк пушкинских произведений, порой тесно соотнесенных у Городницкого с экзистенцией его собственного лирического «я», с судьбами поэтов XX столетия. Развернутый поэтический образ эпохи Пушкина, ее потрясений спроецирован бардом и на размышления о трагических катаклизмах новейшей российской истории. И по сей день часто исполняемые Городницким обращенные к Пушкину произведения органично вписываются в общий контекст творчества барда, в его самобытную песеннопоэтическую «историософию». 214 4. На рубеже веков: творчество Городницкого 1990-х гг. Творчество А.Городницкого, начинавшего свой путь в поэзии в конце 1950-х гг. со сборника «Атланты», стало значимой вехой развития отечественной авторской песни и шире – поэтической культуры второй половины XX в. Художническая натура Городницкого соединила в себе дар поэта-певца, многие песни которого стали голосом времени, и талант ученого-геофизика, океанолога, приобретшего в многочисленных экспедициях, погружениях на океанское дно богатый опыт чувствования человеческой души, природного бытия, истории и культуры. В 1990-е гг. поэт продолжал активно выступать с концертами, выпустил ряд новых поэтических сборников («Созвездие Рыбы», «Ледяное стремя», «Имена вокзалов») и поэмы («Времена года», «Окна»), о жанрово-тематических чертах которых и пойдет речь ниже. Значительное место в поэзии Городницкого последнего десятилетия занимают песнивоспоминания, в которых автобиографизм сопрягается с исторической памятью. В стихотворении «Горный институт» (1992) драматичные воспоминания о сожженном «согласно решенью парткома» сборнике студенческих стихов в институтском дворе, о «прилипчивом запахе холодного этого пепла» перерастают в символическое, имеющее мифопоэтические обертоны обобщение о противоречивом духе оттепельной поры. В лирический монолог привносятся сюжетно-повествовательные элементы: Стал наш блин стихотворный золы неоформленным комом В год венгерских событий, на хмурой осенней заре. Возле топкого края василеостровской земли, Где готовились вместе в геологи мы и поэты, У гранитных причалов поскрипывали корабли, И шуршала Нева – неопрятная мутная Лета. Многочисленные в сборнике «Ледяное стремя» песни-воспоминания охватывают широкий диапазон жизненного пути героя, исторических судеб России, родного Ленинграда с послевоенного времени и отличаются напряженной сюжетной динамикой. В стихотворениях «Очередь», «Уцелевшие чудом на свете…» (оба – 1995) художественно запечатлелись «голодный быт послевоенных лет под неуютным ленинградским небом», трагически окрашенные портретные зарисовки обоженных войной соотечественников – «аборигенов шумных коммуналок, что стали новоселами могил». Отразился в песнях этого ряда и богатый экспедиционный опыт их автора – конкретные сюжеты приобретают в них не только социально-историческую, но и обобщенно-философскую 215 перспективу, знаменуя, как в стихотворении «Я арктический снег с обмороженных слизывал губ…» (1996), бытийную жажду личностного освоения новых «пространств»: И пространство, дразня, никогда не дает утешенья. Никому из живущих его не дано удержать В час, когда, распадаясь, оно повернет на попятный. А в автобиографической поэме «Окна» (1994) хронотоп северной столицы вмещает память героя о начальной поре жизни и творческого пути, о первом приобщении к «яду поэзии» в послевоенном Литкружке во Дворце пионеров, где полулегальным способом поэт познакомился с лагерными стихами В.Шаламова. Центральный же образ окон оставленных когда-то квартир соединяет в поэме эпохальный и индивидуальноличностный масштабы бытия; фасадный облик Петербурга, городскую панораму – с миром сокрытых за этими окнами душевных переживаний, преодоленных вех земного пути: Те окна города ночного, Что нынче стали далеки, Внезапно возникают снова Над изголовием строки. Поэтическая рефлексия о собственном роде, творческих исканиях спроецирована у Городницкого на осмысление «запутанной дороги» русской истории XX в. Так, в философской элегии «У защищенных марлей окон…» (1995) в трагедийном самоощущении героя в качестве «вывиха древа родового, продукта диаспоры печальной», которое проступает в изображаемых «сюжетах» собственной творческой судьбы и жизни предков, рождается проникнутое нежностью и болью чувство России: Не быть мне Родиной любимым, Страны не знать Обетованной, Но станут в час, когда я сгину, Замучен мачехою злой, Строка моя, смешавшись с дымом, Российской песней безымянной, А плоть моя, смешавшись с глиной, Российской горькою землей. Художественное осмысление опыта отечественной и мировой истории было существенным уже в ранних произведениях Городницкого («Донской монастырь», «Плач Марфы-посадницы», «Песня строителей петровского флота» и др.). Песни и стихи об истории и современности составляют значительный пласт творчества поэта и в 1990-е гг. Многие из них направлены в поздний период на порой нелицеприятное художественное высветление язв национальной жизни, ее стереотипов и мифологем («Будет снова оплачен ценою двойной…», «То вождь на бронзовом коне…», «Соборность», «В Михайловском» и др.). 216 Поэтические образы русской истории зачастую помещены у Городницкого в сферу личных воспоминаний, творческого воображения лирического «я». В стихотворении «Мне будет сниться странный сон…» (1992) в «странном сне» герой, выходя за пределы индивидуального «я», обостренно ощущает кульминационные повороты мирового и национального исторического пути – от «князя Игоря плененья» до символичной «петербургской пурги», сопровождавшей гибель «курчавого правнука… Арапа Великого Петра». В поздних стихах и песнях Городницкого образ России, ее истории нередко передан через широкие символические образы, обладающие богатым ассоциативным потенциалом. Так, стихотворение «Гемофилия» (1991) заключает в себе горестную «археологию» «потаенных рвов» прошлого – от гибели «злополучного царевича из угличских смутных времен» до кровавой трагедии «в уральском лесу». Образ «проступающей крови» как воплощение метафизики русской Смуты в прошлом и настоящем возникает и в публицистически заостренных мотивах стихотворения «Безвластие» (1990). А в стихотворении «Кремлевская стена» (1994) исполненная трагизма символика кремлевского пейзажа, впитавшего память о давних исторических катастрофах («дождя натянутые лески» – «бунт стрелецкий… соляной»; «дышит ночь предсмертным криком Стеньки»), пульсирующий в чередовании длинных и коротких строк ритм передают остроту чувствования лирическим «я» длящегося в стране безвременья: Здесь всегда безрадостна погода, Смутны времена. Где река блестит с зубцами вровень Синью ножевой. Проявившиеся в прошлом и современности противоречивые грани национального сознания нашли художественное отражение и в песнях-ролях Городницкого («Смутное время», «Молитва Аввакума» и др.) – жанре, весьма значимом в общем контексте бардовской поэзии. В песенной поэзии Городницкого 1990-х гг. объемная историческая перспектива выводит и на художественное осмысление реалий современной жизни. Обнажающие болезненные стороны постсоветского времени произведения барда отличаются точностью бытового изображения, остротой социальной проблематики («Старики», 1990, «Песня о подземных музыкантах», 1995). Так, психологически детализированная бытовая сцена гитарного пения в подземном переходе («Песня о подземных музыкантах»), воплощая неуют эпохи, обретает в глазах поэта личностный, автобиографический смысл и становится емким отражением гибельных тупиков 217 национального бытия. Пронзительный лиризм песни обусловлен прозрением лирическим «я» неизбывного родства своего пути с уделом «обнищалой отчизны»: Покинув уют, по поверхности каменной голой, Толпою влеком, я плыву меж подземных морей, Где скрипки поют и вещает простуженный голос О детстве моем и о жизни пропащей моей. Аккорд как постскриптум, – и я, улыбаясь неловко, Делящий позор с обнищалой отчизной моей, В футляр из-под скрипки стыдливо роняю рублевку, Где, что ни сезон, прибавляется больше нулей. С участной позиции вдумчивого свидетеля истории и летописца современной действительности поэт-певец в многочисленных, зачастую имеющих скорбно- ироническое, сатирическое звучание сюжетных зарисовках запечатлевает драматичные события эпохи – в стихотворениях «Баррикада на Пресне» (1991), «Четвертое октября» (1993), «Не разбирай баррикады…» (1992) и др. Распространены здесь мужественные гражданские инвективы, которые сочетаются с надрывными нотами как поэтического голоса, так и солдатских песен – в произведениях, связанных с афганской и чеченской тематикой («Не удержать клешнею пятипалой…», 1995, «Над простреленною каской…», 1995, «Денис Давыдов», 1998 и др.). Знаковые события современности – такие, например, как перезахоронение останков царской семьи («Перезахоронение», 1998), творчески постигаются Городницким в зеркале опыта целого столетия, болезненных явлений настоящего. От частного описания панихиды в соборе Петропавловской крепости ассоциативные нити тянутся к горьким воспоминаниям о «безымянных душах» погибших в Чечне, о прокатившихся по стране осквернениях еврейских могил. Потребность подвести нелегкий итог уходящему столетию определяет эпическую многомерность исторических параллелей, а также сложный характер авторской эмоциональности, основанной на взаимопроникновении скептицизма и затаенной душевной боли: И пустые гробы, упокоив остатки костей, Проплывают неспешно к местам своего назначенья. А в засыпанных рвах, погребальный услышав салют, Безымянные души себя поминают, рыдая, И понурые тени обратно на кронверк бредут По Большому проспекту от вязких песков Голодая. Бытийная насыщенность, сила образного иносказания во многих стихах и песнях Городницкого актуализируют жанровые элементы притчи. Притчевая форма таит здесь перспективы символических обобщений, касающихся судеб поколения, русской и общечеловеческой истории. лирического героя, его 218 В песне «Беженцы-листья» (1993) перипетии жизни лирического «я» «в поисках Родины, в поисках Бога, // В поисках счастья, которого нет», многих его современников, с драматизмом переживших в начале 1990-х внутренний надлом в ощущении, что «время не то и отчизна не та», предстают в призме вечных циклов природного бытия, библейских ассоциаций: Сколько бы ни сокрушался, растерян: Время не то и отчизна не та, – Я не из птиц, а скорей из растений – Недолговечен полет у листа. Поздно бежать уже. И неохота. Капли, не тая, дрожат на стекле. Словно подруга печального Лота Камнем останусь на этой земле. Вообще библейские архетипы и сюжетные коллизии, евангельские притчевые образы составляют существенный пласт песенно-поэтических притч Городницкого. Если в лирической исповеди «Сожалею об отроках, тихих, святых и убогих…» (1994) глубинный смысл евангельской притчи о блудном сыне спроецирован на полный сложных поворотов путь героя, «не прячущего перед ветром лица», то в таких произведениях, как «Галилея», «Павел», «Матфей», «Стихи о Содоме», «Остров Израиль», «Ной», проникновение в суть драматичных событий библейских времен выводит на художественное постижение трагедийной истории человечества и России. В развернутом «повествовании» «Стихов о Содоме» (1995) горестное осмысление поэтом удела родной земли-Содома проникнуто осознанием невозможности разлуки с «дымом его, губительным и сладким»: «Из Содома убежать нельзя // На потребу собственной утробе. // Здесь лежат безмолвные друзья // Под седыми плитами надгробий». В стихотворении же «Ной» (1998) обращенный в будущее библейский образ Всемирного потопа обретает зрительную достоверность благодаря объемному видению природного бытия («Нас океан качает неустанно, // Не предъявляя признаков земли») и создает апокалипсическую перспективу осмысления мировой и русской истории: Погибли Атлантида и Европа, От Азии не сыщешь и следа. Мифопоэтическая образность многих произведений Городницкого сопряжена не только с библейским хронотопом, но и со сквозным в его поэзии «петербургским текстом», содержащим здесь широкий спектр личностных и культурно-исторических ассоциаций и восходящим к творчеству барда еще 1970-х гг. В созданном Городницким поэтическом портрете родного города возникает целостное изображение как реального, так и мистического бытия северной столицы. 219 В песенной поэзии Городницкого «петербургский текст» оказывается сквозным и многоуровневым – от автобиографичных воспоминаний о «Василеостровского роддома // За зиму не мытом окне» до масштабных исторических обобщений о разворачивающейся в Петербурге «русской трагедии на фоне европейских декораций». Ленинград-Петербург в стихах и поэмах Городницкого выступает как действующее лицо в воспоминаниях лирического «я». В картинах послевоенного Ленинграда личное неотделимо от социально-исторического опыта соотечественников, драматичных судеб горожан – «болезненных детей Ленинграда». В стихотворениях «Дворы – колодцы детства моего…» (1974), «Ностальгия» (1979), «В краю, где одиннадцать месяцев стужа…» (1995), автобиографических лиро-эпических поэмах «Новая Голландия» (1962) и «Окна» (1994) из ностальгически припоминаемых бытовых подробностей повседневной жизни «дворов-колодцев», их запахов и звуков («И патефон в распахнутом окне // Хрипел словами песни довоенной») складывается объемный образ прожитого века: «Нас век делил на мертвых и живых. // В сугробах у ворот лежала Мойка». Финал пронизанного атмосферой «неуютного ленинградского неба» стихотворения «Очередь» (1995) перекликается с ахматовской поэмой «Реквием» – в утверждении слитности пути поэта с судьбами «аборигенов шумных коммуналок, что стали новоселами могил»: «Что вместе с ними я стоял тогда // И никуда не отходил надолго». В творческой рефлексии героя о прожитом горечь воспоминаний соединяется в стихотворениях «Стою, куда глаза не зная деть…» (1979), «Полагаться нельзя на всесильным казавшийся разум…» (1995) с лирическим преображением деталей городского пейзажа, воскрешающего образ первой – мучительной и влекущей любви: «И улыбнешься горестно и просто, // Чтобы опять смотреть с Тучкова моста // На алый остывающий витраж». А в песне «Меж Москвой и Ленинградом» (1977) хронотоп обеих столиц «прошит» сквозным мотивом пути героя – в согласии с природными, вселенскими циклами: Меж Москвой и Ленинградом Теплый дождь сменился градом, Лист родился и опал. В «Ленинградской песне» Городницкого (1981), как и в «Ленинградской элегии» Б.Окуджавы (1964), город одушевлен населяющими его «любимыми тенями», узнаваемыми «на гранитах», «в плеске мостовых». В многомерном хронотопе парадный лик «российских провинций столицы», выведенный в образах Невского, Зимнего дворца, легко уступает место прозаической стороне городской жизни, протекающей «в рюмочной на Моховой // Среди алкашей утомленных». Позднее в «петербургских» стихах-песнях 220 Александра Дольского изображение низших уровней городского быта, искалеченных судеб современных мармеладовых будет доведено до наивысшей остроты. В песне же Городницкого многоплановое видение города отразилось на уровне поэтического стиля, где возвышенная образность обрамлена интонациями задушевного разговора «за стопкой простой и граненой»: Мы выпьем за дым над Невой Из стопок простых и граненых – За шпилей твоих окоем, За облик немеркнущий прошлый, За то, что покуда живешь ты, И мы как-нибудь проживем. В поздних «петербургских» произведениях Городницкого бремя нелегкого личного и исторического опыта актуализирует генетически восходящую к давним мифам о «граде Петра» семантику непрочности городского пространства. В стихотворениях «Когда я в разлуке про Питер родной вспоминаю…» (1991), «Постарел этот город у края гранитной плиты…» (1997) на первый план выступает скрытая «физиология», «анатомия» «тела» северной столицы. «Ностальгией последнею» позванный, лирический герой ощущает тяжесть исторической участи города в уходящем столетии, давящую «бездонными рвами Пискаревки»: «Исходит на нет кровеносная эта система, // Изъедено сердце стальными червями метро». Нелегкое бремя истории, груз личных драм обитателей города, трагедия «канувших» «в бездонные рвы» блокадного лихолетья оказывают воздействие и на последующую «телесную», «геологическую» жизнь Петербурга-Ленинграда: Еще под крестом александровым благословенным, Как швы, острова ненадежные держат мосты, Еще помогают проток истлевающим венам Гранитных каналов пульсирующие шунты. («Когда я в разлуке про Питер…», 1991) Образ «постаревшего» города с «сутулыми спинами мостов» становится, однако, магическим кристаллом, в котором «молодой Ленинград допотопным глядит Петербургом», а вглядывающийся в него герой приобщается к вечности, надвременной диалектике начал и концов земного пути:248 Но когда ты внезапно поймешь, что тебя уже нет, Напоследок вдохнув его дым, что и сладок, и горек, Снова станет он юным, как тот знаменитый портрет, Что придумал однажды британский блистательный гомик. 248 Ср. в обращении к Неве лирического героя Б.Окуджавы: «И я, бывало, к тем глазам нагнусь // и отражусь в их океане синем // таким счастливым, молодым и сильным…» («Нева Петровна, возле вас все львы…», 1957). 221 Если в песнях Б.Окуджавы экзистенциальный мотив возвращения к истокам в предчувствии истечения земных сроков сопряжен главным образом с арбатской Вселенной («Вы начали прогулку с арбатского двора, // к нему-то все, как видно, и вернется»), то в поэзии Городницкого завершение макроцикла календарного столетия и микроцикла человеческого пути ассоциируется с родным миром Царского Села (песня «Царское Село», 1974), с малой точкой петербургского пространства, равновеликой мировой беспредельности: Между Невской протокой и мутною речкой Смоленкой, Где с моим заодно и двадцатый кончается век. И когда, уступая беде, Я на дно погружусь, в неизвестность последнюю канув, То увижу на миг не просторы пяти океанов, – Надо мной проплывет на исходе финала Неопрятный пейзаж городского канала, Отраженный в холодной воде. Петербург предстает в поэзии Городницкого и в протяженном культурноисторическом континууме. Если в стихотворении «Дом на Фонтанке» (1971) стержневым является схваченный в деталях портрет именитого поэта («На Фонтанке жил Державин // Двести лет тому назад»), то пространственные образы в песне «Около площади» (1982), стихотворении «Всем домам на Неве возвратили теперь имена…» (1995) предстают в диахронном разрезе, сохраняя следы личного присутствия героя, что когда-то «над Невою бродил до рассвета». Напряженное раздумье о прожитом и пережитом в «хмури ленинградской» – о «судьбах пропавших, песнях неспетых, жизнях ненужных», ассоциируется с драмами отечественной истории («Площадь Сенатская…»), но при этом выводит нередко к чувствованию гармоничной органики городского бытия: «К небу, светлому в полночь, ладони воздели мосты». В стихотворении же «Старый Питер» (1998), этой городской «минипоэме», запечатлевшей сложную целостность исторического опыта личности конца XX столетия, образ северной столицы, с ее «хмурым» фоном, предстает как средоточие исторических «взрывов» в «медлительной пантомиме» веков: от народовольческого террора («высочайшею кровью окрасив подтаявший снег») до ГУЛАГа и «блокадного зарева»… Ассоциации Достоевского, который с его Петербургом ненавидел») Некрасова, Достоевского подкрепляются живым («Петербург присутствием мифологизированных фигур представителей культуры прошлого: «И тебя за плечо задевает Некрасов, // Из игорного дома бредущий под утро домой». 222 Представая в качестве векового культурного хронотопа, Петербург Городницкого актуализирует память о трагических судьбах связанных с городом поэтов – в «скрытой» поэтической «дилогии» «Блок» (1985) и «Ахматова» (1978).249 Если в первом стихотворении зловещий образный строй революционной поэмы, в чьем «названии слышится полночь», как бы порождает вокруг себя смятение городского мира («И мир обреченный внезапно лишается красок»), то в поэтическом осмыслении судьбы автора «Реквиема» тягостные подробности жизни блокадного Ленинграда просквожены дыханием роковой бездны Хаоса истории: Непрозрачная бездна гудит за дверною цепочкой. И берет бандероль, и письма не приносит в ответ Чернокрылого ангела странная авиапочта. Характерная для поэзии Городницкого 1990-х гг. творческая рефлексия над особым мироощущением «стыка» эпох, тысячелетий вбирает в свое смысловое поле и образ Петербурга, словно подошедшего «к началу неизвестной новой эры» – «Над сумерками купчинских предместий // Над полуобезлюдевшим Литейным» («Минуту третьей стражи обозначив…», 1996). Многопланово разработанная поэтом-певцом петербургская мифология наполняется историософским смыслом, а сам город обретает статус города-символа, города-мифа («Атланты», «Этот город, неровный, как пламя…» и др.). Еще в ранней песне-притче «Атланты» (1965), как и в окуджавском стихотворении «Летний сад» (1959), одушевленные каменные изваяния, воплощая могучее, устойчивое ядро жизни «града и мира», вступают в таинственное взаимодействие со сложной геофизикой города: Забытые в веках, Атланты держат небо На каменных руках. <…> А небо год от года Все давит тяжелей. Образ Петербурга сопряжен у Городницкого и с входящими в контекст вековой мифологемы северной столицы раздумьями о парадоксальной, драматичной встрече здесь европейской цивилизации с «азиатчиной», которые в свете нового опыта XX в. обретают трагедийное звучание. В стихотворении «Санкт-Петербурга каменный порог…» (1994) создается эффект мерцающего «двоения» примет городского топоса, где «тонут итальянские дворцы, – // Их местный грунт болотистый не держит». Памятники 249 В составленном самим поэтом цикле «Колокол Ллойда» (1984-1990) эти стихотворения помещены рядом. 223 Петербурга увидены здесь в мифопоэтическом ореоле, а образный диалог с пушкинским «Медным всадником» наполняется умножившимися в трагизме эсхатологическими мотивами: И бронзовую лошадь под уздцы Не удержать – напрасные надежды. И царь в полузатопленном гробу Себе прошепчет горестно: «Финита. Империи татарскую судьбу Не выстроишь из финского гранита». В стихотворениях же «Петербург» (1977), «Памятник Петру I» (1995) в различных ракурсах рисуется исторический и личностный портрет основателя города, главным в котором становится принцип парадокса. Если в первом случае эта парадоксальность носит индивидуально-личностный характер («Самодержавный государь, // Сентиментальный и жестокий»), то во втором шемякинская фигура «лысого царя без парика» получает символическую интерпретацию, приоткрывающую потаенные стороны ликов русской истории и олицетворяющую «судьбы печальной горожан пророчество живое». В «петербургском тексте» Городницкого уникальность города диалектически соотнесена и с его особой, архетипической «всечеловечностью», культурным универсализмом. В сознании поэта-певца, имеющего богатейший опыт прикосновения к различным культурам и цивилизациям, данный образ множеством ассоциативных нитей соотнесен с окружающим миром. Это, например, свойственная приморским городам свободолюбивая аура, ощутимая даже в таинственной жизни городских строений: «А здания, дворцы и монументы // Стоят, как бы высматривая судно» («Все города, стоящие у моря…», 1995). А в позднем цикле «Имена вокзалов» (1997-1999) «ленинградских вокзалов пятерка» знаменует органическую связь северной столицы с иными городами, культурами, пространственными типами мироощущения – в стихотворениях «Имена вокзалов» (1998), «Амстердам» (1997), «Венеция» (1997) и др. Важно подчеркнуть принципиально лиро-эпическую природу «петербургского текста» Городницкого, где лирические медитации героя, социальная конкретность жизни горожан в прошлом и настоящем перерастают в многоплановые историософские размышления, которые гальванизируются напряженной атмосферой стыка тысячелетий, культур, различных граней современного мирочувствия. 224 В позднем творчестве Городницкого в художественной картине мира все чаще запечатлеваются вечные, планетарные циклы бытия, отражающиеся в судьбах Вселенной, России, Петербурга, самого лирического героя. Художественная проекция географических, природно-климатических факторов на раздумья о соотношении европейского и азиатского начал в русской жизни, о тайне национальной ментальности («Климат», 1998, «Почему так агрессивны горцы…», 1994) осуществлена бардом-ученым в афористичной точного «поэтике слова» (Вл.И.Новиков250): «Непокорны горские народы, // Крепкие нужны им удила. // Местная коварная природа // Им жестокий нрав передала». Планетарные циклы бытия Вселенной вырисовываются в стихотворениях «Вестиментиферы» (1994), «Землетрясение» (1993), во многом развивающие традицию «научной поэзии», которая восходит еще к известным опытам Ломоносова. В первом произведении, этом обращенном в будущее поэтическом мифе, проницающий «глубины ночные океана» взгляд поэта-океанолога в недрах подводной жизни провидит возможное предвестие катастрофического «часа, когда вспыхнет пожаром земная недолгая плоть». А в «Землетрясении» художественно-философские размышления о диалектическом соотношении устойчивого и «ненадежности приходящей минуты», точного знания и непостижимой тайны непрочного бытия организма Земли, империи, нации, частного человека («подкова отскочила от рассыпавшейся двери») – увенчаны пронзительнотревожным, осложненным эсхатологическими обертонами лирическим обращением к родной земле: Ах, земля моя, мать-мачеха Расея, Темным страхом перекошенные лица, Невозможно предсказать землетрясенье, – Никакое предсказанье не годится. Поэтический мир Городницкого последнего десятилетия XX в. пронизан напряженным ощущением стыка веков, тысячелетий, эпох – ощущением, исполненным глубоким личностным, культурным, социально-историческим смыслом. Важна у Городницкого и развивающаяся – от более ранних художественных портретов русских поэтов – «Ахматова», 1978; «Блок», 1985; «Маяковский», 1986 – творческая рефлексия о судьбах поэзии, авторской песни, о драматичной прерывистости культурной жизни уходящего столетия («Российской поэзии век золотой…», «Снова слово старинное давеча…», «Минуту третьей стражи обозначив…» и др.). 250 Новиков Вл.И. Александр Городницкий: [Филол. коммент.] // Русская речь.1989. №4. С.74,75. 225 Существенно тяготение поэта-певца к символической обобщенности художественной мысли, соотносящей начала и концы катастрофического столетия. В стихотворенииреквиеме «В перекроенном сердце Арбата…» (1997) уход Окуджавы, конец прежнего Арбата – средоточия утонченной культуры прошлого – побуждает автора в новой перспективе узреть Все приметы двадцатого века, Где в начале фонарь и аптека, А в конце этот сумрачный зал. Тревожное порубежное самоощущение «на пороге третьего тысячелетья» приобретает у Городницкого глубоко автобиографичный смысл и связано с раздумьями о неизбежном завершении земного пути: в стихотворениях «На пороге третьего тысячелетья…», «И не сообразуйтесь с веком…», «Начинается все и кончается речкой…», «Не пойте без меня…», в лирико-философской поэме «Времена года» (1990). Поэт-певец вновь и вновь с затаенной болью соотносит необратимость прожитого личностью и человечеством времени с бесконечностью природных и исторических циклов: На исходе второго тысячелетья Заглушают ревом пророков толпы, На привычные круги приходит ветер, Заливает устья морским потопом. И все дальше, через самум и вьюгу, От Рождественской уходя звезды, Человечество снова спешит по кругу, Наступая на собственные следы. («На пороге третьего тысячелетья…», 1996) Творчество А.Городницкого несомненно стало одним из ярчайших явлений как авторской песни, так и поэтической культуры минувшего столетия в целом. Прошедшее почти полувековую эволюцию, на рубеже веков оно явило органичный синтез песеннопоэтического слова и глубинных философских, исторических, естественнонаучных интуиций, воплотив в своей многожанровой художественной системе сущностные качества современного мироощущения. 226 III. «Болит у меня Россия…». История и современность в песенной поэзии Александра Дольского В бардовской поэзии образ России получил многоплановое художественное воплощение как в аспекте изображения современных реалий, так и в историческом, бытийном ракурсах (Б.Окуджава, В.Высоцкий, А.Галич, А.Городницкий, И.Тальков и др.). Для песенно-поэтического творчества Александра Александровича Дольского (род. в 1938) тема России – одна из магистральных: она прозвучала уже в произведениях 196070-х гг., а в 1980-90-е гг. обогатилась новыми смысловыми гранями, предстала в призме различных жанровых образований – от лирической исповеди, пейзажной и философской элегии до сатиры. Одной из ключевых жанровых сфер, в которой воплотился созданный Дольским образ России, стала лирическая исповедь, заключающая творческое самораскрытие поэта-певца. Так, в стихотворениях «В краю, где и кармин рябин…» (1986), «Сердце и разум в порядке» (1989), «Небесный текст» (1991) прихотливая вязь художественных образов и ассоциаций, характерная в целом для индивидуальной манеры Дольского, – и как поэта, и как музыканта, – основана на мистическом взаимопроникновении духа, плоти лирического «я» и бытия России – «края, где и кармин рябин // из почвы кровь мою впитал, // и в маках мой гемоглобин».251 В «Небесном тексте» горестно-лирический образ родной земли таит в себе и щемящее, интимное чувство поэта к «городам серых тонов», что «моют души печальным вином // и лежат, как Цари, вдоль дороги», и одновременно тревожное ощущение хаоса «порубежья» русской истории и даже богооставленности России: Мой беспомощный маленький Бог, беспризорный и распятый мальчик, ты России совсем не помог. Непосильна такая задача. В стихотворении «Сердце и разум в порядке» сращение философской рефлексии о прожитом – от «волейболистки по имени День» до «женщины с именем Вечер» – и пристрастного изображения «российской судьбы» происходит в сфере непринужденной, задушевной беседы. Здесь ощутима заметная прозаизация поэтического языка; доминируют разговорные интонации, создающие атмосферу неформального общения с 251 Тексты произведений А.Дольского приведены по изд.: Дольский А.А. Сочинения: Стихотворения. М., Локид-Пресс, 2001. 227 неширокой аудиторией, к которой обращено сказовое, изустное, настоянное на горькой иронии и самоиронии авторское слово: Жизнь я истратил на музыку, поиски Бога, писанье стихов… Дети мои (сыновья) преумножат великий и странный народ. Удел поэта, самой нации сопрягаются в стихах-песнях Дольского с происходящей в современности деформацией языка и национальной культуры. В стихотворениях «Язык» (1979), «Грех нечтения» (1996), «Конец века» (1997) глубинная поврежденность духовного бытия народа на рубеже эпох осознается в теснейшей взаимосвязи с «дурманом» «фальшивого культурного пространства». Публицистический накал поэтической мысли автора, утверждающего ценностный ориентир «Русского Слова – вдохновенья моих праотцов», придает стихам Дольского горько-отрезвляющую тональность и обретает художественную весомость в проекции на библейский архетипический образ: Открой хранилище судеб, где текст по запаху и вкусу, как древневыпеченный хлеб, раздаренный народу Иисусом. («Грех нечтения») А в стихотворении «Конец века», пронизанном кризисным мироощущением fin de siecle, элементы обобщенно-публицистической образности («Нахлынула наша Свобода // безумием, ложью, войной») перерастают в трагедийный образ Руси и русских пространств «от Камчатки до тихой Твери». Глубоко проникая в ауру «русской тоски» и «вечной неволи», герой Дольского в душевной боли достигает катарсического просветления («вспоминаю святые пути, // возвращаюсь к Истории дивной»), но и тогда лиризм сохраняет свою горько-ироническую окрашенность: «Я умом понимаю Россию, // потому не жалеть не могу». Неспроста уже в 2001 г., оглядываясь на пройденный путь, бард признавался: «Первым моим прочным учителем был, очевидно, Сергей Есенин».252 Существенную роль в исповедальных стихах-песнях Дольского о России играют образы пространства и времени, подчас обретающие глубокий символический смысл. Так, в стихотворениях «Зеленый камень» (1976-98), «Я летал по ночам над Европой…» (1984), «Бесконечные дороги» (1986) лирическая исповедь генерирует в себе жанровые признаки путевой, дорожной зарисовки, а также пейзажной элегии. 252 Дольский А.А. Указ.соч.С.5. 228 Поэтическая мысль сводит воедино далекие пространства родной земли – от малой уральской родины до ставшей родной «Царицы Невы»; «подмосковные охра и медь, // и державные невские воды, // и уральская речка Исеть». В изображении Дольского эти пространства насыщены нелегкой исторической памятью – и о революционной катастрофе («зачумленный Ипатьевский Дом»), и о военном лихолетье: «Эти улочки кривые, // где в года сороковые // доходяги тыловые // воевали двор на двор». В стихотворении «Бесконечные дороги» ощущение тягот от «бездорожья российской версты» оказывается глубоко автобиографичным и антиномично соприкасается с размышлением ездящего по России поэта-исполнителя о своем творческом призвании: Бессонные думы жестокой строкой огранишь внутри и снаружи, робея в надежде, что твой непокой для пользы Отечества служит. Воплощением непрерывного духовного поиска лирического «я» становится его странствие по «дорогам России изъезженным» и в одной из самых известных песен Дольского – «Там, где сердце» (1983). Данное произведение стало примечательным средоточием ключевых особенностей художественной манеры поэта-певца. Это и соединение предметной точности с «экзотическими» образными сплетениями ( «навеки упали в глаза небеса», «мне однажды Луна зацепилась за голову // и оставила свет свой в моих волосах…»), которые в процессе песенного исполнения подчеркиваются особым интонационным выделением или рефренным повторением – как в случае со сквозным образом всей песни, основанном на неожиданном метонимическом переносе (Россия – сердце) и излучающим пронзительный лиризм: Там, где сердце всегда носил я, где песни слагались в пути, болит у меня Россия, и лекаря мне не найти. Неординарность образа странствующего по России барда сопряжена в песне как с его духовным прорывом за грани отмеренного земного срока («буду петь я всегда, даже и не дыша»), так и с таинственным вживанием героя в природный космос («был листвою травы и землею земли»), его перевоплощениями в лики русской истории, благодаря чему сам образ родины обретает эпический размах. В исполнении этой песни Дольский соединил экспрессивную ритмику исповеди и неторопливость размеренного, местами стилизованного «сказания»: Я в рублевские лики смотрелся, как в зеркало, Печенегов лукавых кроил до седла, В Новегороде меду отведывал терпкого, В кандалах на Урале лил колокола. 229 Лирико-исповедальные произведения Дольского о России прирастают подчас и жанровыми элементами поэтической молитвы. В стихотворении «От храма» (1965-89) обращение поэта ко Творцу становится выстраданным итогом мучительных поисков героем и его современниками забытых ориентиров Пути, воплощенных здесь в системе пространственных образов: Я стану Творца просить – пусть вспомнит народ усталый старинной приметы суть, что версты дороги старой на новый выводят путь. А в «Молитве о России» (1988) молитвенное воззвание к Богу эмоционально и стилистически многомерно, ибо вмещает в себя элементы философской элегии в раздумьях о глубинных свойствах человеческой природы («Каждый сын отличен от народа // и подобен Тебе и Христу»); покаянно звучащей исповеди («Ты терпел во мне Хама и Беса…»); панорамной социальной зарисовки российской современности, а также острой гражданской сатиры: «Изгони коммунального беса // из жестоких российских умов». Само содержание поэтической молитвы, субъектами которой становятся то непосредственно лирический герой, то народная общность, частью которой он является, – оказывается здесь глубоко нетрадиционным, так как противоречиво соединяет покаянные интенции (ассоциация со знаковым для тех лет одноименным фильмом Т.Абуладзе) с отягощенным синдромом атеистической эпохи сомнением в Боге: Знаю, Боже, бессилен во зле Ты. И корить я Тебя не берусь – отчего Ты многие лета оставляешь в беде мою Русь? <…> Я молю Тебя – будь предсказуем… И послушай, как сердце поет и прощает народу безумье и Тебе – равнодушье Твое. Образ России, российской истории и современности прорисовывается во многих произведениях Дольского в ракурсе «петербургского текста», который предстает здесь как в лирико-исповедальном, так и в социально-историческом аспектах. Образы городских реалий возникают у Дольского в контексте лирических воспоминаний героя. Входящие в цикл «Петербургские этюды» стихотворения «От марта до августа» (1964-69), «На Расстанной» (1980) заключают в себе проникнутый «событиями мысли» городской пейзаж, в символических деталях которого проступают таинственные «меты» душевной жизни: 230 С николаевских перронов сходит жизнь моя в уронах… С тех лун, с тех трав, с тех гроз, с тех пор… Предметная конкретика «квадратов скудного жилья, общественного неуютца», чувство близости к «душам предков», «дорогим именам и утраченным дням» соединяются в образной системе «петербургских» стихотворений с метафизическим измерением, открывающимся в знакомых городских строениях: Привези мне, привези мне этот воздух перед Зимним, чтоб в речах твоих сквозили и Фонтанка, и Собор, и окно на Старо-Невском (ни цветка, ни занавески). («На Расстанной») Доминирующим эмоциональным тоном в «петербургской» поэзии Дольского становится щемящая и в то же время иронически окрашенная ностальгия по прежнему Ленинграду – дорогому своим убожеством и душевностью. В посвященной памяти А.Галича «Тоске по старым временам» (1993) этот сложный комплекс переживаний героя, парадоксальное заострение его размышлений о советской «Империи Зла, что много хорошего мне принесла», чувство глубинной отчужденности от раздробленного постсоветского пространства – переданы в синтезе иронических оттенков и интимнолирических мотивов; жанровых элементов исповеди, исторической ретроспекции и бытовой сюжетной зарисовки: Хочу в Ленинград, где пивные ларьки, пивко с подогревом, тараньки горьки, где очередь судит не строго партийного главного Бога, что сам поддавал – будь здоров, пугая своих докторов. Петербургская мифологема сопряжена у Дольского с музыкальной образностью, передающей таинственное звучание души города. В «Удивительном вальсе» (1976) музыкальные ассоциации, порождающие «странные сближения» звукового облика слов («вальс растерянный, вальс расстрелянный, вальс растреллиевый»), включают в свою орбиту далекие пласты городской мифологии, истории, судьбы лирического «я»: «Вальс военных дней, смерти и огней, // вальс судьбы моей, жизни вальс». Большую социальную и личностную заостренность приобретают музыкальные образы в «Питер-блюзе» (1994). Они составляют здесь целую гамму ассоциаций – и с бардовским призванием героя, и с его причастностью трагедии «дна» города, и с пронзительными песнями Дольского о России («Болит у меня Россия»): 231 О, Питер, ты расстроенный рояль, ты – гитара, что мне продал алкоголик. До Любви тебя, до Музыки мне жаль… Я в тюрьме твоих диезов и бемолей. Отмеченная диалогическая причастность героя песенной поэзии Дольского драматичным судьбам ленинградцев, «голи» северной столицы также важна в ряде других произведений и предопределяет специфику их экспрессивной стилевой ткани, пространственно-временной организации и персонажной сферы. В песне «Возвращение» (1975) панорамное изображение города сменяется творческим проникновением в бытовые сцены, скученное пространство питерских коммуналок, где болезненно переплелись судьбы их обитателей: «И в грустных глазах отразишь // петербургские бледные лица, // увидишь, как мало пространства // и как его городу жалко». В «Городе» (1994) хлесткая сатира на советскую и посткоммунистическую действительность (в части о «первомайских лицах» – созвучие с известным стихотворением Г.Сапгира «Парад идиотов», открывающим цикл «Московские мифы», 1970-1974) сочетается со вживанием лирического «я» в маргинальную среду Питера. Элементы сентиментальности слиты в произведении с горьким чувством значительных потерь: А проснусь, и заплеванный Питер принимает меня, как бомжа. И плетусь я, засунутый в свитер, без любви, без Страны, без гроша. Более подробная разработка художественной характерологии городского «дна» осуществлена в стихотворении «Ошметки» (1990). Среди деклассированных «сынов Ленинграда», «Объедков Державы», помимо самого лирического героя, «оскопленного чудесным серпом и молотом битого в затылок», – «бывший философ Иван Амстердам», «детдомовский выкормыш» Алеша. Это среда, где сакральное не отличимо от профанного («молитвы – из мата и флексий»), стала знаком разложения Империи и ее идеологии. В образах «питерских старых дворов» – андеграунда и его обитателей – сатирический гротеск становится острием антиутопической мысли автора. В стихотворении «Все в прошлом» (1975) выведенный на фоне городского пейзажа социально-психологический портрет «бывшего человека», в прошлом советского инженера, создает эсхатологический ракурс видения утратившей жизненные ориентиры нации. Осколки официозных клише помещены здесь в сниженное стилевое окружение: И идет он по Фонтанке, бывший старший инженер, бесполезный из-за пьянки и народу, и жене. Он идет, заливши око, 232 и бормочет, как сквозь сон, то ли Фета, то ли Блока, то ли так – икает он. Картины маргинальной жизни Петербурга выводят в поэзии Дольского на осмысление катаклизмов в истории и современности России, причем, по сравнению с А.Городницким и тем более с Б.Окуджавой, у Дольского усиливается трагедийное звучание «петербургского текста», актуализирующее порой элементы гротескной образности. Трагической иронией проникнуто стихотворение «Незаконченный черновик» (1995), где «сюжетное» изображение революционной смуты в городе и России вырастает до символического обобщения. Мотивы оторванности ввергнутого в хаос города от почвы, Земли содержат отголоски давних народных сказаний о северной столице: «Так и летим – без Земли, // без Страны – на Пегасе верхом». Темные, порой зловещие недра культурной и исторической памяти, «копящей в себе века, как воду мощь плотин», приоткрываются в стихотворениях «Эрмитаж» (1961), «Вопросы на кладбище» (1988). В стихотворении «Ноктюрн» (1975) смысловая наполненность образа ночного города иная, в сопоставлении с московскими и ленинградскими «песенками» Б.Окуджавы. Если у Окуджавы контакт героя с миром ночного города часто гармонизировал его душевное состояние, то в стихотворении Дольского «пустынные улицы» ночного Петербурга обостряют чувствование лирическим «я» боли странствующих здесь «заблудших душ», их «распавшихся миров»: Все чаще, все грустней встречаю эти тени, и, заходя в колодцы гулкие дворов, под утро в их глазах безумное смятенье ловлю я, как сигнал распавшихся миров. В стихотворении «Русское горе» (1975) неожиданное для своего времени изображение мрачных «подъездов ленинградских», где «делит жизнь и смерть по-братски наркота и голь», перерастает в финале в горький фольклорный образ России, в котором звучат некрасовские ноты: По проулкам петербургским В солнце и в метель Ходит Горе с ликом русским – Многовечный Хмель. Образ Петербурга, детали городского пейзажа увидены порой Дольским в мифопоэтическом ореоле – будь то «ангел вестовой на шпиле» («Акварели», 1976) или превратившийся в питерского воплощающий в сниженной столичной действительности черты Божественного («Восстание Ангелов», 1994): «простого мещанина» Ангел, трагикомически 233 Но Господь ему легкое выдал пальто, а мороз раскуражился лихо. Да и слово зимой в Петербурге ничто… И поет он от холода тихо. В песне «Акварели» импрессионистичные живописно-музыкальные штрихи «граней берегов, ритмов облаков», «зимы в синей акварели», подчеркнутые прерывистым интонационным рисунком в ходе исполнения, сводят воедино лирическую исповедь и историческое обобщение о связанных с городом личностных, творческих судьбах: Кто-то кистью, кто-то мыслью Измерял фарватер Леты, Кто-то честью, кто-то жизнью Расплатился за сюжеты. Как и в исторических стихах-песнях А.Городницкого, образ Петербурга спроецирован Дольским на постижение судеб страны в целом – в социальном, историческом, культурфилософском планах. В песенной дилогии «Старики» (1975, 1991), стихотворении «Петербург» (1997) познание нынешних и прошлых социальных бед города сопряжено с овеществленным образом жестокого времени, накладывающего свою печать на городской мир, на лица его обитателей: «В местах, где на граните Петербурга // забыло время то царапину, то шрам». В современном Петербурге, где «с Востока и с Запада спутаны ветры», взгляд автора различает приметы конца некоего макроцикла отечественной истории, крушения вековой Империи – царской и коммунистической, – когда «ржавеют остатки российских основ». Надрывная любовь поэта к городу, чувство, в котором сентиментальность переплелась с жесткой иронией, ярко отразилась в стилевой полярности мифопоэтического образа Олимпа: Я терплю этот город, как терпят свой быт одинокие, рваные жизнью счастливцы, словно боги Олимп, что не чищен, не мыт после оргий и драк, как их битые лица. («Петербург») Как в пространстве «петербургского текста», так и вне прямой связи с ним, в произведениях Дольского актуализируются жанровые черты исторической ретроспекции. В стихотворении «К Императору» (1998), тематически связанном с перезахоронением останков семьи последнего императора в Петербурге, эти черты проявляются в эмоционально неоднородном прямом обращении лирического «я» к «господину Императору». Живое разговорное слово поэта вмещает в себя и затаенную ностальгию по прежнему величию царской столицы, и пейзаж современного города, где гротескносатирические тона оказываются всеобъемлющими («И снова от Сердца – таблетка-Луна, // 234 от Разума – Звезды-таблетки») и где на первый план выдвигается ироническое восприятие истории и современности: «Месье Всемператор, – Россия жива! // Да здравствуют Новые Воры!». А в стихотворении «Отпусти своих царей» (1959-90) «адресатом» лирического обращения поэта-певца становится Россия – в ее как природнопредметной, так и мистической ипостасях. Из картины непостижимого русского природного космоса, где в импрессионистско-ассоциативной манере подчеркнуто взаимопроникновение возвышенного и будничного, прорастают раздумья о метафизике власти, о путях нравственного осмысления отечественной истории: В бледно-синей кастрюле небес птичья стая чаинками плавает. У рублевских звонарей мы с тобой встречались. Научи своих царей чести и печали. Приметным явлением в жанрово-тематическом репертуаре авторской песни стали военные баллады, получившие многоплановое воплощение в стихах-песнях бардов разных поколений – В.Высоцкого, А.Галича, Б.Окуджавы, Ю.Визбора, Е.Аграновича, И.Талькова и др.253 В трагедийном звучании военных баллад Дольского история и современность России прочувствованы в объемной перспективе и в своих болевых точках. В стихотворении еще 1970-х гг. «Ни шагу назад» (1974) в напряженной «драматургии» эпизода наступления на немцев вырисовывается чрезвычайно острая для своего времени авторская мысль, проецирующая военный подвиг рядового солдата на его «рабство» «на мушке опера с усами» в тоталитарной действительности родной страны. Здесь видно характерное и для последующих произведений Дольского совмещение в пределах единого образного ряда высокой патетики и общественной сатиры: Земли моей и гордость, и краса, Великий воин, умирал, как жил он, И от чужого рабства нас спасал, Чтоб собственное было нерушимо. В 1980-90-е гг. значительное место в военных балладах Дольского занимает вначале афганская, а затем чеченская тематика. С жанрово-композиционной точки зрения здесь продуктивно сращение сюжетных сцен, диалоговых элементов, исповедально- автобиографических мотивов и панорамных исторических обобщений. В стихотворениях «Афганская рана» (1984), «Была война» (1995) преобладают опирающиеся на изображение конкретных судеб суммирующее размышление поэта о трагической повторяемости национальной истории, которая «дышит в повторе»; жесткое 253 Зайцев В.А. Жанровое своеобразие стихов-песен Окуджавы, Высоцкого, Галича о войне // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2003. №4. С.40-59. 235 публицистическое развенчание механизмов и обстоятельств несправедливой братоубийственной войны: «Играй, гармонь, звени, струна, // ешь мясо, депутат, // пей, Президент. Идет война… // Никто не виноват». Стихотворение же «Мать солдата» (1995) написанное в неторопливой сказовоповествовательной манере («В декабре погиб в Ичкерии солдат // от свинца ли, от чеченского ножа…»), выстраивается вокруг психологически детально прописанной сцены посещения матери погибшего солдата генералом, что «медальку ей красивую привез». В несобственно прямой речи персонажей – рассказе генерала о мести за погибшего («Сто чеченцев в свою землю полегли!») и горько-мудром ответе матери, которой «на сына не хватило слез, // но хватило на чеченских матерей», – передается поврежденность нравственного чувства личности, подавленной неумолимой логикой военной реальности: «Видно, ты не поумнеешь, генерал». Звучащий в финале авторский голос представляет экспрессивно-лирический комментарий к описанной сцене и выводит изображение трагедии российской действительности на надвременный уровень: Пой песню, пой! Пой, пока живой. Если ты не сын начальнику, не брат, За Россию, как герой, умрешь, солдат. В жанровом плане весомы в военных стихах-песнях Дольского элементы «ролевой» поэзии. Так, в стихотворениях «Господа офицеры» (1971), «Баллада об отступлении» (1961) «Баллада о без вести пропавшем» (1978), «Видишь, мама…» (1983-86) композиционным центром становится балладный по звучанию и внутреннему содержанию монолог солдата – простого участника событий. В двух последних случаях трагедийный характер этого ролевого повествования усиливается, ибо речь идет здесь об исповеди погибшего воина, на пределе душевных сил доносимой до живых из иного мира. Через единичную судьбу вырисовывается подчас гротескная, фарсовая «драматургия» войны в целом и в ее конкретных эпизодах: Меня нашли в четверг на минном поле. В глазах разбилось небо, как стекло, и все, чему меня учили в школе, в соседнюю воронку утекло. Друзья мои по роте и по взводу Ушли назад, оставив рубежи, И похоронная команда на подводу Меня забыла в среду положить. («Баллада о без вести пропавшем») В общем контексте авторской песни военные и «социальные» песни Дольского в наибольшей степени созвучны по остроте конфликтного напряжения песенному 236 творчеству А.Галича («Баллада о Вечном огне», «Песня о твердой валюте», поэма «Кадиш» и др.). В поэзии Дольского последнего десятилетия XX в. заметно возрастает удельный вес сатирических произведений, обращенных к современной российской действительности. В гротескно-сатирическом и одновременно лирико-ироническом ключе рисуется здесь эпоха крутых исторических сдвигов начала 90-х гг., передается мироощущение распада Империи как некоего жизненного целого, затрагивающего людские души: Знаешь, а я не молился об этом развале, хоть склеено было на страхе, держалось на лжи и пороке. Но тьмы твоих граждан чуму на тебя призывали… А все-таки грустно – уходят с тобой наши сроки. («Прощай, Империя!», 1991) Лирическая сатира Дольского в стихотворениях «Предчувствие серого», «Предчувствие черного и голубого», «Воры», «Московская элегия» тяготеет к частым эмоционально-ритмическим перебивам, экспрессии сниженно-разговорных форм, сравнений («Я пью Свободу, словно водку»; «А на разломах – вулканы и пропасти прошлого счастья»), апокалипсическим мотивам, гротескному сплетению далеких образных планов: Долго, долго сжимал Сатана в объятьях любви страну. И нарожала ему жена Водку, Войну и Шпану. («Предчувствие черного и голубого», 1988) Острая публицистичность подчас сочетается здесь и с элементами философской сатиры – как в финале стихотворения «Воры»: Хоть порода их нетленна, Есть одна отрада нам – Энтропию во Вселенной Не прибрать пока к рукам. Во многом обобщающий характер имеет образ Родины в стихотворении «Россия» (1995). Обнаженная публицистичность авторской сатирической мысли о российских вековых «краях неволи и молчанья» уравновешивается здесь выразительностью образного ряда, где поэзия русского природного мира оказывается во взаимопроникновении с горестным образом нации, с переосмысленным архетипом России-матери: Просторы брусничных полян и хрустальных озер, царство наивных, страна подгулявших – лесная, степная, мать, отдающая, сраму не зная, приплод свой на смерть и позор… Это любимая, страшная, наша собака цепная. 237 Итак, произведения Дольского о России – от 1960-х гг. к вершинам, достигнутым в 1970-90-е гг., – явились содержательным центром его песенно-поэтического творчества, в котором наиболее ярко выразилась художественная манера поэта-певца, сочетающая изысканно-прихотливую ассоциативность импрессионистского плана с социальнопсихологическим многообразием персонажного мира, с эпической масштабностью историко-философских обобщений. В этих песнях Дольский предстает и как утонченный лирик, философ элегического склада, певец родного Ленинграда-Петербурга, и как поэт остро ироничный, социальный, привносящий, особенно в произведения конца столетия, гротескно-сатирические и публицистические ноты. Подобное соединение проявляется на жанрово-тематическом уровне, реализуясь и в лирико-исповедальных вещах, и в исторических ретроспекциях, и в напряженной «драматургии» баллад, бытовых сцен, и в пронзительной лирической сатире последних лет. Все это позволяет увидеть в произведениях А.Дольского оригинальное взаимодействие лирико-романтической тенденции в авторской песне, идущей от Б.Окуджавы, Н.Матвеевой и др., с тенденцией гротескной, трагедийно-сатирической, представленной в балладах о России В.Высоцкого, М.Анчарова, А.Галича, И.Талькова, в сатирических песнях о советской современности Ю.Кима. 238 Предварительные итоги В данной главе было представлено творчество наиболее крупных поэтов-бардов, соединивших лирико-романтический модус образного освоения действительности – с тенденцией к эпическому расширению художественной картины мира, с актуализацией балладных жанровых решений, создающих трагедийную перспективу лиро-эпического осмысления истории и современности. Заряд высокой романтики, ноты интимной лирики, жанровые контуры любовной, философской элегии были выявлены во фронтовой и исповедальной поэзии Евгения Аграновича. Эпические доминанты проблемно-тематического и жанрово-стилевого своеобразия песенной поэзии Аграновича проявились в художественном осмыслении военной темы, в многомерном раскрытии оппозиции войны и мира, в богатстве системы персонажей, детализированной разработке сюжетной сферы, разноплановых речевых форм; в расширении пространственно-временной перспективы и притчевых обобщениях. Значительное место занимает здесь и балладная жанровая тенденция, которая обуславливает напряженную, окрашенную в трагедийные тона событийную динамику. Представляет эстетический интерес и расширение сферы лирической исповеди, субъектами которой становятся не только непосредственно лирическое «я», но и более широкие общности – его однополчан, современников, соотечественников. Показательным явлением стал в песенном «лиро-эпосе» Аграновича и опыт в сфере большой поэтической формы – песенная ознаменовавшая поэма-реквием сплав «Борису разносубъектных Смоленскому лирических поэту и воину», переживаний, синтез – индивидуальной и общенациональной, исторической памяти. От лирико-романтических стихов-песен к эпически масштабной песенно-поэтической «историософии» развивалось творчество Александра Городницкого. Объемные, складывавшиеся на протяжении десятилетий «исторические» и «литературные» циклы стихотворений и песен Городницкого явили в своем плодотворном взаимодействии оригинальный диалог эпох и культур – в интерьере многоуровневых библейских ассоциаций, «петербургского текста», «северного текста», «пушкинианы», в поэтическом постижении хронотопа и граней мироощущения «нестоличной» России. В поэзии Городницкого емко высветилось принципиально антиофициозное, адогматичное художественное прочтение «текста» всемирной и русской истории, включая 239 осмысление катастрофического опыта XX столетия, ставшее содержательным центром притяжения в «историческом» цикле. В жанровой системе его песенной поэзии активное развитие получили такие образования, как исторические портреты, бытовые сцены, «ролевые», стилизованные монологи и диалоги; песни-воспоминания, нередко сопрягающие автобиографизм с историческими ретроспекциями, притчи, философские элегии, а также лиро-эпические поэмы. Наиболее значимыми эстетическими константами поэтического мира Городницкого стали многообразие системы персонажей, пространственно-временных планов, соединение интимно-лирического и «объективного», эпически панорамного изображения; разнообразные пути художественной символизации; тенденция к «естественнонаучному» расширению образного ряда. Оригинальное взаимодействие лирико-исповедального начала и эпического освоения действительности обнаружилось и в песенно-поэтическом творчестве Александра Дольского. Отличительной особенностью индивидуальной манеры поэта-певца стала изысканность его поэтического и музыкального стиля, импрессионистская утонченность и прихотливость образных и мелодических ассоциаций, что уже на ранних этапах проявилось в философских элегиях, поэтических молитвах Дольского. Постепенно в образном мире, жанрово-тематической системе его поэзии все более отчетливо намечается тенденция к эпическому расширению художественных пространства и времени – на путях создания лиро-эпического образа России, осмысления ее истории и современности. Сквозным сюжетом стихов-песен Дольского становится странствие лирического героя и «по дорогам России изъезженным», и по разным эпохам, что позволило – в призме оригинальных метафорических сцеплений и бытийных обобщений – прозреть лики родной истории и культуры от Древней Руси до постсоветской современности. В качестве ядра песенного «лиро-эпоса» Дольского был рассмотрен «петербургский текст» – в его как лирико-исповедальной, так и социально-исторической художественных ипостасях. В «петербургских» стихах-песнях Дольского через систему мифопоэтических, музыкальных ассоциаций, в калейдоскопе емких бытовых, «сюжетных» зарисовок, в более разветвленном, в сопоставлении с произведениями Городницкого, персонажном мире, включающим и низовую, маргинальную социальную среду, – художественно выразились как грани индивидуального опыта лирического «я», его личностного общения с родным городом, так и эпические прозрения потаенных макро- и микроциклов исторического процесса. В песенной поэзии Дольского рубежа веков усиливаются 240 сатирическое звучание, публицистическая заостренность художественных образов, на первый план часто выдвигается балладное изображение катастрофических потрясений современности. Итак, в песенно-поэтическом творчестве Е.Аграновича, А.Городницкого, А.Дольского лирико-романтические истоки стали основой созданных впоследствии самобытных у каждого автора эпических полотен, альтернативных по отношению к официозным догмам. Здесь в многоплановых образных ассоциациях, жанрово-стилевых формах запечатлелись поэтический эпос военных лет, разнообразные пласты русской истории и современной действительности. На место лирико-романтической условности образного мира песен Н.Матвеевой, Е.Клячкина, Б.Окуджавы в творчестве рассмотренных во второй главе авторов выдвигается подробная художественная разработка сюжетной, персонажной сфер, нередко публицистическая, сатирическая острота художественной мысли. В плане эпизации жанровой системы особенно показательны в творчестве этих поэтов балладные тенденции, а также крупные лиро-эпические формы, в чем обнаруживается их родство с трагедийно-сатирическим направлением авторской песни, об истоках и жанровостилевых формах которого, воплотившихся в творчестве представляющих это направление поэтов-бардов, пойдет речь в следующей главе. 241 Глава 3. I. Трагедийно-сатирическое направление в авторской песне У истоков авторской песни. Война и мир в балладах Михаила Анчарова Михаил Леонидович Анчаров (1923 – 1990) по праву может считаться одним из основоположников авторской песни; сам он говорил о себе как о «Мафусаиле <этого> жанра».254 Его первые песни были написаны еще в 1937 г. на стихи А.Грина, романтический мир которого позднее окажет влияние на бардовскую поэзию 1950-60-х гг., а также Б.Корнилова и В.Инбер. По окончании восточного факультета Военного института иностранных языков Красной Армии Анчаров участвует в войне на Дальневосточном фронте, в Маньчжурии. Расцвет его песенно-поэтического творчества пришелся на вторую половину 1950 – середину 1960-х гг., когда создаются произведения, во многом предвосхищающие дальнейшую динамику авторской песни. При этом, по сравнению с некоторыми другими бардами – Б.Окуджавой, Ю.Визбором, В.Высоцким, – Анчаров мало выступал с публичными концертами, а его песни порой становились известными благодаря иным исполнителям: их пели Ю.Визбор, В.Высоцкий, А.Галич, Е.Клячкин и др.,255 а известная «Песня про низкорослого человека…» (1955, 1957) исполнялась В.Золотухиным в спектакле Театра на Таганке «Павшие и живые». Со второй половины 1960-х гг. Анчаров отходит в основном от песенного творчества, обращаясь к прозаическим произведениям, куда нередко входили его песни, отдельно тогда не издававшиеся, а также к теледраматургии. Критика отметила у Анчарова уникальный и непривычный для многих других бардов тип творческого поведения, сценического облика. «Резкость голосового рисунка», часто оказывающегося близким речитативу, по наблюдениям Л.А.Аннинского, была созвучной артистическому поведению поэта – «сдержанного, приторможенного, корректного, как бы застегнутого на все пуговицы».256 Подобная внешняя «закрытость» певца парадоксально сочеталась с напряженным, подчас исповедальным лиризмом, высокой романтикой, которыми пронизаны его лучшие вещи («Песня об органисте…», «Баллада о танке Т254 Анчаров М.Л. «Ни о чем судьбу не молю…». Стихи и песни. М., Вагант-Москва, 1999.С.118. Соколова И.А. Вначале был Анчаров // Соколова И.А. От фольклора к поэзии. М., 2002.С.158, 159. 256 Аннинский Л.А. Горизонт и зенит Михаила Анчарова // Анчаров М.Л. «Ни о чем судьбу не молю…». Стихи и песни. М., 1999.C.161, 162. 255 242 34…» и др.). Как о своем учителе в песенном творчестве не раз отзывался об Анчарове В.Высоцкий, в произведениях которого очевидны признаки глубокого знания наследия старшего барда и оригинального применения его творческих находок.257 Существенным основанием сближения двух бардов была интенсивная разработка обоими жанра баллады, который и для Высоцкого, и для Анчарова, и для авторской песни вообще оказался одним из наиболее значимых при создании трагедийного образа эпохи и раскрытии глубин мироощущения автора и героев.258 В небольшом по объему песенном наследии Анчарова, составившем несколько десятков произведений, баллада, под которой исследователи понимают «исполненные психологического драматизма сюжетные песни», где «представлены трагические бытовые коллизии и происшествия»,259 действительно выдвигается как ключевое жанровое образование, хотя в ряде вещей поэт предстает и как мастер элегии – например, в философских элегиях «Белый туман» (1964) или «Кап-кап» (1955, 1957)… Неслучайно сам автор часто выносил жанровое определение «баллада» в заголовки своих песен. С опорой на опыт подробного изучения баллад Высоцкого260 выделяются следующие жанрово-тематические разновидности баллад в творчестве Анчарова: это баллады военные (причем военная тематика оказывается стержневой как для этого жанра, так и для поэзии Анчарова в целом), «городские», философские, социально-исторические. Генетически анчаровская баллада была связана с жанром городской зарисовки, драматургичной уличной сценки («Одуванчики», «Дурацкая лирическая», «Про поэзию» и др.), где выводилась зачастую та «блатная» московская среда «подворотен» района Благуши, которая еще в 1920-е гг. запечатлелась в романе «Вор» Л.Леонова, а Анчарову знакома была по детским впечатлениям. Сущностные свойства баллады Анчарова и мира ее персонажей намечаются уже в ранней песне «Сорок первый» (1945). Московский хронотоп «щербатых улиц», где даже природный мир напоминает о людской боли и неустроенности («Над Москвою закат сутулится, // Ночь на звездах скрипит давно»), оказывается тем активным фоном, на котором разворачивается конфликт неуспокоенного лирического героя, «мечущегося из краев в края» и обремененного нелегким личностным и историческим опытом, – с миром усредненной 257 безликости. Этот конфликт обнаруживается в психологически Кулагин А.В. Высоцкий слушает Анчарова // Кулагин А.В. Высоцкий и другие: Сб. ст. М., 2002.С.52-64. Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С.Высоцкого. Курск, 1995; Левина Л.А. Грани звучащего слова (эстетика и поэтика авторской песни): Монография. М., 2002. 259 Аникин В.П. Русское устное народное творчество. М., 2001.С.510. 260 Рудник Н.М. Указ.соч. 258 243 детализированной сцене с прохожим, презрительно («глаза, как злая ртуть») реагирующим на душевный порыв героя. Неслучаен здесь ритмический сбой, когда реплика прохожего дана в прозаической форме и тем самым интонационно и стилистически дистанцирована от лирического монолога: «Слушай, парень, не приставай к прохожему, // А то недолго и за милиционером сбегать».261 В монологе центрального персонажа, отчасти построенном как обращение к возлюбленной, интимные переживания предстают в призме судьбы целого поколения, прошедшего сквозь беды довоенного времени и ужасы войны, но сохранившего, как верится герою-«повествователю», память и том, что «в каждом жил с ветерком повенчанный // Непоседливый человек». Конкретизация в художественном исследовании внутреннего мира «героя времени», развертывание «летописи» военной памяти и послевоенного опыта «сорок шестого» осуществлены в «Песне про низкорослого человека, который остановил ночью девушку возле метро «Электрозаводская»» (1955, 1957). Примечателен здесь объемный подзаголовок, который воспринимался самим автором в качестве дополнительной строфы и форма которого впоследствии будет виртуозно разработана в произведениях Ю.Визбора, В.Высоцкого, А.Галича и др. Это «игровое» название, а также сценка в первой строфе («Девушка, эй постой! // Я человек холостой…») контрастируют с горькой исповедью «ограбленного войной» безногого героя, раскрывающей трагическую причину его «низкорослости». В переживании своего горя и одиночества герой обретает новый опыт понимания ценности всего живого («Асфальтовая река, // Теплая, как щека»), а военные события предстают в этом лирическом повествовании опосредованно, в кровоточащей памяти персонажа: Давно утихли бои, Память о них затаи. Ноги, ноги мои! – Мне б одну на троих… Звучащий в финале баллады, где драматическое сюжетное действие перенесено в сферу внутренней жизни героя, приговор войне звучит как выстраданный в душевной и физической боли: «Кто придумал войну, // Ноги б тому оторвать!». Военная реальность в балладах Анчарова тесно связана с социальной конкретикой довоенной жизни – в частности, низовой благушинской среды – в песнях «Цыган Маша» (1959), «Баллада о парашютах» (1964) и др. 261 Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, тексты М.Анчарова приведены по изд: Анчаров М.Л. Сочинения: Песни. Стихотворения. Интервью. Роман. / Сост. В.Юровский. М., Локид-Пресс, 2001. 244 В первой из них от уравновешенно-«эпического» повествования о герое в начальной строфе («Ах Маша, Цыган-Маша! // Ты жил давным-давно…») поэт переходит ко все более взволнованному изображению «блатной» среды Благуши, с жестокими законами дворовой жизни, с ее сниженным речевым колоритом: «С марухой-замарахой // Он лил в живот пустой // По стопке карданахи». Детали местной топонимики («В Измайловском зверинце», «На Малой Соколиной»), антропонимики дворовых прозвищ («Там были Чирей, Рыло, // Два Гуся и Хохол») создают ощущение личностной причастности рассказчика к жизни рисуемого им мира и его обитателей. Полуироническое описание ночных «дел» Цыгана резко сменяется военным эпизодом «на волжской высоте», величественной картиной героической гибели Маши и других обитателей Благуши – бойцов «штрафного батальона»: «Ты помер, как Карузо, // Ты помер, как герой!». Парадоксальное переплетение сниженного изобразительного ряда и высокой романтической героики, характерное в целом для балладного мира Анчарова, отвечало заветному идеалу поэта – «упорному отстаиванию человечности среди лязгающего, и скрежещущего, и взрывающегося мира».262 В песне «Цыган Маша» странное имя героя (на что обратил внимание Л.А.Аннинский: «Мир увиден со странной точки, потаенно очарованным сознанием»263); построенное на стилевых контрастах, на пропуске сюжетных «звеньев» изображение неожиданных поворотов его пути выводят на осмысление непостижимой глубины человеческой души, приоткрывающейся в катастрофическом состоянии мира. Оппозиция войны и мира приобретает здесь парадоксальную художественную трактовку: в душевном мире попавшего на войну персонажа происходит активизация героических порывов, преодоление той внутренней расслабленности, в которой пребывал герой в довоенные годы, увязнув в грубой, сниженной – как в социальном, так и в духовном плане – блатной среде благушинской повседневности. В этом просматривается содержательное родство данной песни с «Песенкой про цыгана-конокрада» (1962), где цыганский напев и характерные для цыганской песни речевые обороты сочетаются со стилистикой «жестокого» романса и где в загрубевшей, казалось, душе героя рождается утонченное душевное переживание, порождающее трагическое чувство обреченности красоты: Паутинка волос – Стою зачарован. Погибать довелось В зори вечеровы. Что ты, что ты, – в зори вечеровы. Что ты, что ты, что ты, что ты, – в зори вечеровы… 262 263 Анчаров М.Л. Сочинения. С.127. Аннинский Л.А. Горизонт и зенит Михаила Анчарова.С.163. 245 В балладе о «цыгане Маше» итогом остро драматичного повествования становится не менее острое для своего времени экспрессивное авторское замечание о «штрафных батальонах», об участи которых на войне напишет впоследствии В.Высоцкий в одноименной песне 1964 г. Вл.И.Новиков тонко подметил в завершающих строках произведения «драматургию слова», позволившую «смело и честно пересмотреть смысл самого выражения «штрафной батальон»»:264 Штрафные батальоны За все платили штраф. Штрафные батальоны – Кто вам заплатит штраф?!265 У Анчарова, как впоследствии и в стихах-песнях В.Высоцкого, изображение личности на войне приобретает онтологический смысл. В «Балладе о парашютах» (1964) сниженно-бытовое изображение тягостных условий боя («Автоматы выли, // Как суки в мороз») облекается в мифопоэтическую образность, когда души погибших десантников, среди которых – «Гошка – благушинский атаман», предстают перед Богом – сюжетный поворот, созвучный «Песне летчика» Высоцкого (1968):266 И сказал Господь: – Эй, ключари, Отворите ворота в Сад! Даю команду – От зари до зари В рай опускать десант. В созданной Анчаровым художественной характерологии городского «дна» события войны «подсвечиваются» реалиями довоенного прошлого персонажей. В недрах «блатной» среды, «грешной» жизни благушинского атамана поэт-певец – «романтик, но не гигантских плотин, <а> романтик души»267 – распознает возможности небывалого взлета человеческого духа в ситуации крайних испытаний, концентрацию в условиях войны того личностного ядра, которое может быть распыленным в мирное время. Сюжет-катастрофа увенчивается в балладе катарсическим очищением души героя в посмертном соприкосновении с райскими силами, а подвиг бывшего атамана – десантника ставится даже выше традиционных образцов святости: Так отдай же, Георгий, Знамя свое, Серебряные стремена, – 264 Новиков Вл.И. Михаил Анчаров // Авторская песня. М., 2002.С.183. Выделено М.Анчаровым. 266 Кулагин А.В. Высоцкий слушает Анчарова.С.56. 267 Ревич Вс. Несколько слов о песнях одного художника, который заполнял ими паузы между рисованием картин и сочинением повестей // Анчаров М.Л. Сочинения: Песни. Стихотворения. Интервью. Роман. М., 2001.С.8. 265 246 Пока этот парень Держит копье – На свете стоит тишина. Сфера художественного изображения в анчаровской балладе устремлена от сниженной и грубой обыденности к космической перспективе, к масштабу бесконечности мира и человеческой души. В этом плане показательна динамика пейзажных образов. Военный и духовный подвиг героя как бы восстанавливает вывихнутое войной мироздание. Если в экспозиции баллады рисуется «мертвое солнце», то в финале небесное светило вновь обретает перспективу гармоничного бытия: И счет потерялся дням, И мирное солнце Топочет в зенит Подковкою по камням. Глубокое проникновение в сердцевину мироощущения балладного героя предопределило в поэзии Анчарова новаторское использование композиционной формы «ролевого монолога», песни «от героя».268 Впоследствии жанр «песни-роли» получит интенсивное развитие в произведениях В.Высоцкого, Ю.Визбора, Ю.Кима, А.Галича, А. Городницкого и др. Во многих «ролевых» балладах Анчарова («МАЗ», «Песня про деда-игрушечника с Благуши», «Баллада о танке Т-34…» и др.) создается художественный ансамбль образов современников, в чьих подчас надрывных исповедях, рефлексиях о времени и о себе генерируется мощная энергия балладного лиризма.269 Так, в «Песенке про психа из больницы имени Ганнушкина, который не отдавал санитарам свою пограничную фуражку» (1955, 1957), как пояснял автор, неслучайно фигурирует именно представитель пограничных войск, которые первыми приняли на себя удар войны. Развернутый заголовок песни дает возможность остро воспринять болезненную сосредоточенность героя на событиях войны, его «душевную, духовную контузию». В ролевом монологе персонажа трагизм кульминационного момента боя передан в призме потрясенного сознания и тем самым естественно освобожден от всяческой «победной» риторики: Горы лезут в небеса, Дым в долине поднялся, Только мне на этой сопке Жить осталось полчаса… 268 Соколова И.А. Вначале был Анчаров.С.169. По определению Н.М.Рудник, в балладе «ощущение, вызываемое событием (и – добавим – восприятием этого события героем – И.Н.), и есть балладный лиризм»: Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С.Высоцкого.С.65. 269 247 Ритмический рисунок песни отличается максимальной напряженностью пульсирующего чувства, мысли, навсегда оставшейся «на этой сопке». При авторском исполнении особенно заметно, как возрастает интонационное напряжение при приближении к концу каждой строфы, а в протяжном пропевании заключительных строк («Приходи скорее, доктор! // Может, вылечишь меня…») звучит ничем не прикрытая скорбь. Таким образом, именно во взрывных интонациях ролевого монолога балладное действие приобретает повышенный психологический драматизм и открывает путь к тому, чтобы через частный эпизод войны ощутить неизгладимость ее следа в человеческих душах: «Молодая жизнь уходит // Черной струйкою в песок…». Субъектом ролевого монолога может выступать в балладах Анчарова и неодушевленный предмет, который художественно трансформируется в чувствующее и мыслящее существо, – как, например, в «Балладе о танке Т-34, который стоит в чужом городе на высоком красивом постаменте» (1965). Исповедь «убитого» в бою танка звучит как бы из «посмертья», из вечности, масштаб которой позволяет с позиций непреходящих ценностей осознать все произошедшее в угаре боя. В звучащем в мирное время рассказе о войне пересечение временных планов порождает особый драматизм. Воспоминание «как мозг, кипящего» танка о роковом бое, насыщенное философской рефлексией героя («Я шел… как перст судьбы») и навсегда запечатлевшее скрежещущую явь батальной сцены («дзоты трещали, как черепа», «автострады кровавый бинт»), неожиданно прерывается лирическим сюжетом. Этот сюжет прорисован в виде прозаической вставки, которая исполняется речитативом и тем самым выделяется в повествовательном пространстве своеобразным смысловым «курсивом»: И вот среди раздолбанных кирпичей, Среди разгромленного барахла Я увидел куклу. Она лежала раскинув ручки, В розовом платье, В розовых лентах, – Символ чужой любви, чужой семьи…270 Гибель героя из-за неспособности попрать танковой мощью «символ чужой любви» составляет сущность трагедийной динамики этого эпизода. Танк Т-34, подобно другим балладным героям Анчарова, обнаруживает в себе высокие романтические чувства в отнюдь не романтических обстоятельствах, этим возвышается над жестокостью тленного, преисполненного великими и малыми потрясениями мира и приобщается к вечности. В заключительной строфе на первый план выступает «драматургия» 270 Выделено М.Анчаровым. 248 неожиданного «узнавания» героя в ином качестве, а образ любви предстает, как и в некоторых иных песнях Анчарова, в виде не отвлеченного понятия, но полнокровного одушевленного существа, бывшего когда-то грозным орудием: И я застыл, Как застывший бой. Кровенеют мои бока. Теперь ты узнал меня? Я ж – любовь, Застывшая на века. Парадоксальное явление высокой романтики посреди ужаса «страшного мира» становится «нервом» баллад Анчарова. В «Песне про деда-игрушечника с Благуши» (1958) ролевой монолог, где создается сказовая атмосфера доверительного устного повествования («ты слушай – не слушай»), охватывает масштаб всей прожитой жизни героя, обретая притчевое звучание. Кульминацией бытия персонажа в условиях «побоев земных», благушинской среды, ставшей средоточием людских драм, становится сказочный эпизод встречи с Красотой – «в лунную ночь на Благуше», встречи, которая наполнила героя духом внутренней свободы от «земных забот»: И она мне сказала: «Эй, парень, Не жалей ты коней расписных, – Кто мечтой прямо в сердце ударен, Что тому до побоев земных!». Герои песен Анчарова, зачастую «круто осаженные в грубую реальность» (Л.А.Аннинский271), именно во мраке этой грубой действительности вопреки внешней логике ощущают в своей душе встречу с Красотой – как в случае с благушинским дедомигрушечником; с Мечтой – как это происходит с «пережившим три войны рассудку вопреки» героем «Баллады о мечтах» (1946). И это существенно углубляет психологическую перспективу балладного действия, спроецированного не только на событийную канву, но и на внешне немотивированные душевные переживания персонажей. Это действие разворачивается на трепещущей грани войны и мира, знаменующей повышенное душевное и онтологическое напряжение. По словам Анчарова, его песни о самых «трагических вещах» становятся «песнями о сопротивлении тому, о чем написаны».272 В «ролевых» балладных песнях Анчарова существенным аспектом художественной характерологии становится конкретизация профессионального призвания героя- повествователя, через которое отчетливее проступает модус его мировосприятия. 271 272 Аннинский Л.А. Горизонт и зенит Михаила Анчарова.C.163. Анчаров М.Л. «Ни о чем судьбу не молю…».С.130. 249 Позднее в бардовской поэзии В.Высоцкого, Ю.Визбора, А.Городницкого изображение нелегкого профессионального труда героев – летчиков, моряков, альпинистов, геологов, шахтеров и т.д. – будет выводить на углубленное творческое постижение их личностного склада. Ядром «внутреннего» сюжета анчаровской «Песни про циркача, который едет по кругу на белой лошади, и вообще он недавно женился» (1959) становится, по мысли автора, то «неистовое сопротивление бесчеловечности смерти» на фронте, рассказ о котором прошедший через войну герой передает в красоте циркового конного выступления. Событийная динамика песни развертывается в двух временных измерениях и двух несхожих эмоциональных регистрах. Это время веселого циркового концерта, который призван вместе с эстетическим чувством привнести в сознание не видевшего войны поколения («губы девочка мажет в первом ряду») долю необходимого исторического опыта, – и одновременно здесь проступает с болью переживаемая героем реальность войны: «В придорожной пыли // Медсестричку Марусю // Убитой нашли». Проблема невосполнимо ограниченного понимания сути войны поколением, ее не заставшим, и здесь, и в «Балладе о мечтах» ставится необычайно остро. В изображении соприкосновения военного опыта и мирной жизни у Анчарова часто подчеркивается иррациональное, до конца невербализуемое нечто, «что тем, кто не был на войне, // Вовек не увидать…». Напряженная «драматургия» детализированного эпизода концертного выступления, обретающего исторический смысл в связи с переживавшейся в тот момент отменой конницы как особого войска, благодаря непосредственному рассказу повествователя сопрягается не только с эпохальными событиями прошлого, но и с конкретной человеческой судьбой: Отмененная конница Пляшет вдали, Опаленные кони В песню ушли. От слепящего света Стало в мире темно… Дети видели это Только в кино. Драматичная исповедь творческой личности звучит и в «Песне об органисте, который в концерте Аллы Соленковой заполнял паузы, пока певица отдыхала» (1959-1962). «Маленький органист» вопреки заведомо неблагоприятным обстоятельствам («Все пришли // Слушать певицу, // И никто не хотел – // Меня») энергией своего душевного порыва утверждает собственную творческую индивидуальность – подобно тому как утверждали ее и благушинский дед-игрушечник, и прошедший сквозь ужасы войны 250 циркач, – а также онтологический, надвременный смысл звучащего искусства. Сюжетная динамика, запечатлевшая эмоциональный отклик зала на «нацеленную» в него «токкату» Баха («галерка бежала к сцене», «иностранный священник плакал в первом ряду»), обретает в повышенном ритмическом напряжении кульминационной строфы вселенский ракурс: И – будто древних богов Ропот, И – будто дальний Набат, И – будто все Великаны Европы Шевельнулись В своих гробах! А в «Балладе об относительности возраста» (1961) сила творческого вдохновения героя-певца оказывается способной облегчить груз прожитого времени: «Мне только год… // Вода проточит камень, // А песню спеть – // Не кубок осушить». Эта психологическая коллизия оказывается стержневой и в балладе «МАЗ» (1960 – 1963), где повествование выстроено от лица бывалого «начальника автоколонны». В ролевом монологе повествователя устанавливается особый микроклимат доверительного общения: «Мы пойдем с тобою в буфетик // И возьмем вина полкило». Главным оказывается здесь психологический сюжет личностного противостояния героя трудным дорогам – и в буквальном смысле («МАЗ трехосный застрял в грязи»), и в плане нелегких перепутий как собственной жизни («Год тюрьмы, три года Всевобуча, // Пять войны»), так и целой страны послевоенной поры. В «щемящей партии человеческого одиночества, ничем не заполненной душевной пустоте» (Вс.Ревич273), которые исподволь проступают в рассказе героя, передается оппозиционное по отношению к официозным стереотипам художественное знание о внутренней драме усталости нации, оставившей «позади большой перегон» исторических потрясений: Что за мною? Автоколонны, Бабий крик, паровозный крик, Накладные, склады, вагоны… Глянул в зеркальце – я старик. Примечательно, что колорит экспрессивного, характерного для данной профессиональной среды языка, пропитывающий словесную ткань этого ролевого монолога, становится предметом размышлений самого персонажа: Крошка, верь мне: я всюду первый – И на горке, и под горой, – Только нервы устали, стервы, Да аорта бузит порой. 273 Ревич Вс. Указ. соч. С.8. 251 Слышь, бузит,274 – ты такого слова Не слыхала: ушло словцо… Поздняя баллада Анчарова все определеннее тяготеет к социально-исторической проблематике, запечатлевающей панораму жизни прошедшего через войну поколения и картину бытия личности в трагических коллизиях XX столетия в целом. Именно к социально-историческим балладам «о поколении» могут быть отнесены «Большая апрельская баллада» (1966) и «Баллада о двадцатом веке» (1970-е гг.). В первой из них в интонации неторопливого рассказа, внутренняя напряженность которого передается через чередования количества стоп в строках, развертывается пронзительная исповедь поколения: «Мы – цветы // Середины столетья…». Посредством обобщающих образов – знаковых для своей эпохи – рисуется увиденная глазами современника анчаровского лирического героя целостная картина мира, в которой военная образность окрашивает даже мирное бытие: «Мы почти не встречали // Целых домов, // Мы руины встречали // И стройки». В противовес бодряческому мажору массовой советской песни здесь ставится жесткий диагноз недугам времени: Мы саперы столетья! Слышишь взрыв на заре? Это кто-то из наших Ошибся… От выпуклой предметной конкретики изображения художественная мысль автора устремлена к эпохальным, философским обобщениям, в которых отчетливо проступает сила духовного превозмогания анчаровским героем и его соотечественниками катастрофического фона эпохи: Небо в землю упало. Большая вода Отмывает пятна Несчастья. На развалинах старых Цветут города – Непорочные, Словно зачатье. А в «Балладе о двадцатом веке», которую поэт считал продолжением песенной «трилогии» («Антимещанская песня», «Про радость», «Большая апрельская баллада»), масштабный образ «века проклятого», посягнувшего на автономию индивидуального бытия («Ты – это личность, // Которой нет»), парадоксально сочетается с лирическими нотами «безнадежной любви», которые звучат и в «пунктирных» минисюжетах (об отце, «убитых пограничниках, плывущих по реке», о «рыжей девочке», «выжившей» в 274 Выделено М.Анчаровым. 252 трагических поворотах эпохи), и в пронзительном авторском диалоге с историческим временем: Слушай, двадцатый, Мне некуда деться, Ты поешь У меня в крови. И я принимаю Твое наследство По праву моей Безнадежной любви! Исполненный напряженного драматизма художественный мир песенных баллад Михаила Анчарова запечатлел целостный образ личности, переживающей и по-своему преодолевающей трагические испытания, выпавшие на долю нации в середине столетия. «Драматургия» многих анчаровских баллад, характеризующихся наложением внутренне конфликтных «военного» и «мирного» временных планов, предельной конкретностью персонажной характерологии и социального фона, основана часто на осознанном сопротивлении героев безжалостным обстоятельствам – будь то сниженная среда московской Благуши или калечащая душу и тело военная реальность. Язык баллад Анчарова, призванный к неизбирательному отражению больших и малых обстоятельств жизни героев, порой неожиданно соединяет далекие стилевые регистры – от сниженноразговорного, «блатного», «профессионального» языка до высокой патетики; достигает максимальной выразительности в особой манере авторского исполнения, где «чеканная» сдержанность таит за собой душевную боль. Пережив в молодости увлечение гриновской романтикой, поэт-певец и впоследствии сохранил место для высокой романтики в потаенных глубинах внутреннего мира своих героев. И все же баллады Анчарова опередили свое время, по духу и стилю оказались созвучнее не ранним лирико-романтическим песням Ю.Визбора, Б.Окуджавы, Н.Матвеевой, А.Городницкого 1950 – начала 1960-х гг., но той трагедийной линии авторской песни, которая в последующий период получила мощное развитие в творчестве В.Высоцкого, А.Галича, А.Дольского, И.Талькова и др. И, таким образом, изучение песенно-поэтического наследия Анчарова позволяет точнее представить общую динамику авторской песни – от истоков до наших дней; увидеть ростки трагедийносатирического жанрово-стилевого направления уже на ранних стадиях развития бардовской поэзии. 253 «На сгибе бытия»: Владимир Высоцкий II. 1. Онтологические основания поэтического мира Высоцкого а) Л и р и ч е с к а я и с п о в е д ь в п о э з и и В ы с о ц к о г о Песенно-поэтическое творчество Владимира Семеновича Высоцкого (1938 – 1980) стало одним из главных явлений в авторской песне второй половины 1960-х – 1970-х гг., в значительной мере определивших общий художественный облик данного направления поэзии. Глубина онтологических оснований поэзии Высоцкого соединилась в его многогеройном и многожанровом художественном мире с разносторонним постижением психологических, социально-исторических, культурных аспектов жизни современника. Значительное место в посвященных В.Высоцкому исследованиях всегда занимали размышления о многообразных «ролевых» героях его лирики, о «протеизме» как важнейшей черте художественного мышления поэта-актера. При этом меньше внимания уделяется рассмотрению собственно исповедального начала, которое в творчестве барда постепенно становится доминирующим. Текстовое содержание песен Высоцкого предстает неотделимым не только от авторской музыкальной манеры, но и от тех комментариев, которыми поэт предварял или заключал их исполнение во время концерта: по мысли Вл.И.Новикова, сам концерт становится у Высоцкого целостным текстом.275 Подобные автокомментарии нередко несли в себе именно исповедальную направленность. Так, в апреле 1972 года, высказываясь об авторской песне, Высоцкий подчеркивал усиление в ней, по сравнению с эстрадой, исповедальной, лирической составляющей: «Мне кажется, что она помогает — оттого, что легко запоминается – переносить какие-то невзгоды, – всегда "влезает в душу", отвечает настроению».276 А за несколько дней до смерти поэт так выразил смысл своих сценических выступлений: «У меня есть счастливая возможность, в отличие от других людей, такому большому количеству людей рассказывать о том, что меня беспокоит, прихватывает за горло, дергает по нервам, как по струнам, – я рассказываю 275 276 Новиков Вл.И. В Союзе писателей не состоял… : Писатель Владимир Высоцкий. М., 1990.С.77. Высоцкий В.С. Я не люблю... М., 1998.С.37. 254 только об этом».277 Показательно, что уже первые критики обратили внимание на исповедальный аудиторией: характер Высоцкий творческого «с гитарой – взаимодействия беседует, поэта разговаривает. со слушательской Манера общения Высоцкого – исповедальная» (В.И.Толстых278). Исследователи отмечают постепенное углубление философского начала в лирике Высоцкого рубежа 1960–1970-х годов.279 А.В.Кулагин справедливо указывает на возрастающую весомость автобиографических подтекстов в «ролевых» песнях этого периода («Он не вернулся из боя», «Бег иноходца» и др.), а также на связь исповедальной лирики, раскрывшейся главным образом в жанрах драматической баллады и лирикофилософского монолога, с актерской работой Высоцкого над ролью Гамлета (1971). В свете дальнейшего изучения творчества поэта в контексте авторской песни представляется важным рассмотрение целостной образной системы лирико- исповедальных песен Высоцкого, в том числе и с точки зрения их соотнесенности с поэтической традицией Серебряного века. Как известно, слушая в свое время курс А.Синявского по русской литературе XX в. в Школе-студии МХАТ, бард живо интересовался поэзией рубежа столетий. Опыт ее глубокого восприятия наложил отпечаток на созданные впоследствии философские произведения. Исповедальные мотивы в зрелой лирике Высоцкого «вживлены» и в трагедийный монолог о времени, о советской действительности. Отдельные исповедальные ноты звучали еще в ранних песнях Высоцкого, проступая сквозь «блатную» стилистику. Так, в «Серебряных струнах» (1962) на первый план выходит ощущение надрывной тоски о разорванной душе, об утраченной свободе, скованной сомкнувшимися стенами: Что же это, братцы! Не видать мне, что ли, Ни денечков светлых, ни ночей безлунных?! Загубили душу мне, отобрали волю, – 280 А теперь порвали серебряные струны … С середины 1960-х гг. в лирике Высоцкого исповедальные мотивы зачастую сопрягаются с многоплановой художественной разработкой образа двойника, олицетворяющего душевную дисгармонию и внутренний надрыв лирического «я». 277 Высоцкий В.С. Я не люблю... С.443. Толстых В.И. В зеркале творчества: (В. Высоцкий как явление культуры) // Вопросы философии. 1986.№ 7. С.115. 279 Кулагин А.В. Поэзия В.С.Высоцкого: Творческая эволюция. М., 1997; Зайцев В.А. Русская поэзия XX века: 1940–1990-е годы. М., 2001. С.166-178. 280 Здесь и далее поэтические тексты В.Высоцкого приведены по изд.: Высоцкий В.С. Сочинения в двух томах. Екатеринбург, У-Фактория, 1999. 278 255 Негативное, разрушительное начало этот образ знаменует в таких стихах, как «Про черта» (1965–1966), «И вкусы и запросы мои – странны...» (1969), «Маски» (1971) и др. В стихотворении «Про черта» в качестве двойника лирического героя, погруженного в «запой от одиночества», выступает периодически являющийся ему черт. Двойник предстает здесь в сниженно-бытовом облике: он «брезговать не стал» коньяком, «за обе щеки хлеб уписывал», знаком с «запойным управдомом» – то есть оказывается плоть от плоти родственным реалиям советской жизни. В фамильярном полуироническом обращении лирического героя с силами тьмы вырисовывается кризисное состояние души, готовой поддаться их власти, пренебречь своей индивидуальностью: …Все кончилось, светлее стало в комнате, – Черта я хотел опохмелять. Но растворился черт как будто в омуте… Я все жду – когда придет опять… Я не то чтоб чокнутый какой, Но лучше – с чертом, чем с самим собой. Трагикомическое, сниженно-бытовое освещение «инфернальной» темы в этих заключительных строках оттеняет тягостное для лирического «я» чувствование своей внутренней духовной несвободы. Углубление мотива двойничества, продиктованное усилением исповедальных интенций, происходит в стихотворении «И вкусы и запросы мои – странны...». Как и в предыдущем случае, отношение лирического субъекта к своему «второму Я281 в обличье подлеца» подчеркнуто иронично, но герой, обнажая «гранки» своей страждущей души, с горечью отдает отчет в бытийной трудности распознания в себе подлинного «я»: Я лишнего и в мыслях не позволю, Когда живу от первого лица, – Но часто вырывается на волю Второе Я в обличье подлеца. И я борюсь, давлю в себе мерзавца, – О, участь беспокойная моя! – Боюсь ошибки: может оказаться, Что я давлю не то второе Я.282 Как это часто бывает в лирике Высоцкого, исповедальные мотивы вплетены здесь в сюжетную динамику, вследствие чего обыденные явления наполняются бытийным, символическим смыслом. Возникающий в стихотворении образ уголовного суда становится косвенным напоминанием о Страшном Суде и отчасти, по мысли исследователя, его «травестийным замещением».283 В пронзительном исповедальном 281 Выделено В.С.Высоцким. Выделено В.С.Высоцким. 283 Свиридов С.В. На сгибе бытия: к вопросу о двоемирии В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Вып. II. М., 1998. С.116. 282 256 слове лирического «я» прорисовывается напряженное стремление к самоочищению и освобождению от ложных личин: Я воссоединю две половины Моей больной раздвоенной души! Искореню, похороню, зарою, – Очищусь, ничего не скрою я!.. Позднее более сложное проявление внутренней раздвоенности души героя будет выражено в песне «Кони привередливые» (1972), хотя в поэтическом мире Высоцкого двойник мог ассоциироваться и с высшим зовом души, побуждающим к подвигу, самопожертвованию.284 Это видно в ряде военных баллад, содержащих в себе ярко выраженные исповедальные элементы: таковы «Песня самолета-истребителя» (1968), построенная как взволнованный лирический монолог о «том, который во мне сидит», или песня «Он не вернулся из боя» (1969), которую Н.М.Рудник справедливо определила как «исповедь-реквием».285 Еще на заре нового столетия А. Блок размышлял о том, что важнейшую составляющую современного художнического мироощущения образует «чувство пути» («Душа писателя», 1909 и др.). О значимости блоковского опыта для творческого самосознания Высоцкого речь еще пойдет ниже, теперь же отметим, что категория пути является магистральной в исповедальных песнях Высоцкого, где выстраивается целостная аксиология пути – как индивидуально-личностного, так и общенационального, народного. Обостренное «чувство пути» пронизывает различные проблемно-тематические уровни поэзии Высоцкого. В «Балладе о детстве» (1975) боязнь «однобокости памяти» побуждает лирическое «я» вглядываться в вехи своего существования начиная еще с «утробного» периода – в его взаимосвязи с народной судьбой военных и послевоенных лет. А «ролевая» ситуация «Натянутого каната» (1972), где повышенное экзистенциальное напряжение обусловлено внутренним императивом «пройти четыре четверти пути», приобретает глубоко личностный характер. В конце 1960-х гг. Высоцкий создает песню «Моя цыганская» (1967–1968), в исповедальном звучании которой в условно-символической форме запечатлелись раздумья о путях лирического героя и его современников в советской действительности, что нашло выражение в системе пространственных образов. 284 285 Хазагеров Г.Г. Две черты поэтики В. Высоцкого // Мир Высоцкого. Вып. II. М., 1998.С.82-106. Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С.Высоцкого: Канд. дис. М., 1994. С.87. 257 Лирический герой песни взыскует высшей радости бытия, «праздника», «веселья», но, подобно шукшинскому Егору Прокудину, его не обретает ни во сне, ни наяву: «Нет того веселья...». Подспудно он тянется к познанию абсолютных духовных ценностей – и это сквозной мотив многих стихов-песен Высоцкого, – однако в кабаке он находит лишь «рай для нищих и шутов», а в церкви им, увы, не ощущается ничего, кроме «смрада и полумрака». Голос совести, дающий некое изначальное интуитивное представление о том, «как надо», заставляет героя всюду мучительно распознавать неподлинное: «Все не так, как надо...». Устремленность лирического «я» к обретению высшего, надвременного смысла существования запечатлелась в его символическом движении «на гору впопыхах». Пространственные образы горы, поля, леса, реки выступают здесь, по наблюдению исследователя, как «традиционные формулы русского фольклора, связанные с семантикой рассеивания, избывание горя».286 Через соприкосновение с родной стихией горе «рассеивается», но ненадолго. Трагедия утери современной душой чувства Бога, рая передана через оксюморонную «конфликтность» самого поэтического языка («Света – тьма, нет Бога!») и посредством возникающего в финале иносказательного образа ада, который воплощает неминуемое возмездие за неполноту внутренней жизни: А в конце дороги той – Плаха с топорами... Обращает на себя внимание аксиологическая глубина выстроенной здесь поэтической модели пути: утрата сокровенного знания о рае неизбежно влечет за собой другое – страшное – знание о том, каким будет «конец» «дальней дороги»: Где-то кони пляшут в такт, Нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так, А в конце – подавно… Исповедально-монологический текст Высоцкого таит в своих содержательных глубинах диалогические потенции. Вл.И.Новиков отмечает, что сквозной лирической темой становится здесь часто «переживание взаимоисключающих точек зрения на жизнь».287 Надрывный призыв героя «Моей цыганской», страдающего от безверия и отчаяния, обращен к «ребятам», в широком смысле – к народу, с которым его объединяет общая беда. Синтаксическая структура этого обращения выявляет диалогизм сознания поэта: вслед за безысходным «И ни церковь, ни кабак! – // Ничего не свято!» – он последним усилием перечеркивает этот вывод, вступая в неразрешимый спор с собой и апеллируя к окружающему миру: 286 287 Рудник Н.М. Указ.соч. С.86. Новиков Вл.И. Указ.соч. С.97. 258 Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята... Особенностью лирической исповеди Высоцкого оказывается преломление в ней характерных – в том числе и кризисных сторон национального сознания. Показательна в этом плане песня «Кони привередливые» (1972).288 Предельное душевное напряжение героя выражается здесь на уровне пространственных образов, подчиненных семантике «края», к которому с «гибельным восторгом» тянется лирическое «я». До крайности сгущена и сама атмосфера балладного действия: «Что-то воздуху мне мало – ветер пью, туман глотаю». В сюжетном движении сталкиваются пьянящее влечение взыскующей духовные ориентиры личности к «краю» жизни, к «последнему приюту», за которым таится напряженное предчувствие встречи с Богом («Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий»), – и, с другой стороны, – тяга к обузданию стихийнозалихватского состояния души. С этой внутренней коллизией сопряжена конфликтность в смысловом соотношении рефренов («Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!») и образного мира основных частей произведения, пронизанного ощущением «урагана», влекущего к «последнему приюту». Духовная трагедия лирического «я» обусловлена в логике балладного действия и исповедального самораскрытия героя необретением им искомого райского состояния и неготовности к нему – потому и «ангелы» предстают в его глазах в демоническом обличии: Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий, – Что ж там ангелы поют такими злыми голосами?! Сквозным мотивом в исповедальной лирике Высоцкого становится движение к прорыву в инобытие – почти всегда сквозь душевные страдания. Одним из главных в философской поэзии Высоцкого начала 1970-х гг. исследователи неслучайно считают образ Гамлета, имея в виду и стихотворение «Мой Гамлет» (1972), и актерскую работу поэта. В предложенной А.В.Кулагиным концепции творческой эволюции поэта-певца289 выделяется особый «гамлетовский» период (1971-1974 гг.), ознаменованный усилением исповедального, философского начала в его произведениях, глубоким прикосновением к «последним вопросам» бытия, а также тяготением к притчевой образности, целостному осмыслению собственной судьбы. 288 См. анализ образного мира и балладного сюжета данного произведения с точки зрения категорий онтологической психологии: Протоиерей Борис Ничипоров Времена и сроки. Очерки онтологической психологии. Книга первая. М., Фонд «Сеятель», 2002. С.40-42. 289 Кулагин А.В. Поэзия В.С.Высоцкого: Творческая эволюция. М., 1997. 259 Драму шекспировского героя Высоцкий понимает прежде всего как драму прозрения и тягостного обнажения правды о человеческой душе и своем времени: В проточных водах по ночам, тайком Я отмывался от дневного свинства. Я прозревал, глупея с каждым днем, Я прозевал домашние интриги. Сам поэт так сформулировал собственное понимание смысловой сердцевины жизненной, бытийной позиции датского принца: «В нашем спектакле «продуман распорядок действий», и Гамлет знает намного больше, чем все другие Гамлеты, которых я видел. Он знает, что произойдет с ним, что происходит со страной! Он понимает, что никуда ему не уйти от рокового конца. Такое выпало ему время – жестокое».290 В таких произведениях Высоцкого этих лет, как «Баллада о бане» (1971), «Две судьбы» (1976), «Мне – судьба до последней черты, до креста...» (1978), «Упрямо я стремлюсь ко дну...» (1977), вырисовывается путь к духовному превозмоганию греховного бремени души. В «Балладе о бане» бытовая ситуация мытья в бане перерастает в бытийное, притчевое обобщение. Глубинная обнаженность всего существа лирического героя подчеркивает атмосферу исповедальной искренности. Лирическое «я» тянется к благодати, к гармонизации внутреннего мира, обнаруживая тягу очиститься через страдание: Нужно выпороть веником душу, Нужно выпарить смрад из нее. Из глубин поэтической интуиции здесь рождаются сакральные ассоциации с «крещением», «омовеньем», «водой святой», «райским садом». Примечательно, что стихотворение начинается и завершается прямым воззванием к Богу, причем заключительные строки несут скрытую перекличку с обращениями лирического героя А.Блока к Высшим силам в стихотворении «Май жестокий с белыми ночами...» (1908): «Пронзи меня мечами, // От страстей моих освободи!»: Все, что мучит тебя, – испарится И поднимется вверх, к небесам, – Ты ж, очистившись, должен спуститься – Пар с грехами расправится сам. <…> Загоняй по коленья в парную И крещенье принять убеди, – Лей на нас свою воду святую – И от варварства освободи! Родство духовных исканий лирических героев Блока и Высоцкого не сводится к отдельным перекличкам. Блоковское «уюта – нет, покоя – нет» или «Я вышел в ночь – 290 Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актер. М., 1989. С.127. 260 узнать, понять...» (1902) созвучно поэтическому контексту Высоцкого, мироощущению его персонажей. Лирическое «я» обоих поэтов, в немалой степени погруженное в трагическое ощущение неблагополучия времени, рвется в своей тревожной неуспокоенности сквозь «ночь» и мрак «страшного мира» к немеркнущим ценностям бытия. Черты сходства с блоковской картиной мира проступают в стихотворениях Высоцкого «Две судьбы», «Мне – судьба до последней черты, до креста...». В притчевом, населенном условно-сказочными персонажами стихотворении «Две судьбы» механистичное существование лирического героя «по учению», в согласии с «застойными» официозными штампами приводит его на грань окончательной гибели, томительной богооставленности («Не спасет тебя святая Богородица...») в полуинфернальном пространстве под властью Нелегкой и Кривой. Но прежняя инертность существования под влиянием мучительного усилия нравственного чувства уступает внутренней потребности из последних сил обрести свой путь: Я впотьмах ищу дорогу… Греб до умопомраченья, Правил против ли теченья, на стремнину ли, – А Нелегкая с Кривою От досады, с перепою там и сгинули! Трагически-напряженная саморефлексия звучит и в стихотворении «Мне – судьба до последней черты, до креста...» (1978). Герой, предощущая горечь «чаши», которую «испить... судьба», осознавая неотвратимость пути «и в кромешную тьму, и в неясную згу», все же стремится волевым усилием сохранить в себе и своих современниках веру в высшую осмысленность бытия: Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу! Может, кто-то когда-то поставит свечу Мне за голый мой нерв, на котором кричу, И веселый манер, на котором шучу… <…> Лучше голову песне своей откручу, – Но не буду скользить словно пыль по лучу! … Если все-таки чашу испить мне судьба, Если музыка с песней не слишком груба, Если вдруг докажу, даже с пеной у рта, – Я умру и скажу, что не все суета. Чуткость лирического «я» к столь знакомым ему крайним, предельным душевным состояниям порождает отзывчивость на чужое неблагополучие, что существенно расширяет сферу адресации исповедального слова: Если где-то в глухой неспокойной ночи Ты споткнулся и ходишь по краю – 261 Не таись, не молчи, до меня докричи! – Я твой голос услышу, узнаю! («Если где-то в глухой неспокойной...», 1974) Неслучайно, что и многие «ролевые» герои предстают часто «в момент напряжения всех их жизненных сил»,291 что позволяет говорить об их причастности исповедальной струе зрелой поэзии Высоцкого в целом. Так, в стихотворении «Упрямо я стремлюсь ко дну...» (1977) «ролевой» сюжет, рисующий погружение в морские глубины, приобретает символический смысл, который знаменует движение к инобытию, истине, сокрытой под поверхностными, лукавыми наслоениями времени: Все гениальное и неДопонятое – всплеск и шалость – Спаслось и скрылось в глубине, – Все, что гналось и запрещалось. Дай бог, я все же дотяну – Не дам им долго залежаться! – И я вгребаюсь в глубину, И – все труднее погружаться. В образном мире произведения слышны явные отзвуки пастернаковского «Во всем мне хочется дойти // До самой сути...» (1956), сопряженные с поиском пути к обретению смысла индивидуального и всеобщего бытия ценой преодоления скепсиса, мучительных сомнений, давления исторического времени: Чтобы добраться до глубин, До тех пластов, до самой сути. <…> Меня сомненья, черт возьми, Давно буравами сверлили: Зачем мы сделались людьми? Зачем потом заговорили? Один из заключительных «аккордов» стихотворения – отчаянный призыв «Спасите наши души!» – исходит не только от лирического «я», но может восприниматься и как символическое обобщение голоса поколения, забывшего о духовных ориентирах своего пути. В лирической исповеди Высоцкого тяга найти путь к спасению часто балансирует на грани надежды «добраться до глубин» и крайнего отчаяния. Этим порождено кризисное ощущение вечного, обессмысленного круговращения жизни, прозрение того, насколько «круг велик и сбит ориентир», – поразившее своей безысходностью еще Блока – автора известного стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...» (1912). Созвучная Блоку поэтическая рефлексия разворачивается у Высоцкого: 291 Ходанов М., свящ. «Спасите наши души…». О христианском осмыслении поэзии В.Высоцкого, И.Талькова, Б.Окуджавы и А.Галича. М., 2000.С.33. 262 Ничье безумье или вдохновенье Круговращенье это не прервет. Не есть ли это – вечное движенье, Тот самый бесконечный путь вперед? («Мосты сгорели, углубились броды...»,1972) В размышлениях о «босых душах» поэтов и «фатальных» для них «датах и цифрах», лирический герой Высоцкого, проходя через очищающую иронию, стремится превозмочь крайности унылого фатализма: Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, – Томитесь, как наложницы в гареме! («О фатальных датах и цифрах»,1971) Подчеркнем, что исповедальный накал в поэзии Высоцкого часто передается через образ пути, семантику пространственных пределов: «края», «пропасти», «дна», «последней черты», «сгоревших мостов» и др. Для лирического «я» жизнь «на сгибе бытия», связанная с сильнейшим внутренним напряжением, все же оставляет надежду на приближение к истине: «четыре четверти пути» к самопознанию противостоят навязанному «застойной» эпохой «общепримиряющему бегу на месте». Раздумья о пути в исповедальной лирике Высоцкого спроецированы и на постижение посмертной судьбы. В стихотворении «Памятник» (1973), опирающемся на многовековую поэтическую традицию,292 выражен взгляд на загробное бытие души – надорванной и оголенной, но воспринимающей эту оголенность как победу над каменными оковами и лживым «приятным фальцетом». В этом же году поэт создает и стихотворение «Я из дела ушел», ставшее своеобразным смысловым продолжением «Памятника», где трагизм посмертного одиночества («Хорошо, что ушел, – без него стало дело верней!») становится тем наследием земного пути, с которым герой предстает перед Богом: Открылся лик – я встал к Нему лицом, И Он поведал мне светло и грустно: «Пророков нет в отечестве своем, – Но и в других отечествах – не густо». От «Моей цыганской», «Баллады о бане», «Коней привередливых» к стихам-песням Высоцкого последних лет развивается архетипический сюжет приближения к раю, приобретающий все более глубокий смысл. 292 Зайцев В.А. «Памятник» В. Высоцкого и традиции русской поэзии // Мир Высоцкого. Вып. III. Т. 2. М., 2000.С. 264-272. 263 Представление лирического «я» о рае, Боге все время колеблется между внушенным официальной идеологией ироническим сомнением – и искренней жаждой веры, как, например, в «Балладе об уходе в рай» (1973, для кинофильма «Бегство мистера МакКинли»). Сама сюжетная ситуация отъезда в «цветной рай» на поезде, вероятно, и могла бы быть истолкована лишь как забавное приключение, если бы не настойчиво звучащий лейтмотив песни, связанный с подспудным ощущением нелегкой необходимости самоопределения героя в отношении к Богу: Итак, прощай, – звенит звонок! Счастливый путь! Храни тебя от всяких бед! А если там и вправду Бог, Ты все же вспомни – передай ему привет! Варьируясь, эта тема возникает и в «Песне о погибшем летчике» (1975), и в стихотворении «Под деньгами на кону...» (1979–1980), где русская жажда игровой удали («Проиграю-пропылю // На коне по раю») накладывается на надрывное ожидание встречи со Христом: Проскачу в канун Великого поста Не по враждебному – <по> ангельскому стану, – Пред очами удивленными Христа Предстану... Отличительным свойством исповедальных песен Высоцкого является то, что грани глубинного мистического опыта в восприятии Бога, своего пути, посмертной судьбы обличены в осязаемую, почти бытовую конкретику с легко узнаваемыми реалиями земной жизни. Говоря со слушательской аудиторией на доступном ей, внешне простом языке, поэт в то же время приобщал своих современников к забытым духовным понятиям, пробуждал в душах жажду осмысления основ личностного существования. В «Райских яблоках» (1978) в условной форме выведена перспектива загробного пути лирического «я», душа которого «галопом» устремляется в рай «набрать бледно-розовых яблок». За сказочно-авантюрным сюжетным поворотом таится прозрение о душе, жаждущей благодати, но внутренне не готовой к ее обретению. Переживаемое здесь разочарование носит онтологический характер: вожделенное спасение обернулось тоской «от мест этих гибких и зяблых». Да и райские сады, рисующиеся воображению героя, предстают в образе тоталитарного гетто: «И огромный этап – тысяч пять – на коленях сидел». Песня выразила и личную трагедию лирического героя, в роковой момент не нашедшего Бога,293 и удел нации, отчужденной от сокровенного знания о душе и 293 С этой точки зрения нам представляется неубедительной категоричная интерпретация данной песни, предложенная С.В.Свиридовым, согласно которой герой здесь якобы «отказывается от рая, сознательно повторяя поступок Адама. Он выбирает более подлинный, хотя и порочный мир-1 264 духовного опыта. Образный мир, сюжетные коллизии стихотворения дают основания полагать, что искренний порыв к знанию о Боге, вступивший в противоречие с давящим грузом советской современности и потому столь надрывный и внутренне конфликтный, – составляет одну из центральных коллизий всей исповедальной лирики Высоцкого. Основополагающим качеством исповедальных стихов и песен Высоцкого стала их тесная соотнесенность с рефлексией об исторических судьбах Родины и, как следствие, происходящее здесь «самопознание народной души» (В.А.Зайцев294). Одним из ключевых с этой точки зрения является стихотворение «Я никогда не верил в миражи...» (1979–1980), смысловым стержнем которого стала реминисценция из известного блоковского послания Зинаиде Гиппиус «Рожденные в года глухие...» (1914): И нас хотя расстрелы не косили, Но жили мы поднять не смея глаз, – Мы тоже дети страшных лет России Безвременье вливало водку в нас. Высоцкого сближает с Блоком трагическая рефлексия о пути, пройденным и лирическим героем, и его поколением сквозь «испепеляющие годы». Для Блока это были первые потрясения нового века – 1905 год и начало Первой мировой войны; для Высоцкого – кровавые события в Будапеште 1956 г. и Пражская весна 1968-го. Сходен авторский настрой в обоих стихотворениях: это позиция духовного трезвения, усилие сохранить память об историческом пути, устоять в «страшном мире» «безвременья». Последнее слово, прозвучавшее у Высоцкого как емкая характеристика «застойного» брежневского анабиоза, валентно и в блоковском контексте, если вспомнить статью 1906 г. «Безвременье», наполненную тревожными предчувствиями надвигающихся бурь. Лирический герой Высоцкого несет в себе черты антиутопического сознания («Я никогда не верил в миражи, // В грядущий рай не ладил чемодана») и с исповедальной искренностью обнажает свой путь к прозрению правды о времени и об историческом опыте XX столетия – от катастрофичной блоковской эпохи рубежа веков до сталинских расстрелов и «застойных» 70-х гг. Однако и у Блока и у Высоцкого «безумие» личности и ее поколения от пережитых потрясений соединяется с «надеждой» на пусть медленное, но восстановление памяти о пути, на преодоление социальной амнезии. (земной мир в «терминологии» автора статьи. – И.Н.), предпочитая его миру театрализованного абсолюта» (Свиридов С.В. На сгибе бытия. С.118). Как соотносится подобный «сознательный отказ» с очевидным во многих стихотворениях Высоцкого настойчивым стремлением ко встрече с Богом, к знанию о рае? 294 Зайцев В. А. Русская поэзия XX века. С.176. 265 Взаимосвязь исповедальных элементов с эпически многоплановым познанием судеб России значительно расширяет жанровые, проблемно-тематические горизонты философской лирики Высоцкого. Это сопряжение возникает в таких стихотворениях, как «А мы живем в мертвящей пустоте...» (1978–1980), «Случай на таможне» (1975). В последнем бытовая, пропитанная иронией зарисовка «происшествий» на границе ведет к емкому трагедийному обобщению обезбоженности нации: Таскают – кто иконостас, Кто крестик, кто иконку, – И веру в Господа от нас Увозят потихоньку. Есенинские мотивы просматриваются в стихотворении «Мой черный человек в костюме сером...» (1979–1980), где черный человек, «злобный клоун», воплощает обезличенную современность, которая враждебна поэту, осознающему тяжесть своего пути, но не отступающему от него: «Мой путь один, всего один, ребята, – // Мне выбора, по счастью, не дано». Сквозной у Высоцкого становится антитеза искомого лирическим «я» пути и гибельного «беспутья» народа – в стихотворениях «Маски», 1971; «Чужая колея», 1973; «История болезни», 1976. В «Истории болезни» особую психологическую весомость и символическую значимость приобретают пространственные образы «сгиба бытия», «полдороги к бездне», а исповедальное откровение о больном духе народа доходит до ощущения мировой дисгармонии, колеблющего представление о высшей осмысленности бытия: Все человечество давно Хронически больно – Со дня творения оно Болеть обречено. Сам первый человек хандрил – Он только это скрыл, – Да и создатель болен был, Когда наш мир творил. Вы огорчаться не должны – Для вас покой полезней, – Ведь вся история страны – История болезни. В ходе одного из выступлений 1978 г. поэт-певец признавался: тема России – «это тема, над которой я вот уже двадцать лет работаю своими песнями».295 Эти суждения оказываются принципиально важными при рассмотрении исповедальной лирики 295 Высоцкий В.С. Я не люблю... С.363. 266 Высоцкого, где личная судьба героя проецируется на перепутья русской истории и современности. С этим связаны и образные переклички, к примеру, между песней «Кони привередливые», в центре которой индивидуальная драма лирического субъекта, и такими панорамными стихотворениями о России, как «Летела жизнь» (1978) или «Пожары» (1978): стержневой, эпически масштабный, образ последнего («Пожары над страной всё выше, жарче, веселей») предвещает знаменитую метафору В. Распутина. Своеобразным итогом соединения раздумий о внутреннем самоопределении героя и осмысления темы России становится стихотворение «Купола» (1975). Центральный образ – России выведен здесь в призме мучительных диссонансов: от устремленных ввысь куполов до знаменующего утерю пути бездорожья и образа «сонной державы», «опухшей от сна». Содержащий напоминание о Высших силах лейтмотив стихотворения («Чтобы чаще Господь замечал») сводит воедино изображение душевной жизни героя и судьбу родной земли. Доминантой авторской эмоциональности становится здесь неуничтожимая вера в возможность преодолеть тоску богооставленности, обрести внутреннее исцеление, что раскрывается в сплаве предметных, зрительных ассоциаций и философских обобщений, а также в напряженной звуковой инструментовке стиха:296 Душу, сбитую утратами да тратами, Душу, стертую перекатами, – Если до крови лоскут истончал, – Залатаю золотыми я заплатами – Чтобы чаще Господь замечал! Итак, философские стихи-песни Высоцкого разных лет образуют глубинное внутреннее единство, являют жанровый симбиоз лирико-исповедальных и балладных тенденций. Эта содержательная и художественная целостность основана на экзистенциальном напряжении, объединяющем исповедальные стихотворения с образцами «ролевой» лирики, а также на сквозном образе пути, – обостренное «чувство» которого в немалой мере сближало Высоцкого с Блоком. Этот путь не являлся однонаправленным: он был сопряжен с прозрением Божественного присутствия в мире, вел к нравственному очищению, но вместе с этим – нередко оборачивался отчаянием от вечного круговорота жизни, страданием от не-встречи с Богом, мучительным, имеющим бытийные истоки переживанием того, что «все не так». Исповедальные мотивы у Высоцкого часто вплетены в «новеллистичную» сюжетную динамику его песен, в трагедийную перспективу балладного действия; иронический модус авторской эмоциональности соединяется здесь с неутоленной болью страждущего духа лирического «я» и его поколения. Взрывная 296 Подробнее об этом см.: Рудник Н.М. Указ.соч. С.69 и др. 267 напряженность голоса, пунктирность «мелодического контура», «энерговооруженность стиха», обусловленная потребностью «усилить голос», «докричаться», а также сплав музыкальной и речитативной составляющих, – отмеченные исследователями297 как главные особенности исполнительского искусства барда, в полноте выразили грани мучительного, осложненного общим неблагополучием времени самоощущения «на сгибе бытия». Лирическая исповедь Высоцкого органично вбирала в себя раздумья о России, пути народа, его «истории болезни» – от далекого прошлого до «застойной» советской современности. И с этой точки зрения интересна глубинная сопряженность его исповедального слова с трагедийными прозрениями поэтов начала XX столетия. Сам феномен авторской песни, уходящий корнями в эпоху Серебряного века, художественная практика которого расширила сферу приложения поэтического слова, – создавал творческую ситуацию прямого, подчас весьма откровенного, оппозиционного господствующим стереотипам эпохи диалога с тысячной аудиторией. Фиксируемые исследователями прозаизация стиха Высоцкого, ярко выраженное речитативное начало в песнях,298 а также многочисленные авторские комментарии в ходе концертов – все это актуализировало лирико-исповедальные ноты в его песенно-поэтическом творчестве. Исповедальные стихотворения и песни, относительно немногочисленные в общем корпусе произведений В. Высоцкого, составляют его смысловое ядро, которое характеризуется внутренней спаянностью и тесным взаимодействием с иными жанровотематическими пластами творчества поэта-певца. б) «Я с т о ю к а к п р е д в е ч н о ю з а г а д к о ю…». Взыскание рая в песенной поэзии Высоцкого Духовно-нравственные и религиозные аспекты поэтического мира В.Высоцкого не раз становились предметом внимания писавших о его творчестве. Исследователями и критиками высказывались полярные точки зрения о соотношении творчества барда с христианской традицией. Если для одних он лишь кощунствующий «заложник отступничества» от евангельских заповедей (М.Кудимова,299 Н.Переяслов,300 297 Томенчук Л.Я. О музыкальных особенностях песен В.Высоцкого // В.С.Высоцкий: исследования и материалы. Воронеж, 1990. С.164 и др. 298 Томенчук Л.Я. Указ.соч. С.167; Новиков Вл.И. Указ.соч. С.168 и др. 299 Кудимова М. Ученик отступника // Континент. 1992. Вып.72. С.323-341. 268 А.Симаков301), то иные, напротив, склонны отводить христианской системе ценностей «роль организующей силы» (О.Шилина302) в произведениях Высоцкого. Наиболее перспективными представляются интерпретации, учитывающие противоречивое и болезненное для самого поэта соединение насмешливо-иронического, а иногда и богохульного отношения к церкви и религиозным догматам – с тоской по вере, тягой превозмочь отъединение от Бога, мучительное незнание о Нем (М.Ходанов,303 Д.Курилов,304 А.Ананичев305 и др.). Объективное исследование этой проблемы невозможно без понимания всей сложности самоопределения в отношении к религиозному миросозерцанию художника, сформировавшегося в атеистическую эпоху, которая вытравила из душ многих его современников духовный, мистический опыт бытия, навязав вместо этого абстракцию «общечеловеческого гуманизма». Страждущий, мятущийся дух лирического героя «Моей цыганской» и «Райских яблок» противоречивейшим образом сочетал в себе деструктивную иронию, направленную на евангельские сюжеты и образы («Песня про плотника Иосифа, Деву Марию, Святого Духа и непорочное зачатье», 1967) с напряженной жаждой веры, глубинным осознанием своего несовершенства. Эти коллизии в личностном самоопределении персонажей песен Высоцкого обуславливают актуальность задачи по выявлению в произведениях поэтабарда того, какими путями художественно выразился в них взволнованный поиск рая, личностного знания о Боге, – в песнях, которые, по словам свящ. М.Ходанова, «охватили всю боль эпохи»306 и в значительной мере явили воплощение надрывного голоса стремящейся «опамятоваться» нации. «Сюжет» взыскания героем Высоцкого рая и Божьей благодати – сквозной в его стихотворениях – имеет сложную динамику. В ранних, «блатных» песнях («Счетчик щелкает», 1964, «Ребята, напишите мне письмо…», 1964, «Про черта», 1965-1966, «Песня про космических негодяев», 1966 и др.) очевидно 300 болезненно-сладострастное чувствование героем своей греховной Переяслов Н.В. Слушать ли на ночь Высоцкого? // Он же. Загадки литературы. Сборник литературоведческих статей. Самара, 1996. С.46-52. 301 Симаков А. Словно Бог – без штанов… О поэзии Высоцкого в свете православного богопочитания // По страницам самиздата. М.,1990. С.216-217. 302 Шилина О.Ю. Поэзия В.Высоцкого в свете традиций христианского гуманизма // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып. I. М.,1997. С.101-117. 303 Ходанов М., свящ. Указ. соч. 304 Курилов Д.Н. Христианские мотивы в авторской песне // Мир Высоцкого. Вып.II. М.,1998. С.398-416. 305 Ананичев А.С. «…Не ради зубоскальства, а ради преображения» // Мир Высоцкого. Вып. III. Т.2. М.,1999. С.255-263. 306 Ходанов М., свящ. Указ.соч. С.69. 269 погруженности во тьму «жизни бесшабашной». Но в недрах «блатной» тематики и образности все определеннее проступает бытийное содержание: повторяющиеся мотивы «конца пути», где «придется рассчитаться», и особенно неминуемого Страшного суда, под которым разумеется отнюдь не только уголовное наказание («Все ерунда, // Кроме суда // Самого страшного»), ложатся в основу еще не вполне осознанной самим героем аксиологии его жизненного пути. Характерно, что в стихах-песнях Высоцкого встреча героя с силами ада происходит раньше, чем соприкосновение с Высшими сферами бытия. В трагикомическом стихотворении «Про черта» фигура царя тьмы предстает в качестве двойника самого лирического «я», боящегося остаться один на один со своей одинокой больной душой: «Но лучше с чертом, чем с самим собой…». Попытка заполнить внутреннюю пустоту бесшабашной, хмельной игрой с теми мистическими силами ада, чью власть над собой герой еще не вполне осознал, оборачивается для него трагичной в своей разрушительности иронией, направленной на собственную душу и целый мир. Внушенное богоборческой идеологией утопическое представление о могуществе человека перед лицом надмирных стихий бытия получило художественное воплощение в «Песне космических негодяев». В ролевом монологе дерзких покорителей космоса, где «страшней, чем даже в дантовском аду», людей, забывших «десять заповедей рваных», – воздвигается масштабное «здание» человекобожеской утопии, согласно которой «вечность и тоска – игрушки нам!»: На бога уповали бедного, Но теперь узнали: нет его – Ныне, присно и вовек веков! Последующий путь героя песен Высоцкого во многом проникнут самозабвенной, доходящей до душевной обнаженности устремленностью от адского «мрака греховного» к обретению рая, стихии света. Исследователи неслучайно обращали внимание на существенную роль мотива прохождения, преодоления границ, всяческих пределов в пространственной организации поэтического мира Высоцкого.307 В ряде стихотворенийпесен, повествующих об экстремальных жизненных положениях персонажей, которые требуют от человека героических душевных усилий («Две песни об одном воздушном бое», 1968, «Песня о двух погибших лебедях», 1975 и др.), именно в напряженном переживании горя, катастрофы рождается живое, личностное обращение к Богу, чувство причастности райской благодати и вечности: 307 См., например: Свиридов С.В. Структура художественного пространства в поэзии В.Высоцкого. Канд. дис. М., МГУ, 2003. С.55. 270 И я попрошу Бога, Духа и Сына, – Чтоб выполнил волю мою: Пусть вечно мой друг защищает мне спину, Как в этом последнем бою! Наиболее зримо движение героя Высоцкого от суетного мира к сакральному измерению бытия явлено в таких произведениях, как «Моя цыганская» (1967-1968), «Кони привередливые» (1972), «Баллада об уходе в рай» (1973) и др. В песне «Моя цыганская» из недр потаенной, подсознательной жизни лирического «я» («В сон мне – желтые огни, // И хриплю во сне я…») рождается неуничтожимая и не утоляемая праздной повседневностью жажда подлинной душевной и духовной радости: «Но и утром все не так, // Нет того веселья…». Терзающее опьяненную душу забывшего о Боге русского человека бытийное чувство того, что «все не так, как надо», предопределяет здесь «зигзагообразное» метание по миру. От взбирания «впопыхах» на вершину горы – до пребывания у ее подножья, пути «в чистом поле»; от кабака, кажущегося теперь лишь «раем для нищих и шутов», – к церкви, с которой у героя тоже обнаруживается разлад: восполнить одним стихийным эмоциональным порывом вакуум постоянной практики духовной жизни оказывается невозможным: Нет, и в церкви все не так, Все не так, как надо! В движении лирического «я» «Моей цыганской» к свету ждущая, не высказанная до конца надежда на обретение райского блаженства сплавлена с самыми крайними формами отчаяния и богооставленности, что отразилось в стихотворении и на уровне цветовой гаммы. «Тьме», «полумраку» противостоит гармония небесного цвета, преображающая природу: «В чистом поле – васильки, // Дальняя дорога». Лирическая исповедь произносится здесь как бы на исходе дыхания, на пределе словесного выражения: «Света – тьма, нет Бога!», «хоть бы что-нибудь еще»… Оказавшись в ситуации полной утери внутренних опор, герой стремится оживить в себе народный опыт восприятия мистических сил, нашедший выражение в фольклорной культуре.308 Аксиологическая перспектива «дальней дороги» жизни человека, не нашедшего Бога, приобретает в песне трагически-безысходную окрашенность: Вдоль дороги – лес густой С бабами-ягами, А в конце дороги той – Плаха с топорами… 308 Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.Высоцкого. Курск, 1995. С.119-123. 271 Преобладающий в стихотворении модус трагической иронии в самоосмыслении и познании мира имеет преимущественно деструктивную направленность, но вместе с тем за этой иронией таится желание освободиться от миражей, очиститься от всего того, что «не так», ощутив в обращении к «ребятам» диалогическое соприкосновение с народной судьбой и бедой: И ни церковь, ни кабак – Ничего не свято! Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята… В «Конях привередливых» стихийные силы души также влекут героя к «краю» бытия, к тому, чтобы ощутить полноту жизни не только в земном («ветер пью, туман глотаю»), но и в загробном существовании: мифопоэтический образ погоняемых им коней воплощает здесь движение в «пограничном» пространстве. Главной целью подобного безудержного, вызывающего «гибельный восторг» галопа становится встреча с Богом, раем, обретение в этой сокровенной встрече Высшего смысла существования. Однако духовная неготовность героя к подлинному общению со Всевышним вносит ноту болезненного отчуждения его от рая и райской жизни, где он чувствует себя неловким гостем, оказавшемся, как в известной евангельской притче, на брачном пиру одетым в небрачную одежду (Мф. 22,12): Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий, – Что ж там ангелы поют такими злыми голосами?! Сам образ рая в восприятии лирического «я» предстает тут раздвоенным и напоминает гибельное пространство ада. В художественной реальности произведения оказывается очевидным, что не Бог своей властью лишает человека райского блаженства в загробном пути, но сама отягощенная грехом душа оказывается не в силах приобщиться к этому блаженству. В песнях Высоцкого вновь и вновь образно запечатлевается состояние мучительного взыскания Бога, рая, оборачивающегося для героя трагическим разочарованием не-встречи. Яркое художественное воплощение этот поиск получает в песне-балладе «Райские яблоки» (1978). Как и в «Конях привередливых», жаждущая соприкосновения с райской гармонией душа героя устремляется в рай галопом «на ворованных клячах». Но, лишенный духовного зрения, он видит там лишь «сплошное ничто», подобие советской лагерной системы, исключающей внутреннюю свободу: «И среди ничего возвышались литые ворота, // И огромный этап – тысяч пять – на коленях сидел…». Внедренное советской 272 действительностью тотальное чувство несвободы оказывается всеобъемлющим впечатлением от мира и распространяется даже на интуиции о загробной жизни. Сложность авторской эмоциональности в стихотворении обусловлена тем, что, усматривая, по сути, в раю торжество зла, которое проявляется в образе длящихся здесь страданий Христа, его голгофских мук за прегрешения мира309 («Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел»), герой в то же время направляет на себя горькую иронию над собственной чуждостью глубинному мистическому опыту: «Это Петр Святой – он апостол, а я – остолоп…». Знаменательно, что в ходе работы над текстом произведения поэт последовательно ослаблял первоначально саркастические ноты в изображении рая310, стремясь, вероятно, преодолеть мучительную внутреннюю оторванность от него. Происходящее в конце стихотворения возвращение героя на землю и утверждение простых нравственных ценностей верности в любви, свободы стоит воспринимать не как отказ от поиска знания о рае в пользу грешной земной жизни, но как желание через сохранение этих ценностей в душе ощутить Царство Небесное «внутри себя»: «Вдоль обрыва с кнутом по-над пропастью пазуху яблок // Для тебя я везу: ты меня и из рая ждала!». Неслучайно в написанном вскоре стихотворении «Под деньгами на кону…» (1979 или 1980) поединок лирического героя с судьбой, сатанинской силой выводит его на сакральное – в плане художественного пространства и времени – личностное соприкосновение со Христом: Проскачу в канун Великого поста Не по враждебному – по <ангельскому> стану, – Пред очами удивленными Христа Предстану… Доминирующая во многих стихах-песнях Высоцкого о рае и райской жизни трагическая ирония сопряжена с тем, что к диалогу с Богом, мистическому приближению к раю их герой с трудом прорывается сквозь миражи современности, социальные утопии, расхожие и суетные представления о тайне душевной жизни, – как, например, в случае с размышлениями об «удобной религии» индусов в «Песенке о переселении душ» (1969): Кто верит в Магомета, кто – в Аллаха, кто – в Исуса, Кто ни во что не верит – даже в черта, назло всем, – Хорошую религию придумали индусы: Что мы, отдав концы, не умираем насовсем. 309 Глубокий анализ образа Христа и темы несвободы в стихотворении см.: Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: мир и слово. Уфа, 2001. С.121. 310 Свиридов С.В. «Райские яблоки» в контексте поэзии В.Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М.,1999. С.179. 273 Сам поэт-певец предстает одновременно и несвободным от отрицательного религиозного опыта породившей его эпохи, и настойчиво стремящимся вернуть народу, отдельной личности способность задумываться о трансцендентном смысле своего бытия. В стихотворении «Переворот в мозгах из края в край…» (1970) в центр выдвигается трагикомическое осмысление утопических представлений о бытийных основах всего сущего, сбитости аксиологических ориентиров, что ассоциируется с содержанием «Притчи о Правде и Лжи» (1977) и проявляется в призме условно-фантастической, скрыто пародийной в отношении официозного дискурса сюжетной ситуации насильственного построения рая в аду: Переворот в мозгах из края в край, В пространстве – масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Для собственных грядущих поколений. <…> Тем временем в Аду сам Вельзевул Потребовал военного парада, – Влез на трибуну, плакал и загнул: «Рай, только рай – спасение для Ада!». «Вывихнутая», изображенная в зеркале деформированного лживой идеологией мировосприятия картина бытия остается в данном произведении ареной извечного противостояния Божественных и дьявольских сил, однако здесь явлено, насколько современное сознание утратило способность их ясного различения. Потому и Бог художественно выведен тут то в облике Инквизитора («А Он сказал: «Мне наплевать на тьму!» – // И заявил, что многих расстреляет…» ), то как страждущий за творящуюся неправду Христос, который из лицемерного, напоминающего мотивы «Райских яблок» рая спускается на землю и превращается в нищего, юродивого: И Он спустился. Кто он? Где живет?.. Но как-то раз узрели прихожане – На паперти у церкви нищий пьет. «Я Бог, – кричит, – даешь на пропитанье!»… Событие, запечатленное в приведенных строках, обретает символические черты и оказывается в высшей степени созвучным древним народным чаяниям воздвигнуть «Царство Духа» в земном мире. Рисуемый в произведении образ Христа, который появился на земле неузнанным, имеет глубокие корни в фольклорной культуре – в частности, в сюжетах, получивших распространение в народных духовных стихах, таких, к примеру, как «Встреча инока со Христом» и др.311 Для лирического героя, занимающего 311 Стихи духовные. М.,1991. С.263. 274 позицию взволнованного «созерцателя» жизни трансцендентного и земного миров, это событие знаменует как возможность личного приближения ко Христу, пусть и воспринятому пока в столь «очеловеченном» качестве, так и подспудную причастность древнейшим пластам народного религиозного опыта. В антиутопической дилогии «Часов, минут, секунд – нули…» и «И пробил час – и день возник…» (до 1978) в изображении предпринятого человечеством «проекта» по отмене смерти (здесь прозвучали, возможно, невольные отголоски идей Н.Федорова) и построению земного рая, ассоциирующегося с перспективой «безнаказной жизни», обнаруживается полная утеря современной душой внутреннего знания о рае и аде, о смысле данной оппозиции в свете проблемы духовного самоопределения личности: «Вход в рай забили впопыхах, // Ворота ада – на засове…». «Казенный», намеренно овнешненный стиль изображения подобных деяний подчеркивает их подчиненность духу советской коммунистической утопии о «празднике всей земли», наступление которого «согласовано в верхах». Показательно, что кульминацией этого развивающегося в русле «фантастического реализма» сюжета оказывается сбой установленного сверху «контроля» над жизнью и смертью, вызванный непредвиденной смертью персонажа – «от любви… на верхней ноте». Стихия подлинного чувства, мир душевных переживаний и здесь оказываются у Высоцкого сильнее жесткого духа тоталитарной регламентации: Недоглядели, хоть реви, – Он взял да умер от любви – На взлете умер он, на верхней ноте! Мироощущение лирического «я» поэта-певца все время балансирует на грани мерцающей надежды на близость ко Христу и отчаянного видения себя «на сгибе бытия, на полдороге к бездне». В «Истории болезни» (1976) это отчаяние в соединении с напряженной рефлексией порождает разъедающее душу героя сомнение в разумности Божественного акта сотворения мира и человека, чувствование им личной причастности «истории страны – истории болезни» и как итог – трагичнейшее обобщение о своем времени: Вы огорчаться не должны – Для нас покой полезней, – Ведь вся истории страны – История болезни. Имеющие в поэзии Высоцкого глубокий духовный смысл раздумья о Боге и вечной жизни облекаются порой в притчевую, иносказательную форму. Например, в «Марше шахтеров» (1970-1971), связанном внешне лишь с «профессиональной» тематикой, 275 приобщение персонажей к недрам «благословенной Земли» и противостояние темным силам приобретают метафизическое значение: «Мы топливо отнимем у чертей – // Свои котлы топить им будет нечем!». Притчевое начало, глубоко отражающее путь героя Высоцкого к духовному восхождению, наиболее ярко проявилось в таких стихотворениях, как «Баллада о бане» (1971) и «Купола» (1975). «Баллада о бане» построена на органичном сопряжении конкретной бытовой ситуации и раскрытия глубочайшей душевной работы, совершающейся в герое. В его лирическом монологе отчаянное осознание греховного «смрада» души перерастает во взволнованный поиск райской чистоты и благодатного состояния: «Нужно выпороть веником душу, // Нужно выпарить смрад из нее». Особый смысл приобретает в этой связи и сакральная символика, выстроенная вокруг образа «живительных вод», который ассоциируется со святой водой, с просветляющим дух личности Святым крещением: «Загоняй по коленья в парную // И крещенье принять убеди…». Выражением катарсического преображения внутреннего мира становятся благоговейные думы понимающего свое недостоинство героя о рае, образ которого создается не прямо, но посредством иносказаний, где предметное значение слов обогащается символическим смыслом: Здесь нет голых – стесняться не надо, Что кривая рука да нога. Здесь – подобие райского сада, – Пропуск тем, кто раздет донага. В стихотворении «Купола» жажда лирического «я» очиститься от греховной скверны, «грязи жирной да ржавой» проецируется на драматичную судьбу «опухшей» от духовного сна России. На уровне звуковой организации стихотворения превозмогание косности существования ради встречи с Богом и раем выразилось в проходящем через весь текст «противопоставлении» обилию глухих и взрывных согласных – «певуче-сонорной, насквозь просвеченной гласными темы золотых куполов, колоколов и колоколен»312. Здесь запечатлелась сокровенная тяга русской души ощутить единство земного «горько-кисло-сладкого» бытия Родины и райского, Господнего мира, которому эта земля небезразлична. Неслучайно образ небесной стихии, заповедного райского пространства получает вещественное воплощение («В синем небе, колокольнями проколотом»), а пробуждающаяся от сна страна, ее обращенные ко Всевышнему купола образно ассоциируются с больной, но сохраняющей веру в исцеление душой лирического «я»: 312 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Указ соч. С.156. 276 Душу, сбитую утратами да тратами… Залатаю золотыми я заплатами – Чтобы чаще Господь замечал! Тернистым и несвободным от тяжелейших срывов, обусловленных как личностными факторами, так и духом времени, был путь лирического героя поэзии Высоцкого ко встрече с Богом и раем. Не имевший сам постоянного религиозного опыта, поэт в то же время многими исповедальными, балладными песнями, обладающими мощным потенциалом образно-символических, притчевых обобщений, основываясь на силе творческого прозрения Высшего смысла индивидуального и общенационального бытия, – исподволь возвращал своим соотечественникам понимание весомости тех духовных вопросов, над которыми бились, страдали персонажи его остро драматичных произведений. В одном из итоговых стихотворений 1980 г. («И снизу лед и сверху – маюсь между…») герой нечеловеческим усилием воли пробивает тот «лед сверху», который препятствовал духовному росту. Мудро осознавая подвластность своей судьбы Высшей воле, он предощущает бытийную значительность грядущей по истечении земных сроков встречи с Творцом: Мне меньше полувека – сорок с лишним, – Я жив, тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, Мне есть чем оправдаться перед Ним. 277 2. Грани исторического опыта. Военные баллады Высоцкого Военная тема получила многоплановое воплощение в бардовской поэзии. Став художественным «нервом» авторской песни, в произведениях Б.Окуджавы и В.Высоцкого, А.Галича и М.Анчарова она высветила путь к осмыслению истории и современности, к самопознанию песенных персонажей и лирического «я». В своих интервью Высоцкий неоднократно указывал на песни о войне как на важнейший пласт своего творчества, подчеркивая глубинную связь этой темы с опытом театральной работы на Таганке: одним из своих любимых поэт называл спектакль «Павшие и живые». Размышляя о подобных песнях, бард отметил двуединство их широкого общенародного содержания («война всех коснулась»313) и пристального вглядывания в экзистенцию личности, оказавшейся в «пограничной» ситуации, на грани катастрофы: «Я стараюсь для своих песен выбирать людей, находящихся в момент риска, которые в каждую следующую секунду могут заглянуть в лицо смерти… И чаще всего я нахожу таких героев в тех военных временах, в тех сюжетах».314 При выявленном исследователями жанровом многообразии военной лирики Высоцкого (баллада, новелла, рассказ, эпизод и т.д.315) именно баллада с присущей ей напряженно-трагедийной сюжетной динамикой становится здесь доминантой, эволюционируя и прирастая элементами иных жанровых образований. Вектор эволюции военных баллад Высоцкого прочерчивается уже в его ранних песнях, близких по тематике и стилю «блатному» фольклору.316 Генетическая взаимосвязь «блатных» и военных баллад привносит в последние социальную остроту, колорит динамичного разговорного слова, заключающего в себе трагедийный исторический опыт военных и послевоенных лет. Так, по своему мироощущению и социальному статусу рассказчик в песне «Ленинградская блокада» (1961) «вбирает и соединяет в себе героев «дворовых» и военных песен»,317 его слово парадоксальным образом заряжено и исповедальным лиризмом, и неприкрытой иронией в адрес «граждан смелых», что «в эвакуации читали информации // И слушали по радио «От Совинформбюро»». Композиционная и ритмическая динамика, контрастный эмоциональный фон обусловлены здесь чередованием «эпичного» по степени детализации 313 Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актер. М., 1989. С.120. Там же. С.121. 315 Зайцев В.А. Окуджава. Высоцкий. Галич. Поэтика, жанры, традиции. М., 2003. С.123. 316 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: мир и слово. Уфа, 2001. С.111-115. 317 Зайцев В.А. Окуджава. Высоцкий. Галич. Поэтика, жанры, традиции. С.94. 314 278 повествования о блокаде – и рефренов, представляющих прямое, саркастическое обращение к «гражданам с повязкою». Изначально героический план изображения блокадного лихолетья обогащается нотами острой социально-критической рефлексии: Я вырос в ленинградскую блокаду, Но я тогда не пил и не гулял. Я видел, как горят огнем Бадаевские склады, В очередях за хлебушком стоял. Граждане смелые, а что ж тогда вы делали, Когда наш город счет не вел смертям? Ели хлеб с икоркою, – а я считал махоркою Окурок с-под платформы черт-те с чем напополам. Счастливо избегая официозной фальши в изображении войны, поэт-певец шел к освоению сущности этой темы от осмысления внешне «периферийных», оборотных сторон военной действительности, не несущих в себе очевидной героики. В песне «Про Сережку Фомина» (1964) повествование развертывается на жанровом уровне «анекдота», житейской истории, приобретающей, однако, широкий социальноисторический смысл и охватывающей значительную временную дистанцию – от кануна войны до послевоенных лет. Драматизированная повествовательная структура произведения включает различные голоса времени – и «остросюжетный» рассказ центрального героя, и речь Молотова о начале войны, и разговор в военкомате. Величественное слово о войне соединяется с горько-сатирическим изображением укрепившейся в общественной жизни неправды: … Но наконец закончилась война – С плеч сбросили мы словно тонны груза, – Встречаю я Сережку Фомина – А он герой Советского Союза… В неподцензурной по духу авторской песне закономерным становится и обращение к судьбам «штрафных батальонов» на фронте – тема, пронзительно прозвучавшая уже в песне «Цыган-Маша» Михаила Анчарова (1959), чья поэзия была одним из важных творческих ориентиров для молодого Высоцкого.318 В песне Высоцкого «Штрафные батальоны» (1964) впервые в творчестве барда на авансцену выступает непосредственно «драматургия» балладного действия, заключенного в предельно сжатые пространственно-временные рамки и знаменующего крайнюю степень экзистенциального напряжения героев-«штрафников», чьи вызов судьбе, игра со смертью выражены в голосе собирательного, «ролевого» повествователя. Песенный 318 рассказ обретает психологическую убедительность благодаря его Кулагин А.В. Высоцкий слушает Анчарова // Кулагин А.В. Высоцкий и другие: Сб. ст. М., 2002.С.52-64. 279 пропитанности «солью» разговорного языка («Гуляй, рванина, от рубля и выше…»), сквозным антитезам, служащим для обозначения «пограничного» положения персонажей («кому – до ордена, а большинству – до «вышки»). Эффект непосредственной вовлеченности повествователя и слушателя в ход событий достигается за счет повторяющейся фиксации времени и точных обстоятельств действия в «сценических» ремарках: «Вот шесть ноль-ноль – и вот сейчас обстрел…». Уже в военных балладах Высоцкого середины 1960-х гг. намечаются пути символизации, мифопоэтического расширения их образного мира. В «Братских могилах» (1964) это совмещение пространственно-временных планов («Здесь раньше вставала земля на дыбы, // А нынче – гранитные плиты»), постепенное перемещение балладного действия в сферу душевной жизни героя, национальной исторической памяти. Ослабление внешнего сюжетного движения «компенсируется» усилением сквозных образов первостихий бытия – земли, огня, – которые в позднейших песнях поэта станут основой мифопоэтических обобщений: А в Вечном огне – видишь вспыхнувший танк, Горящие русские хаты, Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, Горящее сердце солдата. Перспективы усложнения композиционного рисунка и жанровых параметров военных баллад намечаются и в известной «Песне о звездах» (1964). Певец избрал здесь оригинальный повествовательный ракурс – исповеди о дорогах войны, о судьбе в целом, которая звучит уже из «посмертья»: «С неба свалилась шальная звезда – // Прямо под сердце…». Действие разворачивается и в эмпирическом пространстве поля боя, и в сознании напряженно осмысляющего свою судьбу безвестного погибшего солдата. Его живое слово отражает индивидуальный опыт миропереживания и ориентировано на простые ценности мирной жизни («Я бы Звезду эту сыну отдал»), на целостное восприятие природного бытия: «Звезд этих в небе – как рыбы в прудах…». Смысловой «нерв» песни таится в противопоставлении этого слова безликим формулам официальных приказов, вследствие чего ролевое повествование «маленького» участника войны наполняется сатирическим нотами: Нам говорили: «Нужна высота!» И «Не жалеть патроны!»… Вон покатилась вторая звезда – Вам на погоны… Как и в последующих военных балладах, интенсивное действие, ядром которого стало катастрофическое событие, сопряжено в песне и с развитием символического образного 280 ряда: «звездная» метафорика сводит воедино вещественно-конкретное и бесконечное, напоминая как о героической, так и о постыдной стороне фронтовой реальности; воплощая собой и благодатную надежду героя на спасительное небесное начало, и его роковую встречу с «шальной звездой» судьбы… Продуктивной тенденцией в жанровом развитии военной баллады Высоцкого становится ее обогащение элементами поэтической «новеллы», основанной на изображении детально прорисованного эпизода, – как в песнях «Высота» (1965), «Сыновья уходят в бой» (1969), «Разведка боем» (1970) и др. В первой из них новеллистическое начало проступает в пульсирующем ритме сюжетного изображения эпизода решающего сражения, в редукции экспозиционной части и преобладании отрывистых и энергичных фраз, отдельными штрихами запечатлевающих кульминационные сцены: «Вцепились они в высоту как в свое. // Огонь минометный, шквальный…». Песенная новелла Высоцкого характеризуется сознательным опущением промежуточных сюжетных звеньев, концентрацией трагедийного мироощущения, в глубинах которого зреет философское обобщение: «Но, видно, уж точно – все судьбыпути // На этой высотке скрестились…». Выражая грани общенационального опыта жизни на войне, эта новелла вбирает в себя элементы фольклорной образности и сюжетики: «Семь раз занимали мы ту высоту – // Семь раз мы ее оставляли». Поэт-певец использует многообразные ракурсы в передаче самой динамики эпизода боя, что создает эффект непосредственного авторского присутствия в изображаемой сцене. В песне «Сыновья уходят в бой» этот эпизод раскрывается как во взгляде смертельно раненного солдата («Я падаю, грудью хватая свинец»), так и в имеющем архетипический смысл образе отцов и матерей, провожающих детей на войну: «Мы не успели оглянуться – // А сыновья уходят в бой!». Историческая реальность всего происходящего наполняется – благодаря широким образным обобщениям – онтологическим звучанием, а противостояние врагу, подкрепляемое мистическим единением с землей, совершается во имя спасения мироздания от гибели: «А я для того свой покинул окоп, // Чтоб не было вовсе потопа». Сам кульминационный эпизод войны порой облекается у Высоцкого и в композиционную форму обращения героя-повествователя к близким сослуживцам – как, например, в «Военной песне» (1966), где «объективное» повествование синтезируется с прямой речью рассказчика и того собирательного воинского множества, частью которого он себя ощущает. Иногда сам эпизод войны может раскрываться косвенно ради 281 выдвижения в фокус песенного рассказа не яркой героики балладного события, а его ужасающей оборотной стороны: С кем в другой раз ползти? Где Борисов? Где Леонов? И парнишка затих Из второго батальона… («Разведка боем») Присущие песенной поэзии Высоцкого разнообразие персонажной сферы и связанное с этим «многоголосье»319 оказались характерными и для военных баллад. Различные диалоговые формы нередко образуют здесь кульминацию в развитии фронтового эпизода. Так, в песне «Он не вернулся из боя» (1969) происходит заметное углубление психологической перспективы. Не эффектный эпизод боя, но катастрофическое мироощущение человека на фронте, сквозное соположение беспечного повседневного существования и пропасти небытия, разверзшейся в ходе войны, – выдвигаются здесь в центр и образуют новый ракурс самопознания лирического «я»: Мне теперь не понять, кто же прав был из нас В наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас – Когда он не вернулся из боя… Прерванный диалог («Друг, оставь покурить!» – а в ответ – тишина…»), становясь кульминацией психологического повествования, переносит центр тяжести балладного действия в область душевной жизни героя, проецирующего случившееся на собственную судьбу: «…только кажется мне – // Это я не вернулся из боя». Выстраданный индивидуальный опыт расширяет здесь сферу художественной реальности, простирающейся теперь за грань эмпирического существования («Наши мертвые нас не оставят в беде»); углубляет привычное восприятие природного космоса, который становится противовесом потрясенной действительности: «Тот же лес, тот же воздух и та же вода… // Только он не вернулся из боя». Ту же форму прерванного диалога Высоцкий применит и в песне «О моем старшине» (1971), где трагизм фронтовой повседневности предстанет в подвижной диалогической речевой ткани, в мозаике эпизодов бытового общения, обретающего не меньшую психологическую значимость, чем непосредственное изображение батальных картин: И только раз, когда я встал Во весь свой рост, он мне сказал: «Ложись!.. – и дальше пару слов без падежей. – 319 Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.Высоцкого. Курск, 1995. С.109. 282 К чему две дырки в голове!». И вдруг спросил: «А что в Москве, Неужто вправду есть дома в пять этажей?..». Над нами – шквал, – он застонал – И в нем осколок остывал, – И на вопрос его ответить я не смог… «Новеллистичные» по своей сюжетно-композиционной структуре военные баллады Высоцкого нередко ведут к масштабным обобщениям о судьбе как самого лирического или «ролевого» героя, так и целого поколения. Песня «Тот, который не стрелял» (1972) выходит по своему содержанию далеко за пределы единичного экстраординарного военного эпизода, приобретая контуры философской баллады о таинственном скрещении и взаимозависимости жизненных путей на войне, о ценности личностного, противостоящего «общему» и «коллективному», выбора в момент крайнего испытания: «Никто поделать ничего не смог. // Нет – смог один, который не стрелял…». А в эпически многомерной по охвату общенародной и индивидуальных судеб «Балладе о детстве» (1975) именно внешне разрозненные эпизоды военных лет становятся «зернами» целостной балладной «автобиографии», вместившей калейдоскоп характерных для военной и послевоенной эпохи человеческих портретов: …Не боялась сирены соседка, И привыкла к ней мать понемногу, И плевал я – здоровый трехлетка – На воздушную эту тревогу! Да не все то, что сверху, – от Бога, – И народ «зажигалки» тушил; И как малая фронту подмога – Мой песок и дырявый кувшин… Эпическое расширение предмета изображения в военных балладах Высоцкого стимулировало процесс циклообразования в рамках этого жанра. В «ролевой» дилогии «Две песни об одном воздушном бое» (1968) батальный эпизод выведен в восприятии и самого летчика, и одушевленного самолета-истребителя. Это позволяет представить напряженную «драматургию» сражения в различных ракурсах: одновременно в предметно-бытовой детализации эпизода поединка «на пике» и в онтологическом аспекте. Герой и его боевая машина, с равной степенью напряженности ощущают себя на грани небытия в «последнем бою» со смертью, временем, с ограниченностью своего материального существа. Запечатлевая динамику боя каждый со своей точки зрения, что придает балладному действию стереоскопическую выпуклость и психологичность, оба повествователя совпадают в прозрении мистического смысла совершающегося события. Если у героя первой части дилогии в переживании горя 283 крепнет потребность в обращении к Богу, во взыскании райской благодати и вечности («Мы Бога попросим: «Впишите нас с другом // В какой-нибудь ангельский полк!»»), то «самолет-истребитель», ощущая небо своей «обителью», угадывает в трагическом усилии «последнего боя» путь к гармонизации всего сущего: «А кажется – стабилизатор поет: // «Мир вашему дому!»». Дилогия ярко демонстрирует единство многообразных жанровоповествовательных форм военной поэзии Высоцкого: «эпического» рассказа о бое, проникновенной лирической исповеди, а также проявляющихся в многочисленных обращениях к фронтовому товарищу, к Богу диалоговых элементов. В позднейшей поэтической «дорожной» трилогии 1973 г. («Из дорожного дневника», «Солнечные пятна, или пятна на солнце», «Дороги… дороги…»), созданной под впечатлением от автомобильной поездки с М.Влади во Францию, в призме автобиографических впечатлений, пейзажных лейтмотивов разворачивается объемное эпическое полотно минувшей войны. Погружение в стихию родовой и национальной памяти актуализирует работу воображения лирического героя, в пространстве которого вырисовывается персонажный мир: и «глаза из бинтов», «заглянувшие в кабину», и «сержант пехоты», «восемь дней как позавтракавший в Минске», и стоящие под Варшавой танкисты… Балладная сюжетная динамика, представая в ретроспективном изображении, сращивается с ритмом мерного эпического повествования о болезненных, замолчанных эпизодах войны: Военный эпизод – давно преданье, В историю ушел, порос быльем – Но не забыто это опозданье, Коль скоро мы заспорили о нем. Почему же медлили Наши корпуса? Почему обедали Эти два часа? «Внутреннее» действие в произведении, основанное на взаимопроникновении личностной экзистенции лирического «я» и исторического опыта, проступает в овеществленных образах времени («Я впустил это время, замешенное на крови») и памяти: «Память вдруг разрытая – // Неживой укор…». Экспрессивные пейзажные образы, знаменующие погружение в глубины памяти, которая хранится природным миром, раздвигают горизонты мироощущения лирического «я», вводя его в русло всеобщего, народного переживания фронтовых событий: Здесь, на трассе прямой, Мне, не знавшему пуль, показалось, Что и я где-то здесь 284 довоевывал невдалеке, – Потому для меня и шоссе словно штык заострялось, И лохмотия свастик болтались на этом штыке. Значимым вектором эволюции военной баллады Высоцкого стало и ее тяготение к балладе философской, а также к основанной на архетипических образах притче («Еще не вечер», «Песня о Земле», «Мы вращаем Землю» и др.). Вселенское расширение масштаба балладного действия происходит в «Песне о Земле» (1969), где мифопоэтический образ сожженной, но неподавленной Земли символизирует потаенное бытие природного мира, отражая народные беды военного лихолетья. Диалогическая композиция песни выстраивается вокруг имеющего философский смысл спора о мистической жизни Земли, о ее бессмертии и устоянии перед лицом потрясений: «Кто сказал, что Земля умерла? // Нет, она затаилась на время!». Решающее значение приобретает в этом споре постижение родства страданий Земли с надрывом человеческой души, души поэта-певца: «Звенит она, стоны глуша, // Изо все своих ран, из отдушин». Болезненная острота памяти о войне художественно выразилась в оксюморонности словесных образов: «Обнаженные нервы Земли // Неземное страдание знают». Авторская мысль тяготеет здесь к сплавлению временного и вечного: сквозь «разрезы», «траншеи», «воронки» проступают субстанциальные основы жизнепорождающей стихии материнства, тайной музыкальной гармонии мироздания. Одушевленный образ Земли становится активной действующей силой военного похода и в песне «Мы вращаем Землю» (1972). Элементы маршевой ритмики передают здесь напряженную сюжетную динамику баллады, запечатлевшей не только реальноисторический, но и мистический смысл пешего продвижения обороняющих свою Землю войск. Свойственная балладам Высоцкого экстраординарность событийного ряда, организующего пространство и время в произведении,320 проявилась в том, что хронотоп стихотворения отчасти родственен архаическому восприятию природы: все события войны «укладываются» как бы в один «былинный день»,321 заключающий полноту природного цикла. В потрясенном войной сознании воспринимающего «я» смещаются привычные координаты картины мира: «Солнце отправилось вспять // И едва не зашло на востоке». Расширение пределов личностной экзистенции, всеобщий масштаб коллективного переживания («Шар земной я вращаю локтями») обостряют ощущение связи движения «оси земной» с этапами балладного действия. Венцом военного подвига 320 321 Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.Высоцкого. С.59. Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: мир и слово. С.114. 285 становится здесь восстановление нарушенных ритмов природного бытия, привычного круговращения Земли: «Но на запад, на запад ползет батальон, // Чтобы солнце взошло на востоке». На первый план выдвигается пронзительное ощущение родства внутренней жизни лирического «мы» с духом Земли – в ее как вселенской ипостаси, так и в единичных реалиях: Животом – по грязи, дышим смрадом болот, Но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, Потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги – на месте ли, нет ли, – Как на свадьбе росу пригубя, Землю тянем зубами за стебли – На себя! От себя! Таким образом, военная баллада в творчестве В.Высоцкого оказывается открытым жанровым образованием, вступающим в активное взаимодействие и с балладой философской, и с лирической исповедью, и с поэтическими «новеллами». Передавая трагедийный накал частных эпизодов войны, она обнаруживает в себе значительный потенциал эпохальных, бытийных, мифопоэтических обобщений, становясь одним из ключевых путей творческого самовыражения поэта-певца в его причастности к общенародному историческому опыту. 286 3. В диалоге с классикой и современностью а) «О в р е м е н и и о с е б е». Л и р и ч е с к и е «а в т о б и о г р а ф и и» В. М а я к о в с к о г о и В. В ы с о ц к о г о Существенная активизация интереса художественного сознания к личности В.Маяковского, его поэзии и трагической судьбе пришлась на конец 1950-х и 1960-е гг. и совпала со временем становления поэтического голоса В.Высоцкого. Социально и культурно значимыми после открытия памятника «на Маяковской площади в Москве» (А.Городницкий) в 1958 г. становятся поэтические встречи «шестидесятников» «на Маяке»,322 а в 1967 г. любимовская Таганка предлагает сценическую интерпретацию внутреннего мира и творческого наследия Маяковского («Послушайте!»). Сыгравший в этом спектакле одну из ключевых ролей («Я там играю сердитого Маяковского») Высоцкий выскажет впоследствии свое, далеко не официозное, понимание масштаба трагизма личности поэта. А М.В.Розанова, которой, вместе с А.Д.Синявским, начинающий бард был обязан глубоким знанием культуры Серебряного века, так ответила на вопрос о возможном влиянии этих литературных штудий на формирование «отношений между двумя Владимирами»: «Может быть, передали Высоцкому долю той непочтительности, воплощением которой для нас когда-то был Маяковский».323 Исследователями был намечен целый ряд перспективных линий сопоставления двух крупнейших поэтов XX в. – на уровне их судеб, сквозных мотивов поэзии, особого типа творческого дарования, который был обусловлен синтезом словесного и исполнительского искусств и связанной с этим последним повышенной «интонационной энергетикой стиха».324 Неосознанно предвосхищая дальнейший расцвет авторской песни, 322 «Самые сильные творческие импульсы «шестидесятники» получали от Маяковского: они извлекли из наследия этого официально мумифицированного и разобранного на лозунги «государственного поэта» то, что оказалось в высшей степени созвучно их собственному мировосприятию – его гражданственность, ту гражданственность, которая личному придает значение общего, а общее переживает как личное» (Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Лирический «бум» и поэзия «шестидесятников» // Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: В 3-х кн. Кн.1: Литература «Оттепели» (1953 – 1968): Учебное пособие. М., 2001.С.81). 323 Цит. по: Новиков Вл.И. Владимир Маяковский и Владимир Высоцкий // Знамя. 1993. №7. С.200. 324 Там же. С.204. 287 Маяковский писал в автобиографии «Я сам»: «Продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю…».325 Одним из существенных и не разработанных направлений данного сопоставления является жанровый уровень анализа. Весомым для Маяковского и Высоцкого стал жанр лирической «автобиографии», запечатлевший переплетение интимно-личностного и эпохального. Ведь творчество каждого из них, ставшее в определенном смысле наиболее звучным голосом своего времени, пришлось на эпохи кардинальных исторических сдвигов и изломов национального пути – «весомых, грубых, зримых» в изображении Маяковского и неумолимо приближающихся вопреки анабиозу брежневских десятилетий – в случае с песнями Высоцкого. Если у Маяковского лирическая «автобиография» особенно заметно откристаллизовалась в его поэмном творчестве, то в песнях Высоцкого ее контуры прочерчивались в напряженно-трагедийной динамике баллад. Заметным воплощением жанра «художественной автобиографии»326 стала в творчестве Маяковского поэма «Люблю» (1922). Композиция основана здесь на последовательном осмыслении этапов жизненного пути лирического «я» («Мальчишкой», «Юношей», «Мой университет», «Взрослое» и др.). Его судьба, впитавшая, как и в «Балладе о детстве» Высоцкого, дух эпохи исторических катаклизмов, радикально противопоставлена всему тому, что «обыкновенно так»: «А я обучался азбуке с вывесок, // листая страницы железа и жести». Через эту противопоставленность острее раскрывается тяжелый опыт личного и социального одиночества героя, которому «одни водокачки были собеседниками». У Маяковского значительно сильнее, по сравнению с балладами Высоцкого, выразилось неприятие обыденности, именно поэтому лирическое самовыражение героя приобретает часто резко сатирическую окрашенность. Художественный автобиографизм сопряжен здесь с новым опытом восприятия пульса исторического времени не по «пропыленному вздору» учебников, а сквозь призму личностной экзистенции героя, «боками учившего географию». Важно, что лирические «автобиографии» Маяковского и Высоцкого рождались на почве московского хронотопа и оказывались сопричастными «столиц сердцебиению дикому». Героя поэмы «Люблю» «Москва душила в объятьях // кольцом своих бесконечных Садовых», в поэме «Хорошо!» (1927) его путь соизмерим с «трехверстной Пресней», а в песнях Высоцкого – это Большой Каретный, «система коридорная» московских коммуналок… 325 Маяковский В.В. Сочинения в двух томах. М.,1987. Т.1.С.40. Далее произведения В.Маяковского цитируются по этому изданию. 326 Кормилов С.И., Искржицкая И.Ю. Владимир Маяковский. М.,1998. («Перечитывая классику»). С.97. 288 История душевного роста героя поэмы «Люблю» в непосредственном контакте с историческим временем заключает в себе, как впоследствии и в песенных «автобиографиях» Высоцкого, психологическую коллизию прорыва лирического «я» с «сердцем почти что снаружи», с «голым нервом» души сквозь давящую несвободу времени к бытийным ценностям. У героя Маяковского как бы в противовес «швырянию в московские тюрьмы», «Бутыркам» разгорается «громада любви» к жизни со всеми ее «изнаночными» сторонами. Неслучайно эта лирическая «автобиография», ставшая в своем роде «энциклопедическим» обобщением личностного бытия на стыке веков, увенчивается в заключительных главках и в «Выводе» мотивом возвращения к возлюбленной, проникновенной любовной исповедью: Подъемля торжественно стих строкоперстый, клянусь – люблю неизменно и верно! В поэме «Хорошо!» подобное сращение индивидуально-биографического и исторического времени, что «гудит телеграфной струной», становится предметом напряженной рефлексии: Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем… Обширное историческое полотно, вместившее революционный Петроград, ввергнутый в хаос Гражданской войны Крым, уравновешено в архитектонике поэмы с автобиографичными бытовыми эпизодами, передающими «сплошную лихорадку буден». На символичный эпизод встречи с Блоком – на фоне «горящих костров» революции – накладываются через несколько главок цепочка «личных ассоциаций, сквозь которые лирический герой воспринимает мир»,327 серия бытовых сцен, доподлинно рисующих быт и бытие поэта, «варящегося» в «каменном котле» современности: Двенадцать квадратных аршин жилья. Четверо в помещении – Лиля, Ося, я и собака Щеник. 327 Пицкель Ф.Н. Маяковский: художественное постижение мира. М., 1979.С.197. 289 В скученном пространстве послереволюционной жизни со множеством бытовых лишений («к любимой в гости две морковинки несу», «в санях полено везу» и др.) в душе героя крепнет мощь личностного устояния перед историческими потрясениями: «Но только в этой зиме // понятной стала мне теплота любовей». Силу для такого сопротивления герой Маяковского черпает в утопической вере в грядущую вселенскую гармонию, которая навсегда сплавит всемирно-историческое и индивидуальное бытие, а потому автобиографизм разрастается к финалу поэмы до масштабов постижения вечности: Лет до ста расти нам без старости. Год от года расти нашей бодрости. Славьте, молот и стих, землю молодости. Если сюжетно-композиционная динамика рассмотренных лирических «автобиографий» Маяковского была обусловлена устремлением героя ко все большему вчувствованию в утопический идеал абсолютной гармонии в обновленном революцией мире, то лирический герой песен Высоцкого совершает обратное движение. Он проделывает путь мучительного освобождения от утопического бремени века, «миражей», пленивших современное сознание. В стихотворении «Я никогда не верил в миражи…» (1979 или 1980) лирическая «автобиография» перерастает, как и в произведениях Маяковского, в емкое изображение эпохи, в имеющий блоковские «обертоны» образ «страшных лет России». Но, в отличие от произведений Маяковского, 328 направленность, эта «автобиография» обретает антиутопическую становясь выстраданным диагнозом времени: «И нас хотя расстрелы не косили, // Но жили мы поднять не смея глаз». Горечью несбывшихся надежд целых поколений проникнуто здесь профетическое открытие правды о собственном пути и судьбе всей нации: Но мы умели чувствовать опасность Задолго до начала холодов, С бесстыдством шлюхи приходила ясность – И души запирала на засов. 328 «Младший Владимир был, в отличие от старшего, антиутопистом и «никогда не верил в миражи»» (Кулагин А.В. Высоцкий и другие. Сб. статей. М., 2002.С.176). 290 Сквозной мотив прозрения как необходимого условия продолжения пути раскрывался у Высоцкого и через культурные ассоциации, как в стихотворении «Мой Гамлет» (1972), где важна антитеза двух типов миропонимания («шел спокойно» – «прозревал»), и в ракурсе мифопоэтических образов. Например, в песне «Две судьбы» (1976) герой, оказавшийся в тупике «гиблого места» и мучительно «впотьмах ищущий дорогу», платит страшную цену за прежнее иллюзорное существование во власти господствующих догматов: Жил я славно в первой трети Двадцать лет на белом свете – по учению, Жил безбедно и при деле, Плыл, куда глаза глядели, – по течению… В произведениях Маяковского и Высоцкого автобиографическая рефлексия становится не только «акцентированным средством самопознания»,329 но и путем раскрытия остро драматичной, далеко не парадной стороны бытия. Размышления об истоках биографического пути проступают уже в ранних стихахпеснях Высоцкого и отличаются пространственно-временной конкретностью. Это вросшие в хронотоп послевоенной Москвы песни «Большой Каретный» (1962), «В этом доме большом раньше пьянка была…» (начальное название – «Второй Большой Каретный», 1964), изображающие столь значимый для молодого поэта неформального дружеского и творческого общения, внутренне свободного опыт от клишированной стилистики советской современности. Автобиографический герой Высоцкого счастливо избежал того всеобъемлющего одиночества, которое разъедало душу лирического «я» поэмы «Люблю». Запомнившийся по молодым годам пространственный образ получает у Высоцкого расширительное, надвременное звучание, становясь одним из ориентиров дальнейшего пути: И все же, где б ты ни был, где ты ни бредешь, Нет-нет да по Каретному пройдешь. Подобно поэмам Маяковского, «автобиографические» баллады Высоцкого стали детализированной поэтической «энциклопедией» национальной судьбы в XX веке. С этой точки зрения в качестве типологической «параллели» к поэме «Люблю» может быть прочитана «Баллада о детстве» (1975). 329 Нежданова Н.К. Владимир Маяковский и Владимир Высоцкий // Нежданова Н.К. Современная русская поэзия: пути развития. Учебное пособие. Курган, 2000.С.15. 291 Если в поэме биографический путь ведется с детских лет лирического «я» («Мальчишкой»), то герой баллады Высоцкого, «час зачатья помнящий неточно», напряженно вглядывается, однако, в потаенные глубины генетической памяти, родового исторического опыта, порожденного как раз тем временем, у порога которого прервал свой путь Маяковский: В те времена укромные, Теперь – почти былинные, Когда срока огромные Брели в этапы длинные… Изначальными для двух поэтов становятся ощущение тотальной несвободы окружающей действительности и одновременно настоятельная потребность в ее преодолении: Их брали в ночь зачатия, А многих – даже ранее, – А вот живет же братия – Моя честна компания! Через автобиографические ассоциации, конкретику московского хронотопа, жестко подчиненного «системе коридорной», в песне Высоцкого проступает многоцветная, но в целом окрашенная в трагедийные тона мозаика времени. Нелегкое, эмоционально созвучное истории героя поэмы «Люблю», становление лирического «я» песни пришлось на военные и послевоенные годы, когда знание о «тюремных коридорах», мраке блатной среды «подвалов и полуподвалов» парадоксальнейшим образом сочеталось с духом нации, выстоявшей в войне и нашедшей силы «оклематься» и «отплакать»: …Я ушел от пеленок и сосок, Поживал – не забыт, не заброшен, И дразнили меня: «Недоносок», – Хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я: Пленных гонят – чего ж мы дрожим?! Возвращались отцы наши, братья По домам – по своим да чужим. Как и у Маяковского, главным «нервом» лирической «автобиографии» Высоцкого становится непосредственная, «лобовая» встреча героя с властно заявляющим о себе историческим временем. В этом столкновении намечается путь превозмогания груза катастроф силой духовной активности личности, что отразилось у Высоцкого в эмоционально разноплановом, но неизменно энергичном ритмико-мелодическом рисунке песни. При этом у Маяковского подобное преодоление все отчетливее вело к предчувствию грядущей мировой гармонии (пусть и в далеком «посмертье», как в поэме «Во весь голос»), в песнях же Высоцкого – 292 оно было важно для восстановления правды о духовном потенциале народа, о пройденном историческом пути. Если в поэмах «Люблю», «Хорошо!» «Во весь голос» художественная автобиография раскрывается почти исключительно в русле лирического монолога, то в «Балладе о детстве» «персонажная» сфера играет более активную роль. Наделенные самостоятельными «голосами», герои становятся здесь «соавторами» не только исторической трагедии, но и личностной «биографии» лирического «я»: И било солнце в три луча, Сквозь дыры крыш просеяно, На Евдоким Кирилыча И Гисю Моисеевну. Она ему: «Как сыновья?» «Да без вести пропавшие! Эх, Гиська, мы одна семья – Вы тоже пострадавшие! Вы тоже – пострадавшие, А значит – обрусевшие: Мои – без вести павшие, Твои – безвинно севшие»… Подобное «многоголосье» раздвигало рамки лирической «автобиографии» поэта-певца, выводя ее за пределы земных сроков только лишь одного человека. Оно вело в поэзии Высоцкого и к истончению граней между собственно «автобиографией» и исповедальными монологами многочисленных «ролевых» героев – фронтовиков, зеков, моряков, шахтеров и др. Важное типологическое схождение в реализации жанра лирической «автобиографии» Маяковским и Высоцким проявилось не только в социально-исторической определенности, но и в часто преобладающем онтологическом характере этих «биографий», выходящих за рамки земной эмпирики. В поэмах Маяковского «Человек» (1916-1917) и «Во весь голос» (1929-1930) лирическая биография героя, предстающая в призме мифопоэтических обобщений, основана на преодолении несвободы «земного загона» ради прорыва к космическим, надвременным масштабам бытия. Характерны в этой связи названия главок поэмы «Человек», фиксирующие этапы формирования и жизни лирического «я», явно ассоциирующиеся с судьбой евангельского Христа: «Рождество Маяковского», «Жизнь Маяковского», «Вознесение Маяковского», «Возвращение Маяковского», «Маяковский векам»… Возвращение героя поэмы «Человек» на землю отчасти напоминает коллизии 293 «Райских яблок» Высоцкого и привносит его в биографический путь дыхание вечности, жар «несгорающего костра немыслимой любви» к жизни: Гремят на мне наручники, любви тысячелетия. В поэме же «Во весь голос» на первый план выступает не религиозное антропоцентрическое прочтение биографии героя, но его творческая исповедь, рассказ о своей эпохе, объединившиеся в отчаянном воззвании в вечность из «наших дней потемок», «сегодняшнего окаменевшего г…». Как и в стихотворениях Высоцкого «Памятник» (1973), «И снизу лед и сверху…» (1980), герой поэмы Маяковского, которому «наплевать на бронзы многопудье … наплевать на мраморную слизь», утверждает непрерывность своего пути, возвращаясь из «посмертья» в живой плоти: Я шагну через лирические томики, как живой с живыми говоря. Эта направленность пути вырисовывается и в «Памятнике» Высоцкого.330 Отталкиваясь от спародированной известной «маяковской» цитаты («И считал я, что мне не грозило // Оказаться всех мертвых мертвей»), герой Высоцкого, внутренне терзаемый, как и лирическое «я» Маяковского, болью неполной творческой осуществленности в земной жизни, неизрасходованных запасов душевных сил, бросает вызов вечности, «могильной скуке» загробной тьмы, из последних сил вырывается из объятий «крепко сбитого литого монумента» и диктата «хрестоматийного глянца». При этом если в поэме «Во весь голос» такое возвращение должно было осуществиться лишь спустя «громаду лет», «хребты веков», то в стихотворении Высоцкого персонаж уже «по прошествии года» силой «отчаяньем сорванного голоса» взрывает, как и герой «Юбилейного», «маску посмертную»: И, когда уже грохнулся наземь, Из разодранных рупоров все же Прохрипел я похоже: «Живой!». По-видимому, трагическая судьба Маяковского была для Высоцкого предметом внутренней, невысказанной рефлексии, косвенно проступившей в стихотворении «О 330 Зайцев В.А. «Памятник» Высоцкого и традиции русской поэзии // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. III. Т.2. / Сост. А.Е.Крылов, В.Ф.Щербакова. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.264-272; Сафарова Т.В. «Неужели такой я вам нужен после смерти?!» (Тема посмертного истолкования поэта в «Памятниках» Пушкина, Цветаевой и Высоцкого) // А.С.Пушкин. Эпоха, культура, творчество. Традиции и современность. Ч.1. Владивосток, 1999.С.171-177. 294 фатальных датах и цифрах» (1971), где выстроена целостная онтология земных путей поэтов, что «ходят пятками по лезвию ножа – // И режут в кровь свои босые души»: С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, – Вот и сейчас – как холодом подуло: Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль И Маяковский лег виском на дуло… В онтологическом плане биографические пути героев Маяковского и Высоцкого характеризуются максимальной, подчас надрывной, самоиспепеляющей интенсивностью проживаемого времени жизни, частым стремлением заглянуть за грань отпущенного судьбой земного срока, которое продиктовано пронзительным ощущением того, что «дожить не успел». Герою Высоцкого, видящему свою судьбу как роковой «бег иноходца», а себя самого «на сгибе бытия, на полдороге к бездне», ищущему на пределе «голого нерва» несуетный смысл всего сущего, – знакома свойственная лирическому «я» Маяковского самообнаженность в «громаде любви, громаде ненависти», «расстегнутом лифе души»: Враспашку – сердце почти что снаружи – себя открываю и солнцу и луже… Таким образом, многоплановый жанр художественной «автобиографии» в творчестве В.Маяковского и В.Высоцкого стал емким обобщением «о времени и о себе». В синтезе индивидуального и эпохального, «открытом диалоге с современниками, временем, миром»331 высветилась сердцевина личностного и творческого опыта бытия в XX веке, отягощенного грузом утопий и вместе с тем преображенного энергией превозмогания исторических катаклизмов перед лицом вечности. 331 Нежданова Н.К. Указ.соч. С.13. 295 б) В. Ш у к ш и н и В. В ы с о ц к и й : параллели художественных миров В.Шукшин и В.Высоцкий как художники сформировались и заявили о себе на рубеже 1950-х – первой половине 1960-х гг., в эпоху коренных сдвигов в общественном и культурном сознании, постепенного обретения утраченных духовных ориентиров. В этом смысле и «деревенская» проза, и авторская песня – на разных творческих путях – выразили единый культурный код времени, связанный с духом раскрепощения, взысканием истины о национальном характере, историческом опыте века и современности; с открытием новых художественных форм. Двух художников сближал несомненно «синтетический» тип творческой личности, который проявился у них в оригинальном симбиозе искусства словесного и искусства исполнительского. Будучи талантливейшими актерами, тонко чувствующими законы сцены, они по-своему воплотили драматургическое начало в произведениях: Шукшин – в рассказах, повестях и киноповестях, Высоцкий же – в своих как исповедальных, так и «ролевых» песнях; в песнях, созданных для кинофильмов. В исследованиях, посвященных поэтике прозы Шукшина, не раз отмечалось, что в основе организации шукшинского рассказа лежит всегда острая ситуация, перипетии которой раскрываются в драматическом, подчас комедийном ключе;332 а оригинальный тип повествования определялся через сопоставление с « «байкой, начатой с полуслова; без предисловий и предварений, «с крючка»» (Л.А.Аннинский333). И это во многом близко поэтике песен Высоцкого самых разных жанрово-тематических групп (от «блатных», «военных» до «спортивных» и «бытовых»), для композиции которых были характерны стремительная «новеллистичная» динамика, напряженная конфликтность на «изломах» сюжета, а также идущее от драматургии преобладание диалогового начала. Актерская одаренность обоих художников предопределила особое «многоязычие»334 в их произведениях, свободное оперирование «чужим» словом, делавшее персонажную сферу и шукшинских рассказов, и песен Высоцкого многоликой и внутренне драматизированной. Подобно тому, как рассказы Шукшина справедливо называли «скрыто 332 осуществленными пьесами»,335 в стихах-песнях Высоцкого изначально Апухтина В.А. В.М.Шукшин // Очерки истории русской литературы XX века. Вып.1. М.,1995.С.121. Аннинский Л.А. Путь Василия Шукшина // Аннинский Л.А. Тридцатые – семидесятые. Литературнокритические статьи. М.,1978.С.252. 334 Белая Г.А. Парадоксы и открытия В.Шукшина // Белая Г.А. Художественный мир современной прозы. М., 1983. С.117. 335 Ваняшова М.Г. Шукшинские лицедеи // Литературная учеба. 1979. №4.С.162. 333 296 заложенное в их ткани театральное начало актуализируется в ходе подлинно актерского авторского исполнения – достаточно вспомнить поразительный по своему сценическому потенциалу «Диалог у телевизора» (1973). Роднит двух авторов и общая направленность их таланта – «лирическая, трагедийная» и одновременно «гротесково-сатирическая».336 Симптоматично, что их творчество, ставшее сферой «пересечения между высокой литературой и жизнью простых людей, между их речью и языком поэзии»,337 предопределило знаковый характер самих фигур «Гамлета с Таганской площади» и создателя «Печек-лавочек», «Калины красной» для национального сознания в середине столетия. А их ранний уход в зените творческой славы был встречен поистине общенародной скорбью. Личностное и творческое общение Шукшина и Высоцкого не было регулярным и продолжительным. Известно, что Шукшин входил в дружеский круг на Большом Каретном (А.Утевский, Л.Кочарян, И.Кохановский, А.Тарковский и др.), значивший так много для формирования поэтической индивидуальности Высоцкого; был одним из первых слушателей его ранних «блатных» песен.338 Позднее опыт восприятия современности сквозь призму именно «блатной» среды, ее болезненного мироощущения окажется чрезвычайно значимым для Шукшина в «Калине красной». Ценя артистическое дарование младшего современника, интуитивно ощущая стихийность и глубоко национальные корни его творческого духа, Шукшин даже пробовал Высоцкого на роль Пашки Колокольникова, а позднее намеревался отдать ему главную роль в «Разине». Связи с творческим «братством» Большого Каретного были обусловлены для Шукшина и участием в фильме «Живые и мертвые», где вторым режиссером был Л.Кочарян.339 В интервью и сценических выступлениях разных лет Высоцкий неоднократно подчеркивал свою любовь к наследию Шукшина, которое прочно ассоциировалось в его сознании со столь ценимым им творчеством «деревенщиков»: «Мне очень нравятся книги Федора Абрамова, Василия Белова, Бориса Можаева – тех, «деревенщиками». И еще – Василя Быкова и Василия Шукшина…». 340 кого называют Уже после смерти Шукшина, которую Высоцкий воспринял глубоко личностно, прервав свою гастрольную поездку в составе таганской труппы в Ленинград ради участия в похоронах, поэт-певец в ходе одного из выступлений вновь обратился к воспоминаниям об общении с Шукшиным, 336 Ваняшова М.Г. Шукшинские лицедеи. С.168. Новиков Вл.И. Высоцкий. М., 2002. (Сер. ЖЗЛ). С.61. 338 Там же. С.225. 339 Утевский А. На Большом Каретном. М.,1999. С.93. 340 Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актер. М.,1989. С.113. 337 297 рассказав об истории зарождения посвященного ему лирического реквиема («Памяти Василия Шукшина», 1974): «Очень уважаю все, что сделал Шукшин. Знал его близко, встречался с ним часто, беседовал, спорил, и мне особенно обидно сегодня, что так и не удалось сняться ни в одном из его фильмов. Зато на всю жизнь останусь их самым постоянным зрителем. В данном случае это для меня значит больше, чем быть участником и исполнителем. Я написал стихи о Василии, которые должны были быть напечатаны в «Авроре». Но опять они мне предложили оставить меньше, чем я написал. Считаю, что ее хорошо читать глазами, эту балладу. Ее жаль петь, жалко… Я с ним очень дружил. И както я спел раз, а потом подумал, что, наверное, больше не надо…».341 В стихотворении «Памяти Василия Шукшина» трагедийное восприятие безвременного ухода Шукшина, облеченное в форму теплой, задушевной беседы («Все – печки-лавочки, Макарыч»), обогащается глубоким диалогом с образным миром писателя. В активной творческой, актерской памяти автора отложились душевный строй шукшинских персонажей («А был бы «Разин» в этот год… // Такой твой парень не живет!..»), кульминационные кадры «Калины красной», высвечивающие личностную и общенациональную трагедию в участи главного героя: Но, в слезы мужиков вгоняя, Он пулю в животе понес, Припал к земле, как верный пес… А рядом куст калины рос – Калина красная такая… Колорит разговорного народного слова, окрашивающий стилевую ткань стихотворения, избавляет его от излишней патетики. Автор подчеркивает свою творческую близость «герою» реквиема, с горькой улыбкой вспоминая об относящейся к обоим «актерской» примете («Смерть тех из нас всех прежде ловит, // Кто понарошку умирал») и даже изображая Шукшина в качестве гитариста,342 что усиливает пронзительный лиризм сокровенного общения автора и героя: «Коль так, Макарыч – не спеши, // Спусти колки, ослабь зажимы…». Уход близкого по духу художника наполняет лирическое «я» предощущением трагической краткости и собственного земного пути, а разворачивающаяся здесь «драматургия» предсмертного поединка с Роком и смертью напоминает коллизии философских баллад Высоцкого («Натянутый канат», «Кони привередливые» и др.) – неспроста это стихотворение определено автором именно как баллада: 341 342 Цит по: Утевский А. Указ.соч.С.93. Кулагин А.В. Поэзия В.С.Высоцкого. Творческая эволюция. М.,1997.С.162. 298 Вот после временной заминки Рок процедил через губу: «Снять со скуластого табу – За то, что он видал в гробу Все панихиды и поминки…». Одним из веских оснований типологического соотнесения художественных миров Шукшина и Высоцкого является углубленное исследование каждым из них национального характера343 – неслучайным было в этой связи их обращение к творческому переосмыслению мотивов народных сказок («До третьих петухов» Шукшина, песенные «антисказки» Высоцкого). Национальный характер нередко связан у Шукшина и Высоцкого с кризисными, разрушительными интенциями и одновременно с мучительным стремлением осилить нелегкий груз недавнего исторического опыта, любой ценой превозмочь духовное удушье. Потому герои рассказов Шукшина и «ролевых» песен Высоцкого так часто оказываются «на последнем рубеже»344 своего бытийного самоопределения. В рассказах «Крепкий мужик» (1969), «Сураз» (1969), «Степка» (1964), «Лёся» (1970), киноповести «Калина красная» (1974) явлено разрушительное в своей стихийной необузданности начало русской души, утратившей духовные опоры. В «Крепком мужике» страсть героя к «быстрой езде», залихватская удаль оборачиваются угрозой самоуничтожения нации. «Драматургическая» острота эпизода сноса церкви раскрывается не только в надрывных жестовых и речевых нюансах поведения Шурыгина («крикливо, с матерщиной»), но и в окаменелом состоянии деревенских жителей, в душах которых, «парализованных неистовством Шурыгина», брезжащий свет воспоминаний о прежней значимости священного места оказывается бессильным перед стихийной агрессией. Героям же и ранних «блатных» песен Высоцкого («Тот, кто раньше с нею был», 1962; «Счетчик щелкает», 1964; «Татуировка», 1961), и его поздних философско-исповедальных баллад знакомо то парадоксальное сочетание лирически-нежных струн души и «гибельного восторга» самоистребления, готовности «добить свою жизнь вдребезги», стояния «у края», которое оказывается ключевым в созданных Шукшиным художественных характерах: Спирьки Расторгуева («Сураз»), Лёси и Степки – героев одноименных рассказов и, конечно, Егора Прокудина («Калина 343 Сигов В.К. Русская идея В.М.Шукшина. Концепция народного характера и национальной судьбы в прозе. М.,1999. 344 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Василий Шукшин // Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: В 3-х кн. Кн.2: Семидесятые годы (1968 – 1986): Учебное пособие. М., 2001.С.59. 299 красная»), с его щемящей нежностью к березкам-«подружкам», пашне, от которой «веяло таким покоем». В рассказе – «портрете» «Сураз» колорит меткого сибирского слова, давшего название произведению, выводит на размышления о нелегком историческом опыте поколения («и вспомнились далекие трудные годы… недетская работа на пашне»), о «рано скособочившейся» жизни героя, прожитой «как назло кому» – от случая с учительницей немецкого языка, залихватского «отстреливания» под ухарское пение «Варяга», в чем обнаруживается близость психологическому состоянию многих героев Высоцкого, – до любовной коллизии, которая, как и в ранних песнях Высоцкого («Наводчица», «Татуировка», «Тот, кто раньше с нею был» и др.), неожиданно высвечивает неординарность и даже артистизм загрубевшей натуры персонажа: «В груди у Спирьки весело зазвенело. Так бывало, когда предстояло драться или обнимать желанную женщину».345 Доходящая до самого «нерва» души саморефлексия героев Шукшина и Высоцкого противопоставлена спокойной, насмешливой уверенности их антагонистов – будь то «физкультурник» с «тонким одеколонистым холодком» из шукшинского рассказа или казенный обвинитель в песне Высоцкого «Вот раньше жизнь!..» (1964), «деловой майор» в «Рецидивисте» (1963), безликие «трибуны» в «спортивных» песнях… Не щадя себя и ощущая себя на «натянутом канате» лицом к лицу с гибелью, герои Шукшина и Высоцкого осознают давящую бессмысленность бытия вне духовного опыта: «Вообще собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирька все больше утверждался. Временами он даже испытывал к себе мерзость». А предельно лаконичная финальная часть шукшинского рассказа на надсловесном уровне приоткрывает разверзшуюся в душе героя бездну: «Закрыл ладонями лицо и так остался сидеть. Долго сидел неподвижно. Может, думал. Может, плакал…». Характерно и сближение образных рядов рассказа «Лёся» и баллады Высоцкого «Кони привередливые» (1972). В песне Высоцкого обращает на себя внимание подчеркнуто «пороговый» характер пространственных образов, созвучных «гибельному восторгу» влекомого к «пропасти», к «последнему приюту» героя: Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю… Что-то воздуху мне мало – ветер пью, туман глотаю, – Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!.. 345 Тексты произведений В.Шукшина приведены по изд.: Шукшин В.М. Собр. соч. в 6 томах. М., Молодая гвардия, 1992. 300 Полуосознанное стремление обрести за гранью «последнего приюта» райское, благодатное состояние увенчивается исповедью о мучительном незнании Бога, неготовности к подлинной встрече с Ним. В рассказе же Шукшина символический образ безудержной скачки получает конкретное сюжетное развитие в повествовании о главном герое: «… к свету Лёся коней пригонял: судьба пока щадила Лёсю. Зато Лёся не щадил судьбу: терзал ее, гнал вперед и в стороны. Точно хотел скорей нажиться человек, скорей, как попало, нахвататься всякого – и уйти. Точно чуял свой близкий конец. Да как и не чуять». Посредством лицедейства, отчаянной игры герой Шукшина бессознательно надеется преодолеть боль внутренней пустоты, и в этом таится глубокий смысл трагифарсовой «драматургии» ряда произведений («Лёся», «Генерал Малафейкин», «Миль пардон, мадам!», «Калина красная» и др.). Если в «Конях привередливых» экспрессивное, надрывное авторское исполнение усиливает ощущение трагизма духовной неприкаянности лирического «я», то в «Лёсе» спокойный, разговорный тон речи повествователя контрастно оттеняет темные, иррациональные бездны в душе героя, а в заключительной части слово повествователя наполняется рефлексией о деформации коренных свойств национального характера «векового крестьянина», которая получит развернутое художественное воплощение в сцене гибели главного героя «Калины красной». Источником напряженного драматизма бытия многих персонажей Шукшина и Высоцкого становятся, по выражению Л.А.Аннинского, чувствование «незаполненной полости в душе» и при этом ощущение «невозможности стерпеть это», желание разными путями пережить самозабвенный «праздник», на время заполняющий «в душе эту бессмысленную дырку».346 С данной точки зрения симптоматично мироощущение героев таких произведений Высоцкого, как «Мне судьба – до последней черты, до креста…» (1978), «Банька побелому» (1968) и др. В первом стихотворении пронзительная исповедь героя о «голом нерве» души оборачивается готовностью к жертвенному самоистреблению в поиске «несуетной истины» бытия: «Я умру и скажу, что не все суета!». В «Баньке по-белому» лирический герой своим трудным социальным опытом, символически запечатлевшимся в «наколке времен культа личности», трагедийным мирочувствием близок шукшинскому Егору Прокудину: «Сколько веры и лесу повалено, // Сколь изведано горя и трасс…». Сокровенное 346 движение обоих к исповедальному Аннинский Л.А. Путь Василия Шукшина. С.260. самоосмыслению вызвано 301 потребностью вербализовать внутреннюю боль от «наследия мрачных времен», от разъедающего душу «тумана холодного прошлого». Подобная тональность исповеди героев Шукшина и Высоцкого входила в явное противоречие с духом и стилем «застойной» эпохи, знаменовала первые импульсы к очищающему прозрению нации. Сквозной для ряда песен Высоцкого символический образ бани («Банька по-белому», «Баллада о бане», «Банька по-черному», «Памяти Василия Шукшина»: «И после непременной бани, // Чист перед Богом и тверез, // Вдруг взял да умер он всерьез») невольно ассоциируется с эпизодом мытья Егора Прокудина в деревенской бане, знаменующим попытку облегчить давящий груз прошлого. В основе острых коллизий, пронизывающих многие произведения двух художников, лежит напряженная тяга народного сознания к восстановлению утраченного чувства веры, обретению «праздника». К этим размышлениям не раз возвращается шукшинский Егор Прокудин – и в разговоре с Губошлепом, и при попытке организовать «бардельеро»: «Нужен праздник. Я долго был на Севере…». Персонажи рассказов «Верую!» (1970), «Билетик на второй сеанс» (1971), «Гена Пройдисвет» (1972) все чаще томятся ощущением не так прожитой жизни, нереализованности духовного потенциала: «Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко – песня-то была хорошая». Ярко выраженная драматургичность, распространенная диалоговая организация речевого пространства, порой игровое начало в поведении героев рассказов Шукшина оттеняют, как и в песнях Высоцкого, их невысказанную боль. Так, в экспозиции рассказа «Верую!» звучит важная психологическая характеристика героя, на которого «по воскресеньям наваливалась особенная тоска». В его бытовые разговоры, ссоры с женой парадоксальным образом «встраиваются» метафизические раздумья о душе («Я элементарно чувствую – болит»), которые прорываются и в диалоге с попом о разных типах веры. При этом попытки подменить мистический, надвременный смысл бытия рожденными тоталитарной действительностью суррогатами веры в «Жизнь», «в авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у», «в плоть и мякоть телесную-у» обнаруживают в зловеще-фарсовом, открытом финале рассказа свою несостоятельность и опасность: «И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы… На столе задребезжали тарелки и стаканы. –Эх, верую! Верую!..». Близкую по истокам и силе трагизма духовную подмену переживает и лирический герой баллады Высоцкого «Райские яблоки» (1978). Доминирующая во многих стихах-песнях Высоцкого о рае и райской жизни трагическая ирония сопряжена с тем, что к диалогу с 302 Богом, духовному бытию как таковому их герой, как и персонажи названных шукшинских рассказов, с трудом прорываются, пытаясь преодолеть духовный вакуум современной эпохи, болезненную отчужденность от подлинного мистического опыта, – что, проявилось, например, в случаях с «верой» «в космос и невесомость» в рассказе «Верую!» или с размышлениями об «удобной религии» индусов в «Песенке о переселении душ» Высоцкого (1969). Глубинным содержанием произведений двух художников оказывается настойчивое стремление вернуть нации, отдельной личности понимание трансцендентного смысла и предназначения своего бытия. Чувством «полного разлада в душе» мучается и шукшинский Тимофей Худяков («Билетик на второй сеанс»). В цепи трагикомических эпизодов рассказа, воспоминаний героя о молодости растет не объяснимая рационально неудовлетворенность прожитым, которая порождает в душе персонажа сложный сплав агрессии («хотелось еще комунибудь досадить») и чувствования ужасающей краткости неодухотворенного земного существования («червей будем кормить»). В гротескном эпизоде беседы с «Николаемугодником» на грани «веселости» и острого драматизма звучит отчаянное признание Тимофея, заключающее, по сути, емкий диагноз духовного недуга общества: «Тоска-то? А Бог ее знает! Не верим больше – вот и тоска. В Боженьку-то перестали верить, вот она и навалилась, матушка…». В его искреннем обращении к «угоднику» сказалась напряженная жажда русской души обрести незыблемые, сакральные основы бытия, а в «комическом» повороте этого разговора, утопических надеждах героя «родиться бы … ишо разок» обнаружилась глубинная неготовность порабощенного лживой пропагандой русского человека в одночасье испытать духовное преображение. Как и у героев Шукшина, в песне «Моя цыганская» из недр потаенной, подсознательной жизни лирического «я» («В сон мне – желтые огни, // И хриплю во сне я…») рождается стихийное взыскание духовной полноты личностного бытия, «райского» просветления внутреннего существа. Подобная антидогматическая направленность раздумий о смысле жизненного пути, вере характерна и для сознания ищущих героев Шукшина. Так, в рассказе «Гена Пройдисвет» психологическое столкновение артистичной, нешаблонно мыслящей натуры Генки с «верующим» дядей Гришей обусловлено целым комплексом причин. Больно ранящий центрального персонажа вопрос веры заставляет его, как и лирического героя «Райских яблок», «Моей цыганской», искать зримых оснований этой веры, не принимать внешне правильной, гладкой проповеди «новообращенного» дяди Гриши о суетности земной жизни, об «антихристе 666»: «А потому бледно, что нет истинной веры…». 303 Стихийное мироощущение героя оказывается внутренне конфликтным: отсутствие духовного опыта соединяется здесь с предельной душевной искренностью, доходящей в сцене спора и борьбы с «оппонентом» до обнаженности и, что особенно существенно, с усталостью от любых проявлений бесплодного дидактизма, «притворства», ставших знамениями эпохи. Творчество Шукшина и Высоцкого несло в себе емкое художественное осмысление общественного климата десятилетий. «застойных» Социально-психологическая реальность их произведений нацелена нередко на исследование массового агрессивного сознания,347 психологии человека, обманутого идеологическими лозунгами и обремененного комплексом обиды на окружающий мир. В «драматургичной» динамике многих шукшинских рассказов именно агрессивное сознание персонажей формирует атмосферу общественной конфронтации – как, например, в известном рассказе «Срезал» (1970), где в сценично выписанной фарсовой сцене «спора» Глеба с кандидатами-горожанами в присутствии «зрителей» проступает комплекс глубинной неудовлетворенности пытающегося самостоятельно мыслить сельчанина – ходульными штампами времени («не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от «Кабачка 13 стульев»»). Эта неудовлетворенность и обида экстраполируются народным сознанием, переживающим утерю традиционных культурных корней, на всех «приезжих» из города: «…а их тут видели – и кандидатов, и профессоров, и полковников». Сходная коллизия в сложных социально-психологических взаимоотношениях между городом и селом возникает и в иных рассказах Шукшина («Постскриптум», «Чудик», «Материнское сердце» и др.). И в ряде произведений Высоцкого, поэта, в отличие от Шукшина, совершенно городского, но чрезвычайно чуткого к конфликтным узлам эпохи, драматическое и комическое изображение полнейшей дезориентированности выходца из села в чуждой ему социокультурной среде города оказывается значимым и художественно полнокровным – в песенной дилогии «Два письма», (1966-1967) песне «Поездка в город» (1967). В «Двух письмах» через раскрытие языковых личностей персонажей автором постигается значительный культурный разрыв между городом и селом, что становится очевидным как в мифологизированных представлениях героини о городской жизни, так и в восторженных признаниях обращающегося к своей «темной» жене Коли: До свидания, я – в ГУМ, за покупками: Это – вроде наш лабаз, но – со стеклами… 347 Кулагин А.В. Агрессивное сознание в поэтическом изображении Высоцкого (1964 –1969) // Кулагин А.В. Высоцкий и другие: Сб. ст. М., 2002.С.17-26. 304 Ты мне можешь надоесть с полушубками, В сером платьице с узорами блеклыми. …Тут стоит культурный парк по-над речкою, В ём гуляю – и плюю только в урны я. Но ты, конечно, не поймешь – там, за печкою, – Потому – ты темнота некультурная. Сфера изображения укоренившегося в обществе агрессивного сознания распространяется Шукшиным и Высоцким на тонко чувствуемую и передаваемую обоими «драматургию» бытовых, повседневных ситуаций. Среди рассказов Шукшина стоит выделить в этой связи такие вещи, как «Обида» (1970), где конфликт героя с «несгибаемой тетей» в магазине, стремление установить справедливость в апелляции к безликой и агрессивной советской «очереди» «трясунов» свидетельствуют о его решительном противостоянии привычной нивеляции индивидуальности («они вечерами никуда не ходят», «они газеты читают»), о способности в бытовой ситуации глубоко мыслить о предназначении человеческого существования. В подобных «магазинных», «больничных» сценах – в рассказах «Сапожки», «Змеиный яд», «Ванька Тепляшин», «Кляуза» – сквозь призму «драматургии» одного эпизода автор постигает общий социально-психологический климат времени, вновь и вновь заставляя своего внешне неловкого, чудаковатого подчас героя вступать в нравственный поединок с усредненным «стандартом», продираться сквозь беспричинную ненависть продавщиц, больничных вахтеров, «стенки из людей» – к человечности, которую в любой ситуации он стремится сохранить («надо человеком быть»). Тревожный шукшинский вопрос «Что с нами происходит?» вполне приложим и к песням Высоцкого, изображающим внутренне неблагополучную атмосферу современности. Симптоматично, что, подобно своему старшему современнику, поэтпевец запечатлевает интересующий его тип сознания в пластике и стилевом своеобразии монологической или диалогической речи самих персонажей. Так, в «Песенке о слухах» (1969), «Песне завистника» (1965), «Песне автозавистника» (1971) актерское дарование автора позволяет изнутри раскрыть сущность агрессивного обывательского сознания, которое становится продуктом причудливого наложения затверженных политизированных догм на элементарную бытовую неустроенность советского человека: Произошел необъяснимый катаклизм: Я шел домой по тихой улице своей – Глядь, мне навстречу нагло прет капитализм, Звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей»! 305 Я по подземным переходам не пойду: Визг тормозов мне – как романс о трех рублях, – За то ль я гиб и мер в семнадцатом году, Чтоб частный собственник глумился в «Жигулях»! («Песня автозавистника») А в песне «Случай в ресторане» (1967), отразившей проницательное чувствование поэтом атмосферы послевоенных десятилетий (глубоко осмысленной и в творчестве Шукшина), проникнутый конфронтацией разговор представителей разных поколений о войне, который «сценично» передан посредством психологических ремарок, жестовой детализации, – являет в противовес официозной риторике оборотную сторону громких побед, надорванность нации бременем пережитого исторического опыта: Он ругался и пил, он спросил про отца, И кричал он, уставясь на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, – А ты жизнь прожигаешь, иуда! А винтовку тебе, а послать тебя в бой?! А ты водку тут хлещешь со мною!..» Я сидел как в окопе под Курской дугой – Там, где был капитан старшиною… Одним из ключевых открытий в прозе Шукшина явился социально-психологический тип «чудика», получивший разнообразные варианты художественного воплощения. Этот образ «простого», внутренне свободного от общественной лжи и демагогии героя, противостоящего «косноязычному и усредненному сознанию», позволяет говорить о примечательном сближении характерологии рассказов Шукшина и песен Высоцкого.348 Появление многоликого образа шукшинского «чудика» знаменовало существенное расширение, по сравнению с литературой эпохи, взгляда на феномен народного характера. Внешняя чудаковатость, «неотмирность» персонажа, пребывающего порой на грани бытия и небытия, как в рассказе «Залетный» (1969), психологически мотивируются устремленностью «странной» русской души к непостижимым загадкам земного и посмертного бытия; смутным прозрением масштаба вечности, таинственной связи времен в ощущении непреходящей красоты – как в случае с размышлениями о Талицкой церкви героя рассказа «Мастер» (1969). Особое психологическое понятие «бесконвойности» может служить отправной личностной характеристикой как персонажей ряда шукшинских рассказов («Алеша 348 Арустамова А.А. Игра и маска в поэтической системе Высоцкого // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.III.Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.224; Захариева И. Художественный мир Высоцкого: взгляд из Болгарии // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.III.Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.353. 306 Бесконвойный», 1972; «Упорный», 1972; «Чудик», 1967 и др.), так и многих героев песен Высоцкого. В рассказе «Алеша Бесконвойный» столь тщательно протапливаемая по субботам баня воплощает образ внутреннего духовного обновления героя, воцарение «желанного покоя на душе»; возможность, отрешившись от «колхоза», сосредоточиться, вопреки общественному недоумению, на осмыслении прожитого – далекой любви, необъяснимого проникновенного чувства к родной земле: «Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день». Задушевное, неторопливое авторское слово соединяется с потоком дум героя, являя ценность умения «выпрягаться» из «конвоя» коллективной жизни ради сохранения собственной индивидуальности: «…в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день». В иных шукшинских рассказах комический эффект от мечтаний или поступков персонажей-«чудиков» («Упорный», «Чудик»), передаваемый, как и в песнях Высоцкого, в напряженной «сценичности» конкретных эпизодов, оказывается в парадоксальном сочетании с их вполне серьезной жаждой абсолютной истины. В рассказе «Упорный» чудаковатое «изобретение» Мони знаменует не только романтический утопизм, творческую, актерскую одаренность героя («охота начать вечное движение ногой»), но и его противопоставленность усредненности, безликости прописных «истин», что отразилось в остро конфликтной «драматургии» разговора с инженером. Эта антитеза внутренне неуспокоенного героя и агрессивно-равнодушного социума вырисовывается также в столкновениях героя рассказа «Чудик» (1967) с типажами, зорко «выхваченными» автором из самой «гущи» советской повседневности: с соседом в самолете, который предпочел газету тому, чтобы «послушать живого человека»; в поезде с «интеллигентным товарищем», глядящим «поверх очков»; с телеграфисткой, настойчиво привносящей нейтрально-безликий дискурс в человеческий «документ»; со снохой, которая «помешалась на своих ответственных»… В стремительной динамике этих эпизодов передается, как и во многих песнях Высоцкого, неблагополучие общественнопсихологического климата эпохи, а творческое, нерациональное, подчас наивное мировосприятие «чудика», стандартизованного мышления контрастирующее с и поведения, являет беспомощной шаблонностью глубину и неординарность внутреннего мира шукшинского героя. В произведениях Высоцкого формируется своя характерология «чудиков» – начиная с ранних «блатных» песен, когда даже погруженный в криминальную среду герой 307 сохраняет непосредственность мировосприятия и душевную искренность, с которой он смело иронизирует по поводу формализованного прокурорского делопроизводства и «совейской» Системы как таковой («Мы вместе грабили одну и ту же хату…», 1963; «Вот раньше жизнь!..», 1964 и др.). В сопоставлении с Шукшиным, у Высоцкого поединок «чудика» с царящей в обществе кривизной приобретает большую «профессиональную» конкретность, а также трагедийный, надрывный и даже фатальный характер, предстает как вызов не только Системе, но и судьбе. Емкой метафорой его бытия может служить заглавный образ песни «Бег иноходца» (1970), где, как и в ряде других произведений поэта о людях трудных призваний, «ролевой» герой в конкретной «профессиональной» ситуации дорогой ценой завоевывает право действовать «без узды», «по-другому, то есть – не как все». В частных эпизодах произведений Высоцкого (конфликтные взаимоотношения «иноходца» со зрителями»; вызов ведущего бой со смертью героя «Натянутого каната» «унылым лилипутам» и др.) порой проступают, как и в рассказах Шукшина, обобщающе-притчевые элементы. Эта сквозная для всего творчества Высоцкого коллизия возникает и в ряде «спортивных» песен. В «Песне о сентиментальном боксере» (1966) герой, уподобляясь шукшинскому «чудику», невзирая на «свист» трибун утверждает абсолютный приоритет нравственных ценностей даже над профессиональными требованиями: «Бить человека по лицу // Я с детства не могу…». По-театральному динамичная повествовательная техника отчасти напоминает в стихах-песнях Высоцкого шукшинские рассказы со свойственной им редукцией экспозиции и буквально с первых слов передает напряженное развитие сюжета («Удар, удар… Еще удар…»). Данная особенность композиции просматривается и в прочих «остросюжетных» песнях барда. В «Песне о конькобежце на короткие дистанции…» (1966), «Песенке про прыгуна в высоту» (1970) индивидуальный творческий опыт героя, его исповедально звучащая речь оппозиционны шаблонным лозунгам Системы о «воле к победе». Во второй песне утверждение персонажем своей индивидуальности в спорте сопровождается его стремлением «объяснить толково» – на пределе душевных сил, как и в рассказе Шукшина «Обида», – свое право на творческий выбор, независимый от «начальства в десятом ряду»: Но, задыхаясь словно от гнева я, Объяснил толково я: главное, Что у них толчковая – левая, А у меня толчковая – правая! «Натянутый канат» личностного и профессионального бытия героев Высоцкого неизменно возвышается над «уныло глядящими лилипутами» («Натянутый канат»), 308 погруженными в несвободный мир обыденности. Само противопоставление порой «чудаковатого» персонажа этих песен всяческой «нормальной» усредненности обретает, как и в рассказах Шукшина, не только социально-психологический, но и весомый нравственный, онтологический смысл. «Чудики» в произведениях Шукшина и Высоцкого в самых обыденных, «профессиональных» ситуациях стремятся к глубокому самоосмыслению, познанию как социально-психологических, так и бытийных истоков конфликтности окружающей их среды. Принципиальная «непригнанность» их мышления к застывшим стереотипам времени передается саморефлексии обоими персонажей, художниками в живом слове, в исповедальной диалоговых формах речи, в «драматургичной» повествовательной структуре произведений. Итак, творческое наследие В.Шукшина и В.Высоцкого было пронизано духом эпохи постепенного возвращения в национальное сознание забытых духовно-нравственных ценностей. Шукшин и Высоцкий – актеры по типу творческого дарования – глубоко запечатлели в своем «драматургичном» творчестве, в объемной социально-психологической характерологии сложнейшие процессы, происходящие в русской душе, потрясенной историческими катаклизмами недавнего прошлого и отягощенной бременем демагогического мышления современности. В их произведениях явлены мучительная потребность современника в духовном «празднике», мистическом опыте – и одновременно деструктивные стороны инертного, агрессивного массового сознания. Рассказы Шукшина и песни Высоцкого, при всей их тематической и художественной самобытности, близки своей «сценичностью», «новеллистичным» сюжетным динамизмом, частым преобладанием явной или имплицитной диалоговой организации, активно вводящей в дискурсивное поле «чужое» слово; соединением театральной эксцентрики и пронзительного исповедального лиризма, предельной конкретности изображения и глубины бытийного содержания. 309 «Песня об Отчем Доме». Александр Галич III. 1. Трагедийно-сатирическое осмысление современности. Образ советского обывателя в песенной поэзии Галича Авторская песня, ставшая одним из магистральных направлений поэтической культуры второй половины XX столетия, явилась актом глубокого, свободного от идеологических стереотипов национального самопознания. В стихах-песнях В.Высоцкого и Б.Окуджавы, Ю.Визбора и А.Городницкого, А.Галича и А.Дольского, Ю.Кима и Е.Клячкина разными художественными путями выразились ментальный склад современника, кардинальные исторические сдвиги и катаклизмы срединных десятилетий века и современности. В бардовском многоголосии наследие Александра Галича (Александр Аркадьевич Гинзбург, 1918 – 1977) заняло совершенно особое место. Начинавший свой творческий путь во второй половине 1930-х гг. как вполне благополучный советский драматург и поэт, прошедший через участие в студиях К.Станиславского и А.Арбузова, с переломных 1960-х гг. он постепенно становится создателем песенно-поэтического эпоса – по словам В.Шаламова – «энциклопедии нашей жизни», в которой философская глубина соединилась с освещением «изнаночных», зачастую болезненных сторон русской истории и современности, порабощенного тоталитарными догмами индивидуального и общественного сознания. Его поздняя поэзия, включая и творчество эмигрантского периода, при всей художественной самобытности, наряду со многими произведениями В.Высоцкого, Ю.Кима и др. стала органичной составляющей трагедийно-сатирического направления в авторской песне, которое в полноте выразило вольный, неподцензурный дух бардовского искусства. Характерная для синтетической бардовской поэзии тенденция к созданию разноплановой персонажной сферы применительно к творчеству Галича оказалась ключевой. В его многогеройном и многоголосом песенном мире выведена панорама характеров и типов – пестрых по своему социально-психологическому складу. В «ролевой» поэзии Галича именно этим в той или иной степени дистанцированным от авторского «я» персонажам передается право вести повествование; нередко в коллизиях их частных судеб, запечатленных в сказовом слове героев, отражаются грандиозные контроверзы национального бытия – будь то «старый конармеец» («Рассказ старого 310 конармейца»), представитель бюрократической номенклатуры («Истории из жизни Клима Петровича Коломийцева…») или даже сам вождь («Поэма о Сталине»)… В многоуровневой персонажной характерологии песен Галича в качестве одного из центральных выступает образ советского обывателя, от лица которого в ряде песен выстроено повествование. Данное социально-психологическое явление в произведениях Галича гетерогенно: чаще всего это представители простонародной среды, как, например, бывшие заключенные, советские рабочие, служащие и т. д.; но вместе с тем носителями обывательского сознания могут выступать и герои, имеющие немалый социальный статус, – как директор антикварного магазина («Баллада о том, как едва не сошел с ума директор антикварного магазина…») или «депутат горсовета» Клим Петрович Коломийцев. Художественная сверхзадача поэта-певца при изображении социальных характеров обозначенного ряда заключалась в исследовании глубин народного сознания; того, как – подчас в мифологизированном виде – восприняты этим сознанием официальные идеологические схемы и реалии повседневного бытия. В обывательской психологии и порожденной ею «вторичной» мифологии о советской жизни Галичу важно отыскать как признаки духовного увечья, несвободы, так и парадоксальное, часто инстинктивное противопоставление действительности душевной ценностей искренности, общечеловеческого выхолощенных порядка – из социальной клишированному тоталитарному дискурсу. Одно из первых произведений, где Галичем создается пока еще во многом собирательный образ обывателя, – песня «Атлант, или баллада про майора Чистова» (1966). В бытовом, внешне незатейливом повествовании рассказчика проступает фантасмагорическая реальность тоталитарной действительности. Фантастический сон героя («Мне приснилось, что я – атлант, // На плечах моих – шар земной!») и особенно чудесное «прозрение» содержания этого сна «майором Чистовым, // Что заведует буквой «Ге»» раскрывают бытие рядового обывателя в условиях несвободы. Образ рассказчика здесь двупланов, ибо в его сне о себе как «атланте», с одной стороны, проявилась зависимость от советской человекобожеской утопии, но с другой – способность души к полету в спонтанном порыве творческого вдохновения. Подобная несводимость героя к однозначной роли передана в его сказовой, эмоционально двунаправленной речи, где сквозь готовность к самоподавлению ради существования в Системе («И часам к десяти ноль-ноль // Я и вовсе тот сон забыл») диссонирующей нотой прорывается ироническое восприятие этой Системы, неосознанное для себя самого недоверие к ней: 311 И открыл он мое досье, И на чистом листе, педант, Написал он, что мне во сне Нынче снилось, что я – атлант!349 В песнях Галича образ обывателя прорисовывался и в ракурсе «коллективного» повествования – как, например, в «Балладе про маляров, истопника и теорию относительности» (1962), где уже в игровом заглавии, тип которого был весьма распространен у Галича и в бардовской поэзии вообще, намечен иронический модус авторской мысли. Основным предметом изображения становится здесь мышление рядового советского обывателя – «маляра», ведущего рассказ как от собственного лица, так и от имени «напарника», что придает повествованию расширительное звучание. Через анекдотическое происшествие в виде сообщения истопником «ужасной истории» о том, как «наши физики проспорили // Ихным физикам пари», в запечатленной пластике просторечного произношения героев («чуйствуем», «чтой-то», «ихным», «полуклиника») в полноте раскрылись ментальные черты «homo sovieticus». Сознание героев, утратившее в результате катастрофических изломов национальной истории духовную укорененность, оказывается деформированным под воздействием шор официальной пропаганды, в результате чего оно приобретает утопическую, мифогенную природу. Официозные, лжемессианские лозунги об априорном превосходстве советского над западнокапиталистическим, попадая на почву обывательского мироощущения, порождают множество фобий в отношении к окружающему миру. Планетарный размах «судьбоносных» экспериментов полностью вытесняет из поля зрения персонажей масштаб повседневной действительности, накладываясь на традиционные слабости национального характера: Все теперь на шарике вкось и вскочь, Шиворот-навыворот, набекрень: И что мы с вами думаем день – ночь, И что мы с вами думаем ночь – день… И что ж тут за работа, если ночью день, А потом обратно не день, а ночь! В изображении Галича характерным для обывателя становится онтологическое неразличение сущностного и поверхностного, частое придание «колебаниям» линии партийной пропаганды глобального, едва ли не бытийного значения. С этим сопряжен рождающий комический, а зачастую и гротесковый эффект «зазор» между объективной значимостью обстоятельств жизни персонажа и трактовкой им этих обстоятельств. 349 Тексты произведений А.Галича приведены по изд.: Галич А.А. Сочинения. В 2-х т. Т.1. М., Локид, 1999. 312 Как в рассказах М.Зощенко 1920-х гг., «мелочи» повседневности, увиденные в «гулливеровской» оптике, способны здесь подчинить себе бытие. В песнях Галича фантастические сюжетные повороты, как в случае с чудесным воскресением Егора Мальцева («Баллада о сознательности», 1967), «посмевшего» умереть вопреки партийным лозунгам, гротескно заостряют изображение утопической реальности и обывательского существования в ней: Центральная газета Оповестила свет, Что больше диабета В стране советской нет! Пойми, что с этим, кореш, Нельзя озорничать! Пойми, что ты позоришь Родимую печать! «Баллада о том, как едва не сошел с ума директор антикварного магазина…» (1968) по своим жанровым параметрам напоминает трагикомедию, тональность которой обусловлена как раз несовпадением настроя рассказчика – крупного советского дельца, повествующего о себе на приеме у психиатра, и объективного эффекта от всего рассказанного. В социально-психологическом плане в песне точно прописана речь советского функционера, с характерными эвфемистическими оборотами и вновь образованными фразеологизмами: «Намолола мне дачку в Кратово, // Намолола мне «Волгу»-матушку!». В «новеллистичном» повороте остро «драматургичного» сюжетного действия песни, связанного с визитом в антикварный магазин «старушенции», принесшей «на комиссию» «пластиночки с речью Сталина», происходит открытие «изнаночных» сторон непрочного обывательского существования персонажа. Рассказ героя об этом событии неожиданно приобретает повышенно эмоциональный, искренний, почти исповедальный характер: Вот и вникните в данный факт, друзья (На добре ж сижу, не на ветоши!): Мне и взять нельзя и не взять нельзя – То ли гений он, а то ли нет еще?! В индивидуальном обывательском умонастроении утрированно преломились исторические вехи, связанные с наступлением брежневских «заморозков», знаменовавших сворачивание «оттепельного» вектора на десталинизацию общественного сознания. Через единичный эпизод, в психологически достоверных деталях поведения и речи рассказчика («Я матком в душе, а сам с улыбочкой»), в сплетении окостеневших канцеляризмов с живым разговорным языком явлена поврежденность массового сознания, зацикленного на лживой, неустойчивой идеологии («И гвоздит мне мозг многократное: // То ли гений он, а 313 то ли нет еще?!») и по мере внутреннего, еще неявного саморазрушения Системы болезненно переживающего идеологические бреши: «Указание б чье-то ценное – // Да ведь нет его, указания!». Мишенью авторской сатиры становятся тупики политизированного мышления, а предметом художественного исследования выступает многосложное, таящее в себе глубинную конфликтность воздействие господствующей идеологии на реалии повседневного существования персонажей: «Они спорят там, они ссорятся! // Ну а я – решай, а мне – бессонница!». Художественное осмысление внутреннего мира советского обывателя и свойств определяющей его психологию социальной действительности часто имеет в песенной поэзии Галича новеллистичную основу, предполагающую «сценичное» изображение коллизий повседневности, ее конфликтных узлов, раскрываемых поэтом в синтезе реалистически-конкретных и условно-фантастических форм. В этой связи выделяются три уровня существования обывателя в галичевских песнях: семейно-бытовой, общественный, уровень истории. Семейно-бытовая сфера обывательской жизни выведена в таких произведениях, как «Красный треугольник…» (1964), «История, проливающая свет…» (1969), «Жуткая история, которую я услышал в привокзальном шалмане» (1969) и др. Песня «Красный треугольник, или товарищ Парамонова», написанная, по выражению автора, «от лица идиота», уже в заглавном цветовом эпитете содержит пародию на атрибуты официоза. Предметом изображения выступает здесь сфера личной жизни героя, его семейная драма, вызванная мимолетным увлечением на стороне и обрисованная в трагикомическом, откровенном сказовом повествовании («вот стою я перед вами, словно голенький…»). В это повествование «встраиваются» речи и «тети Паши» об «аморалке», и жены героя – партийной чиновницы Парамоновой, чьи речевые жесты переданы сквозными, комически окрашенными психологическими ремарками («вся стала черная», «как увидела меня, вся стала красная» и т.д.). В духе времени частная жизнь персонажей становится предметом партийного обсуждения, невыдуманные коллизии семейных отношений переводятся на язык официозных клише, что проявилось, в частности, в обилии советизмов в репликах героев: «залепили строгача с занесением», «за советскую семью образцовую»… В плане художественного постижения обывательского сознания примечательна повествовательная манера рассказчика. За видимой «идиотической» наивностью в восприятии власти Системы, за попыткой «робко» следовать фарсовой логике, навязываемой уже разлагающейся тоталитарной действительностью («И на жалость я их 314 брал да испытывал, // И бумажку, что я псих, им зачитывал»), скрыто жало тонкой, язвительнейшей усмешки над абсурдностью происходящего. Особенно значимы в этом смысле имплицитное пародирование ходульных советских формул, приводимых для «самооправдания» («И в моральном, говорю, моем облике // Есть растленное влияние Запада»), двуплановое – на грани «серьезности» и решительного осмеяния – изображение фарсовой драматургии партийного судилища, посредством чего Галич-художник раскрывается как оригинальный мастер комического эпизода: Ну как про Гану – все в буфет за сардельками. Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами. А как вызвали меня, я сник от робости, А из зала мне: давай все подробности!.. В композиционном и интонационном строе песни, в передаче психологии героя особенно велика роль рефренов. В авторском песенном исполнении они выдержаны в интонации задумчивой отрешенности от несвободной повседневности, грустной, даже философической иронии над ней. Здесь голос рассказчика, внутренне возвышающегося над описываемым событийным рядом, приближается к голосу авторскому («Ой-ёй-ёй, // Ну прямо – ой-ёй-ёй!»), и тем самым в противоречивых переплетениях обывательского мироощущения нащупываются симптомы отторжения им идеологического диктата. «От лица идиота», по определению Галича, написана и «Баллада о прибавочной стоимости». Остросюжетное повествование о несостоявшемся вследствие «революции в Фингалии» получении героем тетиного наследства окрашено в колорит разговорного, изустного, отчасти даже рассчитанного на театрализованный эффект слова. Здесь раскрывается психология героя, который «научность марксистскую пестовал», «изучал «Капитал» с «Анти-Дюрингом». В его монологе, который включает в себя и сказовую «обработку» других «голосов» (текст завещания, слова «друзей-бражников», официальное сообщение о революции в Фингалии), в ироническом свете выявляются глубинные комплексы сформированного в условиях тоталитаризма сознания. Это и боязнь героем самого факта получения наследства, который бы выделил его на фоне всеобщей усредненности («тема какая-то склизкая – // Не марксистская, ох не марксистская!»), и осевшая в обывательской картине мира память о народном лагерном опыте, которая актуализируется здесь в связи с предстоящим соприкосновением с властью: «Ну бельишко в портфель, щетка, мыльница: // Если сразу возьмут, чтоб не мыкаться…». В итоговой антитезе официозных догм, «штучек Марксовых» и естественных человеческих устремлений в финальной фантасмагоричность попавшей части в плен произведения обнажаются «авторитетного» дискурса болезненная реальности, переживание обывателем своей обманутости Системой на уровне личного опыта: 315 Негодяи, кричу, лоботрясы вы! Это все, я кричу, штучки Марксовы! Ох, нет на свете печальнее повести, Чем об этой прибавочной стоимости… А я ж ее – от сих до сих, От сих до сих! И вот теперь я полный псих! А кто не псих?.. Автор, передавая право ведения повествования герою-обывателю, подчас выступает в песнях Галича и как «слушатель», вдумчивый свидетель рассказываемой человеческой истории, с поворотами которой он сопоставляет собственный социальный опыт. Такое соотношение автора и персонажа заявлено уже в названии песни «Жуткая история, которую я услышал в привокзальном шалмане», где само пространство шалмана благоприятствует атмосфере неофициально-доверительного, рассчитанного на узкую аудиторию сказового повествования. Для рассказчика-обывателя мелкий случай потери паспорта и неудачная шутка при его восстановлении («Ты давай, мол, в пункте пятом // Напиши, что я – еврей!») в духе кафкианского абсурда оборачиваются жизненной драмой. Галичевскому изображению обывательского бытия и сознания близки размышления И.Бродского в эссе «Катастрофы в воздухе» (1984) в связи с «Котлованом» А.Платонова – о том, что в постреволюционную эпоху порабощенная тоталитарным дискурсом нация стала «жертвой своего языка», а сам язык – «оказался способным породить фиктивный мир и впал от него в грамматическую зависимость».350 В эмоционально неоднородной, трагикомической тональности песни Галича фольклорная стилистика, проявившаяся, в частности, в характерных обращениях рассказчика к слушателям («братцы-други»), придает описанным событиям расширительный смысл, емко отражающий общенародный опыт. Политизированные догмы разрастаются здесь до глобальных масштабов, а стиль речи «особого» становится продуктом фиктивного псевдобытия общества: «Мы стоим за дело мира, // Мы готовимся к войне…». Грандиозные хитросплетения советской истории у Галича часто не просто раскрываются в частных судьбах песенных персонажей, но и предстают в зеркале простонародного, обывательского сознания, которое, как правило, высветляет, доводит до логического завершения уклончивые клише официальной демагогии. Так происходит в песне «История, проливающая свет на некоторые дипломатические тайны, или про то, как все это было на самом деле» с подзаголовком «рассказ закройщика». 350 В данном случае слово рассказчика нередко оказывается Бродский И.А. Меньше единицы: Избранные эссе. М., Издательство Независимая Газета, 1999.С.272. во 316 взаимопроникновении с ироническим словом «всеведущего» автора, знающего предысторию судеб персонажей – прежде всего героини, чью «маму за связь с англичанином // залопатили в сорок восьмом». Благодаря введению образа рассказчика создается эффект «серьезного» восприятия официальных установок, воздействующих на динамику новеллистичного, отчасти авантюрного сюжета (история с сержантом, дипломатический скандал и др.). Языком этих установок времен «холодной» войны и пытается говорить герой, в изображении же Галича данный язык превращается в обезличивающую маску, на что поэт не раз указывал в своих интервью351 («Позабыли, что для нашей эпохи // Не подходят эти «ахи» да «охи»»; «Прямо ихней пропаганде – как масло!»; «борец за прогресс и за мир»). В хлестком разговорном слове рассказчика дипломатические экивоки предстают в их подлинном смысле: «Раз, мол, вы обижаете лордов нам – // Мы вам тоже написаем в щи». И лишь в финальной, звучащей на грани отчаяния реплике «закройщика» его голос наполняется нотами горько-ироничной авторской рефлексии: «До чего ж все, братцы, тошно и скушно». Разносторонне изображена в песнях Галича и сфера общественных отношений, субъектом которых выступает обыватель. Так, в «Отрывке из репортажа о международной товарищеской встрече по футболу между сборными командами Великобритании и Советского Союза» (1969-1970) в стремительном развертывании «сценической» ситуации футбольного матча предметом сатирического изображения становится «хамелеонская», продиктованная спекулятивным политизированным сознанием речь спортивного комментатора. Но особый художественный интерес представляет монолог проигравшего советского спортсмена – «аспиранта… Володи Лямина». То, как в его речи, – где блестяще прописана пластика разговорно-сниженного языка, – косвенно передана лозунговая стилистика высказываний партийного начальства, делает ощутимым глубинный комплекс обывательской агрессии, обусловленный невербализованным разочарованием в авторитете власти, пребыванием в состоянии вакуума идеологических ориентиров: И пойдет теперь мурыжево – Федерация, хренация: Как, мол, ты не сделал рыжего? Где ж твоя квалификация?! Вас, засранцев, опекаешь и растишь, А вы, суки, нам мараете престиж! Ты ж, советский – ты же чистый, как кристалл: Начал делать, так уж делай, чтоб не встал!.. 351 «Верю в торжество слова» (Неопубликованное интервью А.Галича). Публ. А.Е.Крылов // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.I. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого,1997. 317 Советский обыватель высокого чиновного ранга, с его ментальностью, особенностями языковой личности, местом в общественной жизни, – «во весь рост» предстает в песенно-поэтическом цикле «Истории из жизни Клима Петровича Коломийцева, кавалера многих орденов, депутата горсовета, мастера цеха, знатного человека» (1968-1970). В качестве основного рассказчика выступает здесь советский партийный функционер, с которым и случаются «истории», иллюстрирующие как его тип сознания, языковую личность, так и общий климат брежневского времени. Авторское же, пронизанное тонкой иронией слово звучит прежде всего в развернутых заголовках песен («История о том, как Клим Петрович восстал против экономической помощи слаборазвитым странам» и др.). Жанровая пестрота этих песен (публичные выступления героя, исполняемая им «колыбельная» племяннику, откровенный неофициальный рассказ о загранпоездке, стилизованный под фольклор «плач» жены Клима «по поводу запоя ее супруга» и т. д.) предопределила многообразие речевых ситуаций, моделей речевого поведения персонажей в сферах их личной и общественной жизни. Открывающая цикл «История о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира» напоминает фарсовое действо и являет богатство галичевского поэтического идиостиля. Если вначале герой предстает в бытовой домашней обстановке и колорит его разговорной речи передан лексико-синтаксическими, интонационными средствами («у жене моей спросите у Даши», «начались у нас подначки да байки»), то с пятой строфы, когда Коломийцев попадает в сферу «обкомовского» официоза, меняется темпоритм, мелодический рисунок его речи,352 походящей теперь на «громогласное ораторство».353 Как видно в песне, беспомощный партийный язык паразитирует на сакральной церковнобогослужебной лексике: «В ДК идет заутреня // В защиту мира». Кульминацией становится пафосное выступление героя на митинге против «израильской военщины», оборачивающееся «театром абсурда»: «Как мать, – говорю, – и как женщина // Требую их к ответу!». Стилизованное под популярные для той эпохи «письма простых рабочих» выступление перемежается в песне с внутренней, уже лишенной партийного грима, речью героя, понимающего всю лживость ситуации («Это, сучий сын, пижон-порученец // Перепутал в суматохе бумажки!»), но поддерживающего ее своей серьезностью. 352 Оглоблина Н.М. Проблемы бытия в цикле стихотворений А.Галича «Истории из жизни Клима Петровича Коломийцева» // Философские аспекты культуры: материалы науч.-практич. конф. 1997 г. (секц. «Русская литература») / Под ред. Романовой Г.Р. Комсомольск-на-Амуре, 1998.С.98. 353 Фрумкин В. Не только слово: вслушиваясь в Галича // Заклинание Добра и Зла: Сб. / Сост. Н.Г.Крейтнер. М.,1991.С.233. 318 Мышление обывателя, подчиненное словесной безлепице лозунгов, которые знаменуют, с точки зрения поэта-певца, «полное разрушение слова»; порабощение сознания «бесовщиной всеобщей подмены» (Л.А.Аннинский354), – становятся главным объектом сатиры Галича. Предназначение же поэтического слова заключается, по убеждению барда, в освобождении личности от страха зависимости от шаблонов языка,355 порождающих обессмысленную реальность. Подобная внутренняя деформация неглупого по-своему Коломийцева под гнетом царящего в обществе конъюнктурного дискурса экивоков и недосказанностей очевидна и в «Избранных отрывках из выступлений…» героя. «Комическая выразительность неожиданной рифмы» (Ю.В.Мальцев356) («ЦК – чувака» и др.), тавтологические повторы –изнутри поэтического текста дискредитируют демагогическое косноязычие обывателя и значительной части социума: «Мы мыслим, как наше родное ЦК // И лично… // вы знаете – кто!..». Осевшие в глубинах массовой обывательской психологии, носителем которой и выступает Коломийцев, тоталитарные догмы формируют, как показывает Галич, трудно изживаемые мифы о себе и окружающей действительности, болезненные комплексы несвободного сознания («Из беседы с туристами из Западной Германии»). Но языковая личность Коломийцева интересна автору и тем, что в ней сквозь казенные штампы «осовеченного» языка прорывается живое проявление индивидуальности. В «Истории о том, как Клим Петрович добивался, чтобы его цеху присвоили звание «Цеха коммунистического труда»» в перипетиях борьбы героя с местной и столичной номенклатурой ради присвоения его цеху, производящему «проволоку колючую…на весь наш соцлагерь», высокого звания обнаруживаются, пусть в искаженном виде, русское правдоискательство, жажда абсолютной истины – независимой от «тонкой» партийной линии. Сотканная из диалогических реплик, ритмически вариативная речевая ткань песни являет причудливое совмещение официозного косноязычия и экспрессивных разговорных оборотов: А я говорю, Матком говорю: «Пойду, – говорю, – В обком!» – говорю. А в обкоме мне все то же: «Не суйся! Не долдонь, как пономарь поминанье! Ты ж партейный человек, а не зюзя, Должен все ж таки иметь пониманье!..». 354 Аннинский Л.А. Счастливая несчастная Россия Галича // Аннинский Л.А. Барды. М.,1999.С.103. «Верю в торжество слова» (Неопубликованное интервью А.Галича)… С.373. 356 Мальцев Ю.В. Менестрели // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.III.Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.301. 355 319 Оборотной стороной политизированного языка и мышления Коломийцева оказывается его глубинная неудовлетворенность советской действительностью. Это чувство проступает в «научно-фантастической истории», сочиненной Климом в виде колыбельной для племянника. В ее отнесенном к далекому будущему и облеченном в сказочную образность сюжете («в две тысячи семьдесят третьем году») просматриваются черты утопического мироощущения обывателя, который видит возможность осуществления «героических» лозунгов своей эпохи лишь в отдаленной перспективе. А потому звучание этих лозунгов в проникновенном повествовании героя обретает горькоироническую тональность, близкую скрытому в подтексте авторскому голосу: И робот-топтун, молчалив и мордаст, Мне пиво с горошком моченым подаст, И выскажусь я, так сказать, говоря: «Не зря ж мы страдали и гибли не зря!..». Реализуя свой талант вдумчивого и глубокого бытописателя действительности,357 Галич намеренно помещает своего героя в гущу не рассчитанной на полноценное существование человека советской повседневности («История о том, как Клим Петрович восстал против экономической помощи слаборазвитым странам»). Столкновение звучащего в заголовке официозного тезиса с бытовой неустроенностью оказавшегося заграницей советского обывателя выдает обветшание политических слоганов. Предвзятые представления персонажа о загранице («в отеле их засратом в «Паласе»») сталкиваются с реальным психофизическим состоянием Коломийцева, вынужденного ради экономии валюты питаться советской консервной «салакой» за «рупь четыре копейки». На речевом уровне это состояние проявляется в повышенной экспрессии словесных выражений героя: бранных оборотов, просторечных форм («до нутря просолюся»), индивидуального словообразования («с переляку положила мне одну лишь салаку»). Персонаж галичевских песен обнаруживает свою беспомощность в окружающем мире, и в этом смысле глубинное содержание сатиры Галича заключается в художественном раскрытии гибельного влияния тоталитаризма на индивидуальное мироощущение, языковую личность человека. Однако и в изуродованном, обманутом идеологией обывательском сознании Коломийцева поэт-певец – через симптоматичную «оговорку» героя – выявляет элементы трезвого, нелицеприятного понимания современности: «И вся жисть их заграничная – лажа! // Даже хуже, извините, чем наша!». Противостояние индивидуальной, в том числе и языковой, картины мира безликому тоталитарному стилю образует одну из острейших коллизий всего песенного творчества Галича. 357 Рассадин С.Б. Я выбираю свободу (Александр Галич). М.,1990.С.16. 320 Внутренний мир обывателя в изображении Галича приобретает объемную перспективу благодаря тому, что предстает не только в синхронном срезе советской действительности, но и в призме исторического опыта, связанного, в частности, с событиями революции, гражданской войны, а также со сталинскими и «оттепельными» десятилетиями, что получит масштабное лиро-эпическое осмысление в поэме «Размышления о бегунах на длинные дистанции (Поэма о Сталине)» (1968-1969), содержание которой весомо для понимания простонародного, обывательского сознания, отягченного грузом исторического опыта существования в Империи. В «Рассказе старого конармейца» (1970-1971) сказовое повествование бывшего борца «за пролетарский гуманизм» являет в цепи выразительных эпизодов исторические истоки крайнего сужения личности рядового «homo sovieticus», которая даже на вербальном уровне оказывается подчиненной идеологическим шаблонам: И так людям сказал комдив: «Плохое дело, братцы-конники, Позор и трепет не за грош! А гады лекари-законники Твердят, что тиф разносит вошь!..». <…> И только слово было сказано, Как понял я, что быть тому: Поймал жида четырехглазого – И утопил его в Дону… Наконец, в обобщенном виде образ обывателя, воплощающего покорность тоталитарной несвободе, в ряде песен Галича предстает в непосредственно авторском, сатирически заостренном слове – в «Балладе о чистых руках» (1968), «Песне без названия» (1968), стихотворении «Век нынешний и век минувший» (1968-1970). Нелицеприятному знанию о замалчиваемой исторической реальности («А танки идут по вацлавской брусчатке») противопоставлены здесь обывательские «премудрость жевать, и мычать, и внимать», способность «спать спокойно, опускать пятаки в метро»… В этических корнях общественного протеста поэта-певца таились истоки его глубинного, непримиримого конфликта с историческим временем: Так вот, значит, и спать спокойно, Опускать пятаки в метро?! А судить и рядить на кой нам? – «Нас не трогай – и мы не тро…». Нет! Презренна по самой сути Эта формула бытия! Те, кто выбран, те и судьи?.. Я не выбран. Но я – судья! («Песня без названия») 321 Итак, в многосложной галерее образов обывателей, составившей существенный пласт персонажного мира песенной поэзии А.Галича и явленной в богатстве жанрово-стилевых форм, обнаруживается характер трагедийного «прочтения» выдающимся бардом «текста» русской истории XX в. Постигая конкретные условия существования обывателя в семейно-бытовой, общественной, исторической жизни, рисуя его речевое поведение и психологический склад, Галич художественно исследовал иррациональное преломление официозных идеологем в массовом сознании, сферу народной «мифологии» советских десятилетий, что позволяло приблизиться к обобщениям о коренных чертах национальной ментальности, которые проступают в кризисные исторические эпохи. 322 2. Лиро-эпический масштаб видения мира. Тема памяти в поэзии А.Ахматовой и А.Галича Значительное место в русле целостного трагедийного осмысления истории и современности, составившего содержательный центр песенной поэзии А.Галича, занимают культурфилософские художественные рефлексии поэта, обращенные к самым различным творческим судьбам, образным мирам и эпохам. Творческая индивидуальность и жизненный путь А.Ахматовой не раз становились предметом изображения в стихах-песнях Галича. Во многом ориентируясь на опыт автора «Венка мертвым», Галич создал в цикле «Литераторские мостки» своеобразный «мартиролог» русских поэтов и писателей XX в. Художественная категория памяти в наследии двух поэтов многогранна: от индивидуально-личностного плана до памяти бытийного и историко-культурного значения. Тема памяти весома уже в ранней интимной лирике Ахматовой 1910-х гг. В стихотворении «В последний раз мы встретились тогда…» (1914) в пунктире припоминания, психологическом параллелизме проступают кульминационные моменты лирического переживания: «Как я запомнила высокий царский дом // И Петропавловскую крепость…».358 А в триптихе «В Царском Селе» (1911) интимное воспоминание о «смуглом отроке, бродившем по аллеям» сопряжено с предметной детализацией («треуголка и растрепанный том Парни») и обретает надвременный культурный смысл: «И столетие мы лелеем еле слышный шелест шагов». Во многих «лирических новеллах» молодой Ахматовой («Тяжела ты, любовная память…», «О тебе вспоминаю я редко…», «Словно ангел, возмутивший воду…» и др.) «ассоциативный механизм памяти становится сюжетным каркасом»,359 путем передачи любовного чувства, а в позднем стихотворении «Подвал памяти» (1940) овеществленный образ памяти как нравственного испытания прочности души предстает в развернутой метафоре: «Когда спускаюсь с фонарем в подвал, // Мне кажется – опять глухой обвал // За мной по узкой лестнице грохочет». В стихах «Белой стаи» наблюдается заметная онтологизация звучания темы памяти. Если в стихотворении «Как белый камень в глубине колодца…» (1916) сохранение в памяти «скорбного рассказа» о пережитой любви приобретает масштаб вечности, который раскрывается в таинственных метаморфозах всего сущего («Я ведаю, что боги 358 Тексты произведений А.Ахматовой приведены по изд.: Ахматова А.А. Собрание сочинений в двух томах. Том 1. М.,1990. 359 Кихней Л.Г. Поэзия Анны Ахматовой. Тайны ремесла. М.,1997.С.29. 323 превращали // Людей в предметы, не убив сознанья, // Чтоб вечно жили дивные печали. // Ты превращен в мое воспоминанье…»), то в стихотворении «И вот одна осталась я…» (1917) память впервые предстает у Ахматовой в религиозном аспекте – как поминовение. В народнопоэтической образности стихотворения, в картине мира, пронизанной тайными знаками памяти («И слышу плеск широких крыл // Над гладью голубой»), приоткрывается древний праопыт мистического общения с поминаемыми душами: «И песней я не скличу вас, // Слезами не верну. // Но вечером в печальный час // В молитве помяну…». Категория памяти становится существенной гранью интимной поэзии Ахматовой и Галича, ассоциируясь с лирической темой детства, юности, воспринимаемой обоими поэтами в качестве противовеса лютым испытаниям современности. В ахматовском стихотворении «Вижу выцветший флаг над таможней…» (1913) из возникшей в первой строке метонимической детали развертывается в призме памяти образ «приморской девчонки», а наложение времени севастопольского детства на тревожное мироощущение настоящего усиливает драматизм лирического переживания: «Все глядеть бы на смуглые главы // Херсонесского храма с крыльца // И не знать, что от счастья и славы // Безнадежно дряхлеют сердца». В IV главке и эпилоге поэмы «Реквием» подобное совмещение временных планов, антитеза беззаботной юности и катастрофической взрослой судьбы наполняется глубоко нравственным трагедийным смыслом. «Стояние под «Крестами»» – своего рода Высшее вразумление «насмешнице», «царскосельской веселой грешнице»; финальный же символический образ памятника приоткрывает нелегкую нравственную работу в душе героини, отобравшей то единственное, что достойно памяти, а значит, и вечности: «Ни около моря, где я родилась: // Последняя с морем разорвана связь… // А здесь, где стояла я триста часов…». Близкий смысл получает тема памяти о детстве и юности в таких произведениях Галича, как «Песня, посвященная моей матери» (1972), «Песня про велосипед» (1970), «Разговор с музой» (1968) и др.360 Память о детстве, осознаваемая поэтом-певцом как залог душевного просветления лирического «я», позволяет ощутить целостность и преемственность различных этапов жизненного пути: «В жизни прошлой и в жизни новой, // Навсегда, до конца пути, // Мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти!». Сам процесс обретения этой памяти оказывается для галичевского героя весьма напряженным, ибо к ней, как к «свече в потемках», он прорывается сквозь лживую действительность «жизни глупой и 360 Мысль о сближении А.Ахматовой и А.Галича в этом аспекте см.: Кулагин А.В. Детство как лирическая тема Александра Галича // Педагогические идеи русской литературы: Сб. ст. Коломна, 2003.С.221. 324 бестолковой». Возвращенный памятью заряд «детской» непосредственности придает барду-сатирику энергию в создании гротескного образа советской современности: И тогда, как свеча в потемки, Вдруг из давних приплыл годов Звук пленительный и негромкий Тростниковых твоих ладов. И застыли кривые рожи, Разевая немые рты, Словно пугала из рогожи, Петухи у слепой черты… («Песня, посвященная моей матери») Как и у Ахматовой, память о юности в стихах-песнях Галича образует сплав интимноличностного и эпохального. В «Разговоре с музой» лейтмотив возвращения в родной «дом у маяка» знаменует противостояние памяти тоталитарному беспамятству («Наплевать, если сгину в какой-то Инте»), прорыв – вопреки агрессивному нажиму современности – к бессмертию. Разговорные и даже сниженные речевые обороты естественно соединяются здесь с высокой патетикой, призванной и к сатирическому развенчанию «безразличного усердия» беспамятной эпохи, и к экстатическому утверждению силы памяти: Если с радостью тихой партком и местком Сообщат наконец о моем погребении, Возвратись в этот дом, возвратись в этот дом, Где спасенье мое и мое воскресение! В этом доме, В этом доме у маяка… В поэзии Ахматовой сближение интимной и исторической памяти все отчетливее обозначается с середины 1910-х гг. и оказывается перспективным для ее последующего творчества. Особенно значим в этом плане творимый Ахматовой «петербургский текст» («Стихи о Петербурге», «Петроград, 1919», «Городу Пушкина», «Летний сад» и др.). В ранних «Стихах о Петербурге» (1913) детализированный исторический портрет города, сквозное психологическое изображение «улыбки холодной императора Петра» становятся камертоном к лирической исповеди героини, сводя воедино мимолетное и величественномонументальное: «Что мне долгие года! // Ведь под аркой на Галерной // Наши тени навсегда». А в позднем диптихе «Городу Пушкина» (1945, 1957), стихотворении «Летний сад» (1959) в сфере воспоминания формируется надвременное онтологическое пространство. Это и воскрешение дорогих примет сожженного «города Пушкина», и преодоление, благодаря силе памяти, субъектно-объектных граней в картине мира, 325 запечатлевшей век прожитой жизни: «Где статуи помнят меня молодой, // А я их над невскою помню водой». Постигая, как и Галич, нравственную природу памяти, Ахматова расширяет свод личностных воспоминаний до архетипических обобщений («Лотова жена», 1924), до масштаба «страшной книги грозовых вестей» – как в стихотворении «Памяти 19 июля 1914» (1916), где в индивидуальных впечатлениях героини от дня объявления войны («Дымилось тело вспаханных равнин. // Вдруг запестрела тихая дорога, // Плач полетел, серебряно звеня») таится пророчество о народной судьбе. Долг памяти сопрягается в сознании ахматовской героини с системой нравственных императивов, побуждающих ее к активному духовному деянию – поминовению и осмысленной вербализации всего сохраняемого в памяти: «А вы, мои друзья последнего призыва! // Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. // Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, // А крикнуть на весь мир все ваши имена!» – «In memoriam», 1942). У Галича историческая память становится также серьезным личностным испытанием как для самого лирического «я», так и для его песенных героев. В «Петербургском романсе» (1968) в сфере памяти сопрягаются, как и в «эпической» поэзии Ахматовой,361 личность, век и история. В свете потрясений и сдвигов 1968-го историческая параллель с декабристским восстанием приобретает в песне характер нравственного испытания: «И все также – не проще – // Век наш пробует нас: // Можешь выйти на площадь?! // Смеешь выйти на площадь?!». А в песне «Смерть юнкеров, или памяти Доктора Живаго» (1972) историческая память о днях революционного лихолетья запечатлевается в детально прописанном эпизоде («Повозки с кровавой поклажей // Скрипят у Никитских ворот») и обогащается творческим диалогом с образным контекстом романа Б.Пастернака и поэзии А.Блока: Опять над Москвою пожары, И грязная наледь в крови… И это уже не татары, Похуже Мамая – свои! Приобретая особую достоверность во взволнованном «повествовании», эта память разбивает ложь предвзятого исторического «рассказа о днях мятежа»: «А суть мы потом наворотим // И тень наведем на плетень!». 361 Клинг О.А. Своеобразие эпического в лирике А.Ахматовой // Царственное слово. Ахматовские чтения. Вып.1. М.,1992.С.59-70. 326 В художественном сознании Ахматовой и Галича весома антитеза выстраданной в индивидуальном опыте памяти – и беспамятства тоталитарной эпохи, энтропии времени исторических катастроф. У Ахматовой впервые эта оппозиция прочерчивается в стихотворении «Когда в тоске самоубийства…» («Мне голос был…») (1917), где спор проникнутого «скорбным духом» лирического голоса с безликим «чужим словом» увенчивается отвержением пути беспамятства, забвения («новым именем покрою боль поражений и обид») и получает значимый историко-культурный смысл, ибо проистекает на фоне торжествующей энтропии: «И дух суровый византийства // От русской церкви отлетал»; «приневская столица, забыв величие свое…». А в ахматовской лирике военных лет, где важна идея творческого «собирания» раздробленного мира,362 память насыщается культурфилософским смыслом, воплощаясь в сакральном Логосе, противостоящем беспамятству: «И мы сохраним тебя, русская речь, // Великое русское слово…». У Галича же, который не раз высказывался в интервью о происходящем в советской действительности разрушении памяти русского языка,363 – в глубоко автобиографичном стихотворении «А было недавно, а было давно…» (1974) возникает знаменательная перекличка с ахматовским «Мужеством» (1942). Тема памяти как нерушимого Логоса, «закаленного» в горниле исторических потрясений, спроецирована здесь на судьбы русской эмиграции, увидена в зеркале трагической панорамы века: Вы русскую речь закалили в огне, В таком нестерпимом и жарком огне, Что жарче придумать нельзя. И нам ее вместе хранить и беречь, Лелеять родные слова. А там, где жива наша Русская Речь, Там – вечно – Россия жива!.. Противостояние памяти беспамятству оказывается художественным «нервом» многих стихов-песен Галича.364 Это возвращение в народную память знания о лагерной действительности – например, в стихотворении «Летят утки» (1969) или песне «Облака» (1962), где, как и у поздней Ахматовой, человеческая память окрашивает собой природное мироздание, хранящее трагические письмена истории: «И нашей памятью в те края // Облака плывут, облака…». А в песне «Ошибка» (1962), «Балладе о Вечном огне» (1968), «Песне о твердой валюте» (1969) ценой колоссальных душевных усилий герой пытается 362 Кихней Л.Г. Указ.соч. С.73-121. Галич А. Два интервью 1974 года. Публ. К.Андреева // Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., 2001.С.204-217. 364 Фризман Л.Г. «С чем рифмуется слово истина…». О поэзии А.Галича. М.,1992.С.44-45. 363 327 восстановить первозданную память о военном прошлом, свободную от официозного грима. «Баллада о Вечном огне» выстроена как горестное сказание о войне, где, в противовес тоталитарной амнезии («Но порой вы не боль, а тщеславье храните, // Золоченые буквы на черном граните»), – на первый план выдвигается масштаб индивидуальных, покореженных войной судеб: Пой же, труба, пой же, Пой о моей Польше, Пой о моей маме – Там, в выгребной яме!.. Безликой монументальности советского стиля здесь противопоставляется глубоко личностное и одновременно эпически масштабное сказовое повествование, где меняющийся ритмический рисунок (от протяжных анапестических строк до логаэдов и динамичного ямба), сочетание песенного и речитативного, непременно обращенного к слушателям исполнения («не забудьте, как это было»), контраст трагедийного звучания основных строф и рефрена, взятого из изначально мажорной песни, – доносят до воспринимающей аудитории саднящую, «неудобную», но необходимую обществу историческую память: «Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка, Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка, Тум-балалайка, шпилт-балалайка…». Рвется и плачет сердце мое! …А купцы приезжают в Познань, Покупают меха и мыло… Подождите, пока не поздно, Не забудьте, как это было: Как нас черным огнем косило, В той последней, слепой атаке… Лиро-эпическая природа творческого дарования Ахматовой и Галича, взаимопроникновение индивидуальной и общенациональной памяти в их произведениях обусловили во многом сходные жанровые искания двух художников в сфере большой поэтической формы: поэмы и лирического цикла. В поэмах-реквиемах Ахматовой и Галича («Реквием» и «Кадиш»365) осуществлен синтез интимного лиризма и эпического обобщения о народной судьбе. Многоплановость художественной категории памяти в поэме Ахматовой сопряжена с противостоянием героини соблазну беспамятства, который она мучительно вытравляет 365 « «Кадыш» – это еврейская поминальная молитва, которую произносит сын в память о покойном отце» (А.Галич Указ.соч.С.467). 328 из собственной души, видя в нем угрозу безумия («надо память до конца убить» (VII гл.) – «боюсь забыть» в эпилоге), и которому она бросает вызов как порождению тоталитаризма: «Хотелось бы всех поименно назвать, // Да отняли список, и негде узнать». Если у Ахматовой безликость и беспамятность давящей Системы передаются через «анонимные» метонимические образы366 («кровавые сапоги», «шины черных марусь»), то в поэме Галича это осуществляется в экспрессивном изображении знаков псевдопамяти: «Гранитные обелиски // Твердят о бессмертной славе, // Но слезы и кровь забыты…». Личностная экзистенция героини «Реквиема» получает бытийное расширение в мистической причастности печали стоящей у Креста Богоматери, горю «безвинно корчившейся Руси»; энергию своего голоса она обретает в соединении с голосом, «которым кричит стомильонный народ». В поэтическом же реквиеме Галича, увековечившем трагические страницы польского антифашистского сопротивления, речевое пространство лирического монолога вбирает в свою орбиту и фрагменты дневника Корчака – польского врача, которому посвящена поэма, и голоса жертв оккупации, которые в завершающей части произведения звучат уже из «посмертья»: «Но – дождем, но – травою, но – ветром, но – пеплом // Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!..». Вводная часть поэмы Ахматовой, отразившая трагедию личности в беспамятную эпоху, выделена из остального текста прозаической формой, прозаические «вкрапления» пронизывают все у Галича же подобные произведение и также являются своеобразным ритмическим и смысловым «курсивом», которым подчеркнуты либо значимое «чужое» слово (дневник Корчака), кульминационные повороты в сюжетном движении, либо прямые авторские обращения к аудитории, усиливающие как историческое, так и бытийное звучание темы памяти: «Когда-нибудь, когда вы будете вспоминать имена героев, не забудьте, пожалуйста, я очень прошу вас, не забудьте Петра Залевского, бывшего гренадера, инвалида войны, служившего сторожем у нас в «Доме сирот» и убитого польскими полицаями осенью 42-го года». Таким образом, личностная память перерастает в лиро-эпических поэмных полотнах двух художников в тему национально-исторического, бытийного и даже мистического содержания. Важным аспектом анализируемой темы стала в произведениях Ахматовой и Галича и творческая память о Поэте, духовным усилием сберегаемая в эпоху всеобщего забвения. 366 Кормилов С.И. Поэтическое творчество Анны Ахматовой. М., 2000.С.90. 329 В раннем стихотворении Ахматовой «Я пришла к поэту в гости…» (1914) сохраненный в индивидуальной памяти лирический портрет Блока обретает надличностный смысл («У него глаза такие, // Что запомнить каждый должен»), а в позднем миницикле «Три стихотворения» (1944-1960) память о «трагическом теноре эпохи», представая в «интерьерах» шахматовского хронотопа, погруженного в ночной мрак Петербурга, – углубляется многоплановыми интертекстуальными связями с блоковской поэзией: «Он прав – опять фонарь, аптека…». В трех частях этого цикла высветились начала и концы блоковского Пути и слитая с ними память о перепутьях России рубежа веков. Поминовение ушедших поэтов воспринимается поздней Ахматовой как нравственнорелигиозный императив. Бытийный смысл этой «тайной тризны» раскрывается в «Царскосельский строках» (1921), а также в «поминальном» цикле «Венок мертвым» (1938-1961), перекликающемся с создававшимися в конце 1960-х – начале 1970-х гг. «Литераторскими мостками» Галича. Стихотворения из «Венка мертвым», обращенные к И.Анненскому, О.Мандельштаму, М.Цветаевой, Б.Пастернаку, М.Булгакову, М.Зощенко и др., запечатлели общее для многих из них родовое древо художественной культуры Серебряного века – от «учителя» Анненского до «собратьев» по постсимволистскому «цеху». Творческая память автора, отраженная в интертекстуальном пространстве цикла, вбирает в себя полифонию лирических голосов, образных миров поэзии Цветаевой («Поздний ответ»), Мандельштама («Я над ними склонюсь, как над чашей…»), Пастернака («Борису Пастернаку»). Это поминовение, позволяющее вступить в таинственное соприкосновение с душами ушедших из жизни адресатов – уже на «воздушных путях» иного бытия, – осуществляется посредством глубокого проникновения в ритмы природного мироздания: «Он превратился в жизнь дающий колос // Или в тончайший, им воспетый дождь…» («Борису Пастернаку»); «Темная, свежая ветвь бузины… // Это – письмо от Марины» («Нас четверо»); «Это голос таинственной лиры, // На загробном гостящей лугу…» («Я над ними склонюсь…»). Диалогическая природа творческой памяти обнаруживается и в стихах-песнях Галича, особенно из цикла «Литераторские мостки», где память культуры, проявившаяся, как и в «поминальном» цикле Ахматовой, в многоплановой интертекстуальной поэтике (от эпиграфов до цитатных вкраплений, образных перекличек), – оказывается мощным противовесом тоталитаризму.367 367 Свиридов С.В. «Литераторские мостки». Жанр. Слово. Интертекст // Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.99-128. 330 Ахматову и Галича сближает заметная общность в самом выборе «героев» поминальных стихотворений. В цикле Галича выстраивается поэтический «мартиролог» русских художников XX в. – в стихотворениях «Памяти Б.Л.Пастернака» (1966), «Возвращение на Итаку» (1969; с эпиграфом из Мандельштама), «На сопках Маньчжурии» (1969; посвящено памяти Зощенко) и др. В сопоставлении с «реквиемами» Ахматовой, у Галича значительно повышен удельный вес гражданских инвектив, направленных и против Системы, и против молчаливого «голосования» в угоду власти, пассивного «опускания пятаков в метро». Память для Галича – не только сакральное действо, нравственный долг сохранения Слова («Но слово останется – слово осталось!»), но и мощное оружие нравственного возмездия, путь к нелицеприятному осмыслению исторического опыта, конкретных эпизодов травли поэтов: И кто-то спьяну вопрошал: «За что?.. Кого там?..», И кто-то жрал, и кто-то ржал Над анекдотом… Мы не забудем этот смех И эту скуку: Мы – поименно – вспомним всех, Кто поднял руку!.. Особенно значимо у Галича и художественное обращение к личности Ахматовой. В стихотворении ««Кресты», или снова август» звучащий в реминисценциях голос героини («Прости, но мне бумаги не хватило…»), характерные детали ее портрета («по-царски небрежная челка») помогают воочию лицезреть трагическую судьбу поэта – то, как «ходила она по Шпалерной, // Моталась она у «Крестов»». Роковой в жизни Ахматовой август становится здесь символичным временным образом, эпохальным обобщением и ее судьбы как человека, художника («Но вновь приходит осень – // Пора твоей беды!»), и исторической реальности XX в. в целом: произведение датировано переломным августом 68-го… В стихотворении «Занялись пожары» (1972) связь с образным контекстом поэзии Ахматовой углубляется. Эпиграф из ее пророческих стихов, написанных на заре катастрофического столетия («Июль 1914»), задает доминанту всему образному ряду: Пахнет гарью. Четыре недели Торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, И осина уже не дрожит… Образы гари, пожара в контексте произведения Галича воплощают агрессивное стремление тоталитарного века уничтожить творческую память («И мы утешаем своих 331 Маргарит: // Что рукописи не горят»); от ахматовского 1914 года протягивается нить к брежневской современности, мучительно переживаемой самим поэтом-певцом: И опер, смешав на столе домино, Глядит на часы и на наше окно. Он, брови нахмурив густые, Партнеров зовет в понятые. Катастрофические перипетии поединка поэта с эпохой отобразились в стихотворении «Без названия» (1972-1973). Эпиграф из ахматовской «Славы мира» предваряет здесь авторские размышления о творческой, в буквальном смысле – языковой трагедии поэта: «…это не совесть, а русская речь // Сегодня глумится над нею». Проникновенное вчувствование в потрясенное состояние героини усиливается благодаря параллельному изображению лагерной участи ее сына («И сын ее вслед уходившим смотрел – // И ждал этой самой строки!») и детальному прописыванию самой сцены создания прославляющих Сталина стихов: Торчала строка, как сухое жнивье, Шуршала опавшей листвой… Но Ангел стоял за плечом у Нее И скорбно кивал головой… Таким образом, ахматовский «текст» поэзии Галича, став актом творческой преемственности, соединил изображение личности Ахматовой, ее противоречивой и трагической судьбы с эпохальными обобщениями, касающимися отношений Поэта и Времени в XX в. Важной для Ахматовой и Галича оказывается онтология творческой памяти.368 В ахматовском стихотворении «Данте» (1936) память поэта о родной, изгнавшей его земле оказывается нелегким крестом и бытийным даром, простирающимся в посмертную сферу: «Он из ада ей послал проклятье // И в раю не мог ее забыть». А в поздней философской миниатюре «Надпись на книге» творческий дух автора генерирует неодолимую силу сопротивления энтропийным веяниям современности («Из-под каких развалин говорю…») и массовому беспамятству: «Но все-таки услышат голос мой // И все-таки опять ему поверят». У Галича онтология творческой, исторической памяти также окрашивается в трагедийные тона. Сквозной коллизией в стихотворениях «Черновик эпитафии» (1971), «Когда-нибудь некий историк…» (1972) становится упорное сопротивление художника в борьбе с жерновами времени и беспамятства. Невольно вторя ахматовским стихам, герой 368 Симченко О.В. Тема памяти в творчестве А.Ахматовой // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1985.Т.44. №6. С.506-517. 332 поэзии Галича устремляется на суд вечности, смело переступая через неправый суд «историка», втискивающего человеческую судьбу в прокрустово ложе бессодержательной «сноски»: «Но будут мои подголоски // Звенеть и до Судного дня!.. // И даже не важно, что в сноске // Историк не вспомнит меня». А в поэтической притче «Виновные найдены» (1966) образ «украденной» памяти являет частую дезориентированность как современников, так и личности вообще, в историческом пространстве и духовно-нравственной сфере – проблема, обретающая здесь не только острый общественно-политический, но и надвременный, онтологический смысл: Хоть всю землю шагами выстели, Хоть расспрашивай всех и каждого: С чем рифмуется слово «истина», Не узнать ни поэтам, ни гражданам! Итак, тема памяти в творчестве Ахматовой и Галича весьма многопланова. Она предстает в ракурсе как интимной, так и гражданской лирики, выводит на глубинное постижение ритмов исторического бытия личности и поэта в XX в. Память обретает в произведениях двух поэтов и сакральный смысл, ассоциируясь с религиозным поминовением (явным у Ахматовой и в большей степени имплицитным у Галича), с апелляцией к надвременному суду истории. Движимые пафосом сохранения культурной преемственности вопреки торжеству массовой амнезии, Ахматова и Галич, поэты с развитым эпическим мышлением, сблизились в «интертекстуальной» поэтике памяти, в жанровых исканиях, создав свои поэмы-реквиемы и поминальные лирические циклы. Поддержание преемственных связей в поэтической культуре XX века подкрепляется здесь и тем, что судьбы Ахматовой и ее величайших современников получили в песенно-поэтическом мире Галича глубокое творческое осмысление. 333 3. Открытие большой поэтической формы. Пушкинские «обертоны» в песенной поэме Галича «Размышления о бегунах на длинные дистанции (Поэма о Сталине)» Песенно-поэтическое наследие Александра Галича опирается на широкий круг культурных ассоциаций. Это обнаруживается в сатирических произведениях, художественных рефлексиях о судьбах творческой индивидуальности в различные эпохи («Литераторские мостки», «Александрийские песни»), в разноплановых историософских и культурологических интуициях поэта. Многомерность диапазона творческой мысли барда предопределила и его поиски в сфере лиро-эпической формы, нашедшие художественное воплощение в уникальном жанре «поэмы в стихах и песнях»: «Размышления о бегунах на длинные дистанции (Поэма о Сталине)» (1968-1969); «Кадиш» (1970); «Вечерние прогулки» (1970-1971). «Поэма о Сталине», насыщенная глубинным историко-культурным смысловым потенциалом, сводит в едином художественном пространстве далекие века и эпохи, от времен евангельского Вифлеема до тоталитарной сталинской и послесталинской действительности, и при этом активно взаимодействует с предшествующей литературной традицией – в частности, с образным миром и проблематикой исторических произведений А.С.Пушкина: трагедии «Борис Годунов» и поэмы «Медный всадник».369 Появляющийся в первых же сценах произведения узнаваемый образ вождя («кавказские явились сапоги») пронизан скрытыми ассоциациями с Великим Инквизитором и олицетворяет своим явлением противовес вифлеемскому Рождеству. В главе «Клятва вождя» разворачивается напряженная «драматургия» спора-обращения героя ко Христу, итогом которого становится стремление воздвигнуть на месте христианской нравственности культ «человекобожества», претендующего на «вечность царствия», обуздание мировых стихий: Был Ты просто-напросто предтечей, Не творцом, а жертвою стихий. Ты не Божий сын, а человечий, Если мог воскликнуть: «Не убий!». <…> В мире не найдется святотатца, Чтобы поднял на меня копье! 369 См. предварительные замечания о перспективности данного сопоставления: Зайцев В.А. «Поэма в стихах и песнях». О жанровых поисках в сфере большой поэтической формы // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. IV / Сост. А.Е.Крылов, В.Ф.Щербакова; ГКЦМ В.С.Высоцкого. М., 2000. С.370, 374. 334 Если ж я умру (что может статься), Вечным будет царствие мое! По мысли архиепископа Иоанна Сан-Францисского, «стержень Поэмы – попытка борьбы с Богом смертного человека. Восставший на Бога и на Христову правду человек олицетворяется в образе нового ирода, увидевшего в Вифлееме Богомладенца».370 Образ правителя раскрывается Галичем и Пушкиным – особенно в «Борисе Годунове» – в ракурсе как могущественной власти, которая кажется ему всесильной и вечной, так и страдания от тяжести греха и человеческой немощи. С этой точки зрения у Галича глава «Подмосковная ночь», рисующая в уединенных монологах вождя его нравственные терзания, вступает в знаменательную перекличку с тремя ключевыми монологами пушкинского Годунова, прозревающего духовные истоки не проходящей душевной боли. В поэме Галича муки вождя «в бессонную, в одинокую эту ночь» обусловлены глубинным отчуждением человека-«монумента» от бытия, забвением им естественных сердечных привязанностей: «Вокруг потемки, // И спят давно // Друзья-подонки, // Друзьяговно». У Галича и Пушкина подробно прочерченная психологическая детализация (ср. Сталин в тягостных раздумьях о «жестокой судьбе»: «И, как будто стирая оспины, // Вытирает он пот со лба» – и Годунов при разговоре с патриархом о мощах царевича: «Крупный пот с лица его закапал»), проникновение в потаенное, сновидческое измерение личностной экзистенции правителей обнажают существо разъедаемой терзаниями греховной власти. Важным эпизодом в поэме Галича становится «сюрреальное» видение Сталину погубленного им старого друга Серго Орджоникидзе («Что стоишь ты там, за портьерою?»). Тяжелейшие угрызения совести вождя не ведут здесь, как и у Годунова, к очищающему покаянию, но на время заглушаются всепроникающим звучанием лживого языка эпохи репрессий и доносов. Это противоречивое сочетание трагедийных душевных переживаний и тоталитарной агрессивной безликости ярко передается в поэме на лексико-синтаксическом и ритмическом уровнях: Эту комнату неказистую Пусть твое озарит лицо. Ты напой мне, Серго, грузинскую – Ту, любимую мной, кацо… <…> Повсюду злоба, Везде враги. Ледком озноба – Шаги, шаги… 370 Иоанн С.-Ф., архиеп. Предисловие к сборнику «Поэма России» // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. II. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1998. С.446. 335 В монологах же пушкинского Годунова «Достиг я высшей власти…», «Ух, тяжело!.. дай дух переведу…» онтологическая проблематика сопряжена с познанием не искореняемой внешними способами тяжести нераскаянного греха: ни попыткой оправдать себя «благотворной» государственной деятельностью, ни обвинениями в адрес «черни»: «Ни власть, ни жизнь меня не веселят; // Предчувствую небесный гром и горе…». Как впоследствии герой поэмы Галича выставит против потрясшего душу видения броню жесткого рационализма, так и Годунов убеждает себя в пустой призрачности «тени», «бессильной» перед его гордой властью: Ужели тень сорвет с меня порфиру, Иль звук лишит детей моих наследства? Безумец я! чего ж я испугался? На призрак сей подуй – и нет его.371 Примечателен параллелизм и в обращениях героев Пушкина и Галича к Богу. В предсмертном монологе Годунова («Умираю…») наметившееся было исповедальное воззвание к Творцу резко прерывается из-за роковой боязни сокрушенного покаяния и трансформируется в царственно-гордое напутствие сыну: Ты царствовать начнешь… О Боже, Боже! Сейчас явлюсь перед Тобой – и душу Мне некогда очистить покаяньем. В проникнутой же гордым, болезненным духом «молитве» советского вождя механистически произнесенное «Спаси… Прости…» продиктовано не раскаянием, но мольбой продлить земные сроки, судорожным страхом смерти, утраты «вечного царствия» земного, «мира, во славу гремевшего маршами»: «…Молю, Всевышний, Тебя, Творца: На помощь вышли Ко мне гонца! О, дай мне, дай же Не кровь – вино… Забыл, как дальше… Но все равно Не ставь отточий Конца пути! Прости мне, Отче, Спаси… Прости…». В произведениях Пушкина и Галича конкретно-историческое и одновременно мистическое осмысление гибельной изнанки вековых личин русского тоталитаризма сопряжено и с тем, что греховность власти ложится тягостным бременем на народное 371 Тексты А.С.Пушкина приведены по изд.: Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. Т.2. М.,1986. 336 бытие и сознание. Относящееся к пушкинской трагедии суждение современного исследователя о том, что «русское государство и русский народ предстают как придавленные и травмированные преступностью, порожденной деяниями Бориса Годунова, а позже – и Григория Отрепьева»,372 приложимо с поправкой на иной исторический контекст и к содержанию песенной поэмы Галича. В четвертой главе «Поэмы о Сталине» («Ночной разговор в вагоне-ресторане») звучит исповедь бывшего зека – «маленького» человека Системы, вынесшего на себе груз сталинских лагерей. Болезненные мутации порабощенной тоталитаризмом личности особенно наглядно проступают в символической сцене санкционированного «сверху» сноса заключенными статуи «Отца и Гения» в ночь после решений XX съезда – сцене, напрямую соотносимой с образным рядом «Медного всадника». У Пушкина и Галича рисуется сходный фон при изображении монумента: в «Медном всаднике» это зловещая «окрестная мгла», символизирующая непостижимую, иррациональную стихию природы и истории, над которой не властен даже «кумир на бронзовом коне», а в поэме Галича эпизод подневольного разрушения статуи окрашен в апокалипсические, инфернальные тона: «Ты представь: метет метель, // Темень, стужа адская…». Символичны у обоих поэтов и совмещение точек зрения на историческую реальность – «маленького» человека и вождя; перерождение живого облика правителя в бездушное окаменевшее изваяние («Живому противопоставлено мертвое, выступающее в своем забронзовевшем величии»373) и, что особенно существенно, сцены встречи человека с оживающим на глазах памятником. Пушкинский Евгений с надрывом распознает в детально выписанных поэтом чертах бронзового истукана (лицо «грозного царя, мгновенно гневом возгоря») квинтэссенцию собственной боли и народной трагедии, а гротескная сцена «погони» во многом «открывает фантастику безумия в самой русской действительности»,374 с ее вековыми тоталитарными тенденциями и неизбывной внутренней зависимостью простонародного сознания от «кумира» недосягаемой власти. В поэме Галича герой уже на наследственном уровне отягощен памятью о духе «ломок», демонтаже ассоциирующихся с определенной системой ценностных ориентиров «памятников» – как знамении вывихнутого времени XX в.: «Слышал от родителя, // Как родитель мой ломал // Храм Христа Спасителя…». Разрушение каменного Гения 372 Хализев В.Е. Власть и народ в трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов» // Вестник МГУ. Сер.9. Филология. 1999. №3. С.9. 373 Макогоненко Г.П. Творчество А.С.Пушкина в 1830-е гг. (1833-1836). Л., 1982.С.172. 374 Там же.С.182. 337 оборачивается непоправимой травмой для впавшей в зависимость от официозных догм народной души: это видно и в речи лагерного «кума», с неподдельной «мукою» говорящего об антисталинских разоблачениях XX съезда, подобных для него крушению вселенной («Оказался наш Отец // Не отцом, а сукою…»), и в переживаниях самих заключенных («ревмя ревем»), объективированных в голосе статуи. Гротескнофантастический мотив властного «голоса каменного» ожившей статуи воплощает длящееся господство тоталитарного окаменения над массовым сознанием375, чающим, однако, как показали и Галич, и автор «Бориса Годунова», найти непреложную истину в истории376 (ср. связанное с образом «памятников» метаисторическое обобщение в стихотворении Галича «Ночной дозор» (1964): «Пусть до времени покалечены, // Но и в прахе хранят обличие. // Им бы, гипсовым, человечины – // Они вновь обретут величие!»): А это ж – Гений всех времен, Лучший друг навеки! Все стоим ревмя ревем – И вохровцы, и зеки. Я кайлом по сапогу Бью, как неприкаянный, Но внезапно сквозь пургу Слышу голос каменный: «Был я Вождь вам и Отец… Сколько мук намелено! Что ж ты делаешь, подлец? Брось кайло немедленно!»… Пророчески предощущавшаяся Пушкиным опасность «узды железной» для скачущего «гордого коня» национальной истории проецируется в поэзии Галича на углубленный художественный анализ мироощущения личности, живущей в несвободной атмосфере советской современности. Как и у Пушкина, образный ряд поэмы барда основан на сопряжении реалистического изображения и условно-фантастических, гротескных форм, что выводит художественную реальность на уровень эпохальных обобщений. Примечательно, что если в финале «Медного всадника» звучит авторский лирический голос, акцентирующий внимание на масштабе частной человеческой судьбы, ее весомости в истории, то в заключительной части и эпилоге «Поэмы о Сталине» Галич, обнаруживая поистине вселенский горизонт художественного зрения («Тени всех Бутырок и Треблинок, // Всех измен, предательств и распятий!»), выступает с позиций защиты 375 Фризман Л.Г. «С чем рифмуется слово истина…». О поэзии А.Галича. М., 1992.С.38. «Ведущая тема пушкинской трагедии – это непримиренность народа с той властью, которая пятнает себя неправдой, своекорыстием, злодеяниями» (Хализев В.Е. Указ.соч. С.22). 376 338 человеческой личности, бесстрашно отстаивающей себя на «неисповедимых дорогах зла» утопических социальных экспериментов: Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, Не бойтесь пекла и ада, А бойтесь единственно только того, Кто скажет: «Я знаю как надо!». Кто скажет: «Всем, кто пойдет за мной, Рай на земле – награда!»… Отметим в заключение, что пушкинские «подтексты» в поэме Галича расширяют ассоциативное поле произведения поэта-певца, делая его прозрения о метафизике власти в России, феномене «вождизма», об исконных чертах национальной ментальности укорененными в вековой литературной традиции – на уровне как социокультурной и нравственно-философской проблематики, так и конкретных художественных решений. 339 «Снятие страха смехом». Юлий Ким IV. 1. Сатирические стихи-песни Кима (поэтика жанровых форм) Вольный, неподцензурный дух авторской песни, ориентация на неформальное общение с аудиторией предопределили ее глубинную причастность смеховой культуре. Сатирическая направленность ярко проявилась в песенной поэзии В.Высоцкого, А.Галича, А.Дольского, Ю.Кима, И.Талькова и др. и была тесно связана как с социальной заостренностью, так и с философскими аспектами их произведений. В творчестве Юлия Черсановича Кима (род. в 1936) песенно-поэтическая сатира занимает одно из центральных мест и характеризуется разнообразием жанровых решений. «Веселая популярность» (Л.А.Аннинский) кимовских стихов и песен 1960-1990-х гг. была обусловлена тем, что в них «чувствовался неистощимый заряд, заводной нрав человека, докапывающегося до истины»,377 а также органичным соединением жесткой сатиры и скрытых источников лиризма, неординарностью художественного познания общественного бытия и ментальности человека тоталитарной эпохи. По убеждению самого поэта, стихию «самодеятельной», авторской песни непременно «отличает родовой признак интеллектуального духа – ирония. И – реже – самоирония».378 В жанровом отношении ранняя песенная сатира Кима прорастала на почве незамысловатых бытовых, пейзажных зарисовок. Иронический колорит песни «В Коктебеле, в Коктебеле…» (1963) окрашивает изображение нежащегося «у лазурной колыбели… цвета литературы СССР» и парадоксальным образом фигуру самого повествователя-песенника, относящего себя к тем, кто «из подлейшей жажды мести // Сочиняют эти песни, // А потом по всей стране со злобою поют…». А комический эффект «Весенней песенки, или 8 марта 1963 года» (1963) связан с вживанием поэта во внутреннее пространство слова, каламбурной игрой с социально-политическими составляющими его значения. Разоблачающая ложь хрущевской «оттепели» сатира Кима преломляется в эзоповом языке, контрастах между официозной стилистикой («запомни же, товарищ…») и неформальным, подчас сниженноразговорным обращением к «узкому кругу». Двухголосое, нередко пародийно-цитатное, 377 Аннинский Л.А. Барды. М.,1999. С.122. Здесь и далее тексты Ю.Кима приведены по изданию: Ким Ю.Ч. Сочинения: Песни. Стихи. Пьесы. Статьи и очерки / Сост. Р.Шипов. М., Локид, 2000. 378 340 всегда ускользающее от однозначной трактовки художественное слово Кима подчеркивает активное присутствие повествователя в пространстве «комического сказа»: Среди неба ясного грянул первый гром, Все кипит и пенится, как будто старый ром. Весенний шум, зеленый шум идет себе, гудет, Как сказал Некрасов – но не тот!.. … Запомни же, товарищ, если ты не пень, Первый наш весенний праздник, то есть Женский день. Против формалистов, сионистов и проныр Пусть ведет нас новый-новый-новый мир!.. Значимым для сатиры Кима явилось взаимодействие с эпическим родом, проявившееся в таких жанровых образованиях, как песенное сказание о прошлом («Сказание о Петре Якире», «Краткий исторический обзор») и сатирическая «мининовелла» («Волшебная сила искусства», «Блатная отсидентская», «Кадриль для Матиаса Руста»). «Сказание о Петре Якире, который родился в 1923 году, а сел в 1937-м» (1964) отразило, по признанию автора, «трагические парадоксы» советской истории и современности, абсурдность действия репрессивного аппарата. Элементы стилизации под старинное историческое сказание заметны в развернутом заглавии, нарративных особенностях, благодаря которым возникает параллель между современным тоталитаризмом и древними архетипами сознания: «Три тыщи лет тому // У племени муму // Обычай был дарить детей языческому богу…». Трагикомическое звучание «сказания» обусловлено здесь стилевой игрой на уровне общей композиции, где обличающее, трагедийное в своих глубинах слово повествователя пародийно передает гротескную «логику» самого режима ( «Четырнадцати лет, // Пацан еще и шкет, // А он уже политбандит…») и неожиданно оборачивается перетекстованными строками популярной детской песенки, увенчанными виртуозным обыгрыванием омофонов: Тра-та-та, тра-та-та, Волоки в тюрьму кота. <…> Вот компания какая, Вот кампания какая Была проведена. Ассоциирующийся по названию с партийным «Кратким курсом…» кимовский «Краткий исторический обзор» (к 50-летию Октябрьской революции) (1967) ориентирован на познание прошлого и современности сквозь призму истории рода, его послереволюционой судьбы в трех поколениях. Рассказанная самым младшим его представителем – «ролевым» героем, носителем крайне политизированного сознания, 341 утратившего систему общечеловеческих ценностей, эта история предстает в своей гибельной антипреемственности, как цепь доносов младшего брата на старшего, сына на отца… Сплав народно-просторечной лексики рассказчика с воспроизведенными им строками из доносов – «голосами» времени, с демагогической фразеологией способствует точной передаче духа несвободной эпохи, менталитета многих ее «героев»: И тому уж тридцать лет, Как исчез родной мой дед За свое троцкистское родство. «У кого есть партия – Для чего тому семья!» – Так в доносе папы моего. Показательны для сатиры Кима и его песни – «мининовеллы», которым присуща динамичность сюжетного действия. Так, песня «Волшебная сила искусства» (1991) обращена к вековой для русской культуры коллизии «художник – власть» и представляет поистине остросюжетное повествование о просмотре «царем-батюшкой» премьеры пьесы Капниста, в ходе которого судьба «русского Ювенала» в прямом смысле балансирует на грани жестокой сибирской ссылки и царского благоволения. Иронический подтекст присутствующего в названии эпитета, сложные сюжетные перипетии, компактно ограниченные при этом временем действия пьесы, привносят в изображаемое абсурдистские штрихи: «Да! Испарился царский гнев уже в четвертом акте, // Где змей порока был и не сумел уползть…». Песни «Блатная отсидентская» (1979), «Кадриль для Матиаса Руста» (1987) спроецированы на советскую действительность. Первая из них является своего рода сатирическим «гимном» Лубянке и ее представителям – вплоть до «загадочной русской души» дворника дяди Федора; новеллистичным, выдержанном в «блатной» стилистике рассказом о диссидентских «делах» героев, в ходе которого раскрывается специфика их сознания, мироощущения маргиналов в Системе: «Ночами наша «Оптима» гремела, // Как пулемет, на всю Москву». В «Кадрили для Матиаса Руста» (1987) запечатлен официально замалчивавшийся трагикомический эпизод «перестроечного» времени, а сюжетная динамика сопряжена с парадоксальным ощущением идущего от «молодца Матюши Руста» веяния свободы в несвободной стране. Обогащенное мотивами волшебной сказки обращение к «киндеру дорогому» совмещено в песне с элементами иронически переиначенного жанра «письма вождям»:379 379 Суровцева Е. «Письмо вождю» как эпистолярный жанр: его своеобразие и жанровые разновидности // Проблемы неклассической прозы. М., Теис, 2003.С.266-282. 342 Партия, правительство, Есть такое мненье: Отпустите вы его В виде исключенья. Это будет торжество Нового мышленья! Одной из универсалий авторской песни явилось ее сближение с художественными принципами драматургии, порожденное изначально синтетической природой бардовской звучащей, исполняемой публично поэзии. На жанровом уровне это приводило, в частности, к актуализации таких песенно-поэтических жанров, как песни-роли, песнидиалоги, которые были очень весомыми в творчестве многих бардов. Широкое распространение получила в поэзии В.Высоцкого, А.Галича, Ю.Кима ролевая сатира, которая представляет собой «стихотворный сказ, разоблачающий самого говорящего, можно сказать – антигероя».380 Сатирические песни-роли обладали богатыми возможностями вчувствования изнутри в различные типы сознания персонажей, находящиеся в сложном соотношении с авторским «я». В песенно-поэтическом творчестве Кима сатирическим «крамольным» песням, разноплановым в жанровом аспекте, отведена значительная роль. Субъектами ролевых монологов выступают здесь как советские обыватели, так и иронически выведенные представители Системы. В ряде кимовских сатирических песен вырисовывается образ-маска советского обывателя, нередко «взрываемая» изнутри экспрессией авторской иронии. Такова, к примеру, «Пионерская лагерная песня» (1964), которая исполняется от лица населяющих тоталитарное гетто «ударников труда». Субъектом речи становится здесь обобщенное «мы», указывающее, с одной стороны, на собирательный характер образа «homo sovieticus», а с другой – на активное присутствие авторского «я», не отделяющего себя от судеб современников381 и с горькой улыбкой взирающего на их массовую идиотизацию в несвободной действительности: «Живем мы в нашем лагере, // Ребята, хоть куда, // Под красными под флагами // Ударники труда». В ролевом монологе в свернутом, но заостренно-пародийном виде предстает и коммунистическая утопия построения рая на земле («Живем мы, как на облаке»), и перевернутая под воздействием идеологических шор модель действительности: «А за колючей проволкой // Пускай сидит весь мир!». Однако в недрах политизированной, лагерной фразеологии («зона просто так», «кум»), причудливо соединенной с простыми разговорными оборотами («сосняк тебе, дубняк»), 380 Жовтис А.Л. Разоблачение советского менталитета в ролевой сатире Галича и Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып.III.Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.263. 381 Жовтис А.Л. Указ.соч. С.263-264. 343 возникает комический эффект, оппозиционный тоталитарной «серьезности». В происходящем смеховом взрыве срабатывает скрытая «интуиция» языка, вырывающегося из-под узды официоза, а в игре каламбурами зреет сатирическое опровержение советского «новояза», жертвой которого во многом стала сама нация, если вновь вспомнить размышления об этом И.Бродского в предисловии к платоновскому «Котловану». В глубинах несвободного, заидеологизированного сознания Ким, в значительной степени как и А.Галич, не только показывает «беспомощность человека, зажатого в тиски двоемыслия»,382 но и нащупывает признаки отторжения тоталитаризма, в чем заключен позитивный, гуманистический смысл его сатиры: «Кругом так много воздуха, // Сосняк тебе, дубняк, // А кроме зоны отдыха, // Есть зона просто так!». Ролевой портрет испуганного, задавленного барачно-лагерной системой обывателя рисуется и в песне «Да здравствует шмон» (1968). В жанровом отношении на бытовую зарисовку обыска («Какое счастье – шмон!») накладываются пародийно окрашенные признаки официозной гимнологии и распространенных в советскую эпоху покаянных писем представителей творческой интеллигенции вождям: «Российские жандармы, // Низкий вам поклон!». Но образ обывателя, в сознании которого подействовала самозащитная реакция, предопределившая радостную готовность превратиться в «раса табула», не сводится в песне к однозначной интерпретации. Все дело тут в комических эффектах, порождаемых кимовским игровым, принципиально двухголосым словом«перевертышем», в котором плакатное восхваление барачной системы пронизано стилистически экспрессивным испепеляющим сарказмом, нацеленным и на саму действительность, и на деформированное ею массовое сознание: Как вынесли Набокова, Я громко зарыдал: Ведь я в какое логово Чуть было не попал! Как взяли Солженицына За бабкиным трюмо – Так до конца проникся я, Какое я дерьмо! А в песне «Шабаш стукачей» (1967) в доверительном «сказе» стукачей раскрывается гротескная «логика» существования этого явления несвободной среды, заключенная в жесткие, абсурдистски звучащие формулы: «Наше дело – доложить, // Наше дело, знаем сами, – // Ваше тело сторожить!». Главным источником комизма становится преобладание в ролевом монологе лексем со значением неопределенности, а также звукоподражательных, информативно недостаточных слов: в редукции полноценного слова отразилась общественная атмосфера лживой недоговоренности, лицемерного молчания 382 Новиков Вл.И. Юлий Ким // Авторская песня. М., 2002.С.338. 344 «застойной» поры. Именно подобные словесные образования формируют в поэтическом мире Кима своего рода «миражную интригу»: Значит, так: где-то некий некто Разошелся до того – Вроде бы пикнул, бекнул, мекнул И намекнул на кой-кого. А другой слышал, как он пикнул, Как он мекнул во всю мочь, Но лишь крякнул, а не цыкнул, – А значит, он и сам не прочь! В иных случаях ролевая сатира Кима выстроена «от имени» самой Системы и ее представителей. Ярчайший пример – исполняемый на мелодию «Цыганочки» «Монолог пьяного Брежнева» (1968), где многочисленные обращения вождя к своему окружению, «цензуредуре», советскому «люду» ведут к драматизации монологической структуры и запечатлевают дух гонения на неформальное слово, неподцензурную бардовскую поэзию. В гротескной, соединяющей просторечие («вынаю том») с официозной политизированностью речи героя («Доставай бандуру, Юра, // Конфискуй у Галича!»), в явно крамольных для 1960-х гг. сниженных ассоциациях с «тем самым» Ильичом («Вот мне с броневика-то…») – обнажается метафизика русского вождизма, с его тоталитарной серьезностью и неприкрытым юродством, абсурдистской «логикой»: «Могу «Шумел камыш», // Могу предаться блуду…». Утрированность речи субъекта ролевой сатиры и даже черт его облика («Мои брови жаждут крови») способствует, по мысли А.Л.Жовтиса, типизации изображаемого явления. В песнях же «Иные времена» (1965), «На парткоме» (1967) носителями саморазоблачающего слова становятся партийные функционеры разных уровней. В первой из них в сатирическом ключе явлены колебания «генеральной линии» раннего брежневского периода. Словесная эквилибристика высшего партийного руководителя, затемнение в его речи подлинного значения слов постоянными экивоками («С одной стороны – валяй! // С другой стороны – подумай, // Подумай, подумай…») выдают ложь идеологии, проступающие трещины в пока еще всесильной Системе. Во второй же песне – этой пронизанной стилевой экспрессией «драме абсурда», изображающей динамику партсобрания, – дискредитация официозного клишированного дискурса происходит в процессе его наложения на «футлярное», примитивное сознание обывателя: Ох двурушник-цэрэушник, Как же ты нечист! А ведь вроде при народе Честный онанист! Ну-ка враг теперь услышит 345 О такой бузе – Он же тут же понапишет, Что и мы как все!.. А в написанном почти одновременно с известной песней В.Высоцкого «Возле города Пекина…» (1966) «Письме хунвейбинам» (1966) на вид «доверительное» и при этом пропитанное «случайными» речевыми каламбурами («Наш Отец… сидит глубоко в яйцах…») самораскрытие режима демонстрирует его сущностную неизменность со сталинских времен, мимикрирующую под новые реалии брежневской эпохи: Ой, не плюйтесь, хунвейбины, Вы поймите наконец: Он ведь с нами, наш любимый, Наш учитель, наш Отец. < …> Побранил его Никита, Злого слова не вернуть. Но ведь можно шито-крыто, Потихоньку, как-нибудь. Песня же «Галилей перед пыточной камерой» (монолог сопровождающего) (1983) придает антитоталитарной сатире Кима надэпохальный смысл. Образ средневековой инквизиции, нетерпимой к оригинальности творческого мышления, в подтексте «рифмуется» с релятивизмом, ложью самоотречений «застойных» лет, а неожиданный стилевой ход в финале стихотворения эксплицирует эти подтекстные смыслы: «Тогда, товарищ, // Пройдемте в эту дверь…». Ролевая сатира Кима, в которой проявилась драматургичность творческого дарования поэта-певца, оказалась вполне органичной и в песнях, созданных им для театра и кино. Эти песни вступают в значимое «соавторское» соприкосновение с традициями отечественной сатиры. Показательны в этом ряду написанные по мотивам «Недоросля» «ролевые» песни «Цыфиркин и Кутейкин», «Вральман», «Митрофан» (все – 1969), а также предназначенные для кинофильма «Феерическая комедия» песни «Присыпкин» (1970) и «Эльзевира» (1986). Каждая из них – искусная художественная имитация стилистики и тональности речи известных литературных персонажей. Если «педагогические» размышления Цыфиркина и Кутейкина облечены в сочную разговорную речевую форму («Что не примет через голову, // То приимет через зад»), то монолог Митрофана близок фольклорной частушке, ее ритмико-стилевым особенностям: «Сидит малый на возу, // Хочет ехать во поле, // А у мерина его // Клопы копыта слопали…». Фольклорное пословично-поговорочное начало важно и в монологе Вральмана, тонко воспроизводящем искаженную немецким акцентом речь. В его 346 насмешливо-скептичных словах о России слышится горькая нота правды, в чуткости к которой обнаруживается живое присутствие авторского «я»: Ваш страна – особый случай, Разобраться мудрено, Кто у вас учитель, кто обычный кучер, Или это все одно? Как приятно чужестранцу Получать у вас приют! Как это по-русски будет, айн унд цванциг, – «Был бы шея – есть хомут!». Примечательны песни, навеянные «Клопом» Маяковского, и в особенности «Присыпкин», где манерная, подражающая пролетарской риторике, революционной гимнологии речь героя становится опосредованным саморазоблачением советской демагогии: Жил я раньше во тьме, без понятия, Но с победой трудящихся масс Я понял красоту и симпатию, А тем более глядя на вас. И скажу вам во всей откровенности, Пострадавши в нужде и в борьбе: Я буржуев культурные ценности В полном праве примерить к себе. Драматургическое начало проявилось у Кима-сатирика и в песнях-диалогах, в подлинно актерском их исполнении, оригинально воспроизводящем речевые манеры собеседников. Так, в «Разговоре скептиков и циников» (1965) столкновение «ленивого тенора» скептично настроенного в отношении к «генлинии» обывателя и «бодрого баритона» циничного представителя официоза, диссонанс между «крамольными» вопросами и шаблонными бодряческими ответами («Только на «Правду», кроме нее ни-ни!») выводят на поверхность скрытую конфликтность «застойной» эпохи. Внутренняя «драматургия» «Разговора 1967 года» (1967) основана на симптоматичном раздвоении между сознанием и социальной ролью собеседников – обладателей лубянских «красных книжечек», ведущих при этом разговоры явно диссидентского толка. Дух этих разговоров близок тому «кухонному» хронотопу, который явился питательной почвой для «альтернативного» осмысления современности, для «кружковых», «самодеятельных» песен, тесно связанных с творчеством бардов.383 Проступающая в каламбурных лексикосинтаксических новообразованиях «комика языка» (М.М.Бахтин384), «полуподпольное» обсуждение негласных реалий эпохи делают очевидной сбитость общественных идеологических ориентиров: 383 384 Соколова И.А. Авторская песня: от фольклора к поэзии. М., 2002. С.126-149. Бахтин М.М. Творчество Ф.Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.,1990. С.518. 347 – А вы небось знакомы с этим опусом: Его писал, конечно, Солженицын. За это можно семичастным образом Накрыться так годиков на тридцать!.. Позднее в песенно-драматической поэме «Московские кухни» (1988-1989), где осуществлен синтез острой общественно-политической сатиры и пронзительного своим лиризмом реквиема, социально-психологические характеры обитателей «московских кухонь» (впоследствии подсудимых), живое звучание их голосов окажутся в диалогическом взаимодействии с трагедийно окрашенной партией Хора: Ни камня, ни креста, Ни дикого куста, Ни знака, ни следа… Душе понять непросто, Что здесь не пустота, Что здесь не тишина, А немота огромного погоста… Такие песни-диалоги Кима, как «На день рождения Галича», «Начальство слушает магнитофон» (обе – 1968), написаны на музыку к песням А.Галича и образуют поле творческого соприкосновения двух бардов-сатириков.385 Если в центре первой из них – проникновенный диалог повествователя с опальным поэтом, насыщенный глубоким личностным и общественно-политическим смыслом, то во втором случае композиционная форма спора отражает поединок авторского голоса с директивным слогом «начальства». Исполняемая на ту же музыку, что и «Старательский вальсок» Галича (1963), песня Кима противостоит своей высокой гражданской сатирой выведенным в галичевском «вальске» предусмотрительным «молчальникам» и содержит напряженную рефлексию о вековых язвах национального бытия: Эрудиция плюс юрисдикция Означает мозгов нищету, Если право у вас и традиция Человека считать за щепу! Многоплановость тонкой иронии Кима, направленной не только на официоз, но и на мифы обыденного, интеллигентского сознания, особенно ощутима именно в его песенной «драматургии». В обыгрывающей мотив «бодрой советской песенки» песне «В центральный комитет КПСС…» (1966) беспомощный язык «приватных писем отдельных представителей» интеллигенции в «наш родной ЦК» выдает утопический крен в массовом умонастроении, благоприятствующий укреплению тоталитаризма. А «Современный разговор нервного интеллигента с огромною бабою» (1991), эта песенная минипьеса с тонко 385 разработанными речевыми характеристиками «действующих лиц», имеет Глубокие размышления о творческой судьбе и личности А.Галича развернуты в очерках Ю.Кима «Песни имеют свою судьбу» (1990) и «Возвращение Галича (два эпизода)» (1993). 348 обобщающий смысл и рисует в миниатюре «театр» отечественной истории, драматургическим «нервом» которого становятся горькие «узнавания» правды о пройденном пути и современности: Интеллигент Да, а тебе, я вижу, мало? Тебе б хаос умножить весь! Да ты чего ко мне пристала, Ты кто, вообще, такая есть?! Баба Семьдесят лет четыре года Ты ждал меня, душа моя! Ведь это ж я – твоя Свобода, Что ж ты пужаешься меня?.. На позднем этапе сатирические песни-диалоги Кима тяготеют к философской углубленности. В антитетичной структуре «Диалога о совести» (1982) догматичному восприятию нравственных аспектов бытия в качестве застывших «категорий» противостоит экзистенциально напряженное авторское лирическое слово, исполненное нелегких раздумий о судьбе личности в водовороте «безумного века»: – … Я только говорю, что совесть – Это нравственная категория… – Но если все безумием одним Охвачены не на день, а на годы? Идет потоп – и он неудержим, Он увлекает целые народы! Так что же может слабый человек? Идет потоп, исход непредсказуем. Что может он, когда безумен век? И кто виновен в том, что век безумен? Сатира Кима активно впитывала в себя, как было показано выше, признаки эпического и драматургического родов, и в то же время она становилась сферой лирического самораскрытия поэта-певца. Доминирующей в целом ряде сатирических песен становится форма лирического монолога, непосредственно отражающего житейский и творческий опыт автора. В таких вещах, как «Адвокатский вальс», «У Мосгорсуда», «Истерическая перестроечная» и др., – в авторском голосе громко звучат ноты гражданской инвективы и даже антиутопии в отношении и будущей посткоммунистической действительности («Записка в президиум», 1990), и идеализированного восприятия истории в виде ряда «приглаженных портретиков» («Когда в истории однажды…», нач. 1980-х гг.). В песне «У Мосгорсуда» (1968) в сочувственном изображении «горсточки больных интеллигентов», решившихся «вслух высказать, что думает здоровый миллион», горькие лирические раздумья накладываются на новеллистичную структуру; при этом значимым 349 оказывается подзаголовок: «Подражание Высоцкому». Сквозная для песенной сатиры Высоцкого сюжетная ситуация поединка индивидуального «я» с обезличенной Системой – в частной жизни, спорте, профессиональной деятельности – у Кима спроецирована на изображение массовых судебных процессов. Спустя двенадцать лет Ким напишет пронзительную песню «Памяти Высоцкого», а в «Интервью с самим собой» (1991) наивысшую оценку даст именно его трагедийной сатире: «Говоря проще: где он хохочет, а особенно – где он отчаивается сквозь смех и плачет по этому поводу, – там он велик понастоящему».386 В «Истерической перестроечной» (1988) созвучное некоторым произведениям В.Высоцкого обращение к «братцам», «ребятам» – неширокому кругу мыслящих современников – оказывается средством диалогизации авторского монолога, в котором сатирическое изображение вбирает в себя басенные элементы: И дрожу я мелкой мышью За себя и за семью. <…> И я чую, как в сторонке Востроглазые кроты Знай фиксируют на пленке Наши речи и черты. Художественный автобиографизм, опора на собственный творческий опыт певца, а в прошлом – поэта- провинциального школьного учителя-словесника особенно чувствуются в таких произведениях Кима, как «Сочинения», «Люблю свою бандуру…» (обе – 1967). В стандартизованный, первом хлесткое, идеологически пародийное клишированный авторское слог слово взламывает школьных сочинений: «…Теперь добавьте что-нибудь про космос, // Чего-нибудь про радостный расцвет, // Потом поставьте собственную подпись // И тут же отнесите в туалет». Песня же «Люблю свою бандуру…» может быть воспринята как выразительный манифест барда, исповедальная творческая рефлексия, освобожденная благодаря тонкой иронии эзопова языка и самоиронии от патетики: Люблю свою бандуру За этакий настрой: Ну так и тянет дуру Поклеветать на строй! <…> Чуть тронешь эти гусли – Растут со всех углов Увесистый ли ус ли, Развесистая ль бровь. Со временем кимовская сатира оттачивается до предельного лаконизма сатирической миниатюры («Гипноз обыденной игры…», «Итак, все понято…», «О как мы смело покоряем…») и острой эпиграммы: «Эпиграмма на супругу г-на NN», «Эпиграмма на 386 Ким Ю.Ч. Указ.соч. С.405. 350 мужа г-жи NN» и др. Расширяется и общечеловеческая направленность сатирической мысли поэта, как, например, в стихотворении «В молитвах Бога поминая…» (нач. 1980-х гг.). Ирония над обыденным сознанием, склонным искать Божественное присутствие лишь в далеких «небесах», носит здесь философский характер и на стилевом уровне выражается в контрастном сочетании возвышенных и подчеркнуто антиэстетических, в духе раннего В.Маяковского, образов: В молитвах Бога поминая, Возводим очи к небесам, Надеясь и предполагая, Что царство Божье где-то там. А там висит сырая туча, Как полудохлый дирижабль. Над ней, антеннами мяуча, Летит космический корабль… В жанровом аспекте поздняя сатира Кима тяготеет и к циклической организации, вступая в активное взаимодействие с иными формами комического, в том числе и с легким юмором. Об этой особой «легкости» песенного слова Кима точно сказал Л.А.Аннинский: «В легком пении Кима всегда можно уловить бритвенно-тонкую ноту, которая срывает мелодию с простого и милого напева в метафизическую бездонь».387 Песенно-поэтический цикл «Безразмерное танго» (1996-1997) демонстрирует обращенную к «мозаике жизни» богатейшую палитру авторской эмоциональности, свободные взаимопереходы различных жанровых элементов. Лирические, исповедальные строфы («О, Камчатка моя, о Камчатка!..», «Что я в жизни любил? ненавидел?..»), окрашенные парадоксальной самоиронией размышления о бардовском призвании («Всюто жизнь я дурачился с песней») легко сочетаются с комическими сценками повседневной жизни, едко сатирическим изображением как советского прошлого (зловещий образ «гордого горца»), так и современности; пародийным прочтением прецедентных для культуры текстов – от «Войны и мира», поэзии Есенина (« – Я хочу рассказать тебе поле… // – Что вы, сударь, пристали ко мне?») до прочно засевших в памяти современников рекламных слоганов: «Дайте Баунти! Баунти! Баунти! // И другие подайте плоды!..». В цикле «Девять песен о любви» (1999) игровое, двухголосое слово позволяет достичь оригинального синтеза интимно-лирической и иронической трактовок любовной темы. Эта тема раскрывается здесь то в виде стилизаций под народные лирические песни, вводящих в песенный текст народное многоголосие, то в жанре любовной «новеллы», при 387 Аннинский Л.А. Указ. соч. С.130. 351 этом явная и скрытая ирония, нацеленная на «лирические миражи», заостряет авторскую мысль, приобщает к пониманию мудрой диалектики жизни: «Любовь нечаянно нагрянет, Когда ее совсем не ждешь», – Так распевала в наше время Моя былая молодежь. А наши бабушки смотрели На наши ясные глаза И тихо-тихо напевали Свои премудрые слова: – Ой вы дурочки и вы, дурачки! Прочищайте-ка почаще очки, Чтобы видеть то да се там и здесь Не как хочется оно, а как есть… В своем известном труде о Ф.Рабле М.М.Бахтин, размышляя о ренессансной философии смеха, подчеркнул «существенную связь смеха с неофициальной народной правдой… о мире и о человеке», в «вольном смеховом слове» увидел мощный противовес тоталитарной «серьезности», залог «победы над моральным страхом, сковывающим, угнетающим и замутняющим сознание человека»…388 Думается, эти выводы ученого во многом приложимы к катастрофической реальности XX столетия, в середине которого именно авторская песня, восходящая к традициям смеховой неофициальной культуры, сыграла решающую роль в духовном раскрепощении общества. И в этом смысле многожанровая песенно-поэтическая знаменательным. 388 Бахтин М.М. Указ. соч. С.104,105, 522. сатира Ю.Кима стала явлением весьма 352 2. Художественное пространство и время в песенно-драматической поэме Кима «Московские кухни» Песенно-поэтическое творчество Ю.Кима стало самобытным в содержательном и жанрово-стилевом плане явлением бардовской поэзии второй половины XX в. Написанная в 1988-1989 гг. песенная поэма-пьеса «Московские кухни» соединила авторское лирическое слово, нацеленное на постижение трагических парадоксов национального характера и бытия тоталитарной эпохи, с драматургической динамикой, разноплановым сценическим действием, которое воссоздает звучание противоречивейшего многоголосия времени. Центральным в произведении оказывается хронотоп «московских кухонь», в неформальной атмосфере которых рождались внутренне оппозиционная Системе авторская песня, альтернативное по отношению к официозу осмысление современности. В первых главках поэмы данный хронотоп раскрывается в зрительной, звуковой детализации («десять метров на сто человек»; «гитара Высоцкого с Галичем тоже здесь, а не где завелась»), приобретая масштаб социально-исторического и культурного обобщения. Бытовая зарисовка наполняется надвременным смыслом: в призме «русского ночного разговора», его предметного и метафизического содержания в поэме обозревается многовековой путь России в его трагической зигзагообразности, «рывках из мрака в мрак». Сам автор предстает как активный участник этого разговора, а его поэтическая речь, легко переходящая от протяжно-напевного «некрасовского» трехсложника начальных строк к динамичному разговорному стиху, ассимилирует устойчивые фольклорные обороты: О «черные маруси»! О Потьма и Дальстрой! О Господи Исусе! О Александр Второй! Который век бессонная Кухонная стряпня… И я там был, Мед-пиво пил, И корм пошел в коня… Звучащие поначалу как безымянные, голоса обитателей «кухонь», их спонтанные реплики во второй главке являют предпринимаемую в условиях утери ориентиров национального пути, идеологического вакуума брежневских лет попытку «прочтения» кажущегося спутанным «текста» русской истории и культуры – от тютчевских 353 прозрений о России, пророчеств Достоевского до революционных смут XX в. («Зачем Столыпина убили??!!») и трагифарсовой современности: «А этому, с бровями, вообще на все начхать!»… Позднее по мере индивидуализации образов персонажей происходит конкретизация данных «голосов», представляющих «срез» своей эпохи. Это и обитатели «московских кухонь» – участники правозащитного движения, «отсидевшие при Сталине срок», обреченные и впоследствии на участь политзаключенных и вынужденных эмигрантов; и представители мечущейся конъюнктурной интеллигенции (в лице Писателя); и безликие «рупоры» власти (образы Начальника и Помощника); и носители зашоренного сознания советские обыватели, выступающие «свидетелями» на суде… Кроме того, Ким оригинально использует древнюю драматургическую форму Хора, партия которого максимально приближена к стилистике авторского слова, соединяет пронзительные ноты реквиема по погибшим в борьбе с гражданской несвободой, как бы заставляя заново звучать их голоса, – и высокую сатиру. Уже подзаголовок к поэме («из недавнего прошлого») свидетельствует об осознанной для автора творческой задаче создать многослойный образ времени – середины и второй половины столетия. Мироощущение героев – представителей поколения 1960-х гг. емко раскрывается в поэме через обращение к знаковым явлениям этой эпохи – песням Ю.Визбора и Б.Окуджавы, паруса», их «синий возвышенно-романтической троллейбус»), которая образности ассоциируется («бригантина в сознании поднимала персонажей произведения с духом молодости, общим климатом «оттепельного» раскрепощения. Однако возникающий в поэме Кима внутренне полемичный «диалог интертекстов» позволяет увидеть «шестидесятническую» романтику на фоне царящей в обществе неправды, не изжитого и не осмысленного до конца наследия сталинских лагерей. А потому контрастом к лирическим визборовско-окуджавским стихам звучат из уст бывшего заключенного Николая напоминающие лагерный фольклор строки: «Не собирай посылку, мама, // Она сыночку не нужна. // Последний раз он в небо смотрит, // А там колымская луна…». Ироническую подсветку получают и некрасовская реминисценция о «хотя убогой – обильной» «России-матушке», возникающая как итог горьких размышлений одного из героев о массовом выдавливании из страны творческой интеллигенции («А мы вон какой устроили экспорт: // Высший сорт, и абсолютно бесплатно!»); и переиначенная в духе злободневных событий цитата из народной песни: «Вечерний шмон… вечерний шмон… как много дум наводит он!..». 354 Благодаря этому оригинальному цитатному полилогу в обобщающем портрете «недавнего прошлого» романтическая аура «турпоходов» и «прекрасных песен» под гитару парадоксальным образом соседствует с хронотопом «сибирского далека», атмосферой политизированной демагогии и абсурдистски окрашенных судебных процессов. Обращение к прецедентным текстам культуры прошлого и настоящего, расширяя пространственно-временную перспективу произведения, позволяет представить его дискурсивное поле как конфликтное столкновение взаимоисключающих сторон русской жизни. Пространственная модель поэмы в целом выстраивается через обнаружение неестественного разделения власти и общественной жизни, инертного обывательского мышления – и стремления к недогматичному видению современности. Конфликтное состояние действительности виртуозно передается поэтом при помощи языковых контрастов, алогизмов, вскрывающих фарсовую подоплеку тоталитарной серьезности. В языковом пространстве поэмы обнаруживается противостояние мертворожденного клишированного языка тоталитарной Системы и живого игрового, сказового, анекдотически хлесткого слова. Сотканная из обессмысленных шаблонов речь Начальника и Помощника («включай отделы кадров и гнев народных масс», «факты места не имели» и др.) художественно опровергается в таких гротескных сценах произведения, как сцены обыска в поисках «антисоветчины» и особенно суда, которые представляют собой «театр абсурда» в миниатюре. В последнем эпизоде главным предметом сатирического изображения становится сознание и мироощущение рядовых советских обывателей, индивидуальная картина мира которых целиком нивелирована штампами официальной прессы: На площади я не был, Но прессу я прочел, И весь я полон гневом С презрением причем. Внешняя серьезность и значительность судебного действа неожиданно приобретают под пером Кима театрализованный характер, когда даже Начальник оказывается неспособным противостоять очевидному абсурду происходящего: «Не в силах устоять перед нарастающим хором, отбрасывает бумагу и присоединяется». Звучащий же в завершение этой сцены стилизованный под фольклор «общий хор» в полноте передает народное ощущение усталости от ходульной пропаганды и одновременно тоски от отсутствия позитивных ориентиров дальнейшего исторического пути: Какая даль далекая – А счастья не видать! 355 Какая степь широкая – А смерть – рукой подать! Душа болит и мается от бедности своей… Театрализованная стихия высвечивает в поэме и грани мифологизированного народного восприятия фигур советских вождей и их деяний, что особенно ярко проявляется в разыгрываемом героями под гитару импровизированном «диалоге» Сталина и Брежнева («Лени и Оси»). Как показала Л.А.Левина, художественное использование жанровых ресурсов анекдота в авторской песне Ю.Кима, В.Высоцкого, А.Галича и др. было многофункциональным и часто оказывалось сопряженным с задачами комического изображения эпохи, познания ее с опорой на емкое народное слово.389 В анекдотической по своим «сюжетам» и частушечной по ритмике «беседе» двух вождей, которая сопровождается комическими рефренами («Джан, джан, джан…»), затрагиваются ключевые табуированные темы времени: Ося … Но скажи, Объясни народу: Говорят, ты задушил Чешскую свободу? Леня Никого я не душил, Я, товарищ Сталин, Руку другу протянул И при нем оставил. Осевой в произведении хронотоп «кухни», становящийся воплощением частного бытия личности, отстаивающей свое право на самостоятельную оценку современности, в том числе и на смеховой модус ее восприятия, выводит содержание поэмы на важнейшую проблему взаимоотношения человека и Системы в несвободной действительности. С одной стороны, все осмысленное и прочувствованное героями «дома на кухне» воспринимается властью как нечто маргинальное, внеположное по отношению к остальной «территории» общественной жизни: И сам чего хочешь, сколько хочешь неси – Дома. На кухне. Свой круг, своя аудитория. Но не дальше порога. Вот там – уже наша территория… С другой стороны, «нервом» поэмы оказывается фактически полная проницаемость стен «кухни» для официальных «органов», способных с опережением внедряться в частную жизнь персонажей. 389 Левина Л.А. Грани звучащего слова (эстетика и поэтика авторской песни). Монография. М., 2002. С.177209. 356 В завершающей части произведения художественное время смещается от застойных брежневских лет явной борьбы с диссидентским движением к «перестроечной» современности, трактуемой в качестве внешней смены официальных «установок». Звучит фарсовый монолог Начальника и Помощника, по-прежнему олицетворяющих Систему: «На исходе двадцатого века, // Хорошо потрудившись в борьбе, // Кой-какие права человека // Можем смело позволить себе!». В финале же кимовская сатира, органично сочетающая художественное и публицистическое начала и восходящая к серии его «крамольных» песен конца 1960-х гг. («На парткоме», «Разговор 1967 года», «Да здравствует шмон», «Монолог пьяного Брежнева» и др.), в которых так же, как и в «Московских кухнях», был весьма ощутим драматургический элемент, уступает место поминальному реквиему по всем жертвам противостояния тоталитаризму. Поэма завершается скорбным звучанием партии Хора, и это обогащает ее эмоциональный фон, вызывая ассоциации с той жанровой традицией поэмы-реквиема, которая в XX в. наиболее ярко была представлена «Реквиемом» А.Ахматовой. Более того, сквозной для кимовского Хора мотив «вечной памяти» обращает временную структуру поэмы к тревожным перспективам национального пути и привносит в произведение ноты предупреждения соотечественникам: Вечная память. Вечная память. Память во веки веков. О, как жестока, темна и безумна Наша дорога к свету дневному! Но терпеливо и неуклонно С каждой утратой все ближе заря. Вечная память. Память во веки веков… Таким заключает образом, в песенно-драматическая своей поэма Ю.Кима пространственно-временной «Московские организации кухни» масштабное художественное обобщение, касающееся жизни общества в «послеоттепельные» десятилетия, социокультурной роли творческой интеллигенции. Поэма демонстрирует жанрово-родовой синтез лирического самовыражения автора, эпической повествовательности и напряженной драматургической динамики, где элементы сатирической комедии, фарса обогащаются трагедийным началом, – синтез для искусства авторской песни в целом весьма продуктивный. 357 Трагедийно-сатирическая линия V. в перспективе развития бардовской поэзии. Стихи-песни Игоря Талькова Песенное творчество Игоря Владимировича Талькова (1956 – 1991) приобрело широкую общероссийскую известность в конце 1980-х гг. и явило новую фазу развития трагедийно-сатирического направления в бардовской поэзии на современном этапе. Ранняя гибель поэта предопределила то, что его творческое дарование осталось не до конца реализованным. Постепенно наступает пора объективного исследования поэтических текстов Талькова в многомерности – исследования, их эстетическом свободного от той единстве и смысловой злободневно-политической пристрастности, с которой нередко эти песни воспринимались в пору их создания и исполнения. Встает необходимость уяснения места произведений Талькова в контексте как авторской песни второй половины XX в., так и традиций русской поэзии ХIХ-XX столетий. В своих стихах Тальков предстает и как остро социальный поэт-философ и сатирик, и вместе с тем как художник элегического склада, тонкий аналитик внутреннего мира личности. «Социальные» песни Размышляя о ключевых мотивах своей поэзии, Тальков подчеркивал: «Не только лирика и даже не столько лирика, но песни политические, социальные – квинтэссенция моего творчества, крик и боль моей души».390 Исполнение песен, проникнутых мучительным ощущением крушения миражей уходящей в прошлое советской эпохи, было связано, по мысли их автора, с определенным жанровородовым синтезом, так как «выступления на сцене перерастали порой в митинги, полемики, а иногда даже в лекции». Одной из наиболее известных гражданских песен Талькова стала песня «Россия» (1989). Текст построен в форме прямого обращения поэта к родной стране, чей облик в прошлом и настоящем проступает при чтении «старой тетради расстрелянного генерала». Публицистичность соединена здесь с обнаженностью страждущего чувства лирического «я», ассоциирующего себя с «обманутым поколением» своих современников – в финале песни эти слова не поются, а медленно 390 проговариваются, что служит их особому смысловому выделению. Здесь и далее тексты И.Талькова приведены по изд.: Тальков И.В. Монолог: Стихи, воспоминания, дневники. М., Эксмо-Пресс, 2002. 358 Центральной в стихотворении дореволюционной колокольный становится России («век звон в золотой звуковом революционное лихолетье. Екатерины», оформлении Третья строфа, мифологема песни), Москва», «златоглавая претерпевшей рисующая века» «золотого распятие апокалипсическую в картину гибели России («разверзлись с треском небеса»), исполнялась бардом особенно эмоционально, а контраст прошлого и настоящего проявился в резкой смене цветовой гаммы («золотые купола», глаз», «черный «красный царь»). В переживаниях лирического героя отчетливо выразилось умонастроение мыслящей части общества, чающей «забитой правды возрожденья» и вглядывающейся в национальное прошлое в поисках отринутых духовных основ бытия. Во многих стихах-песнях Талькова звучит резко сатирическая оценка как советских десятилетий, так и «перестроечной» современности («Дядя», «Враг народа», «Господа демократы», «Господин президент» и др.). В аллегорическом стихотворении «Дядя» (1989) лирический монолог героя перерастает в исповедь целого поколения, болезненно переходящего от советского часа» «комендантского ко времени отрезвляющего прозрения лживости «перестроечной» утопии: «Но стало ясно: нет таких затрат, // Чтоб залатать химеру». А во «Враге народа» (1988) едкий собирательный образ советского вождя дополняется проницательной психологической характеристикой впавших в зависимость от тоталитаризма сограждан как «толпы вконец затюканных людей». С этой точки зрения гражданская поэзия Талькова родственна поздней лирике В.Высоцкого («Я никогда не верил в миражи», 1979-1980; «А мы живем в мертвящей пустоте…», 1978-1980; «История болезни», 1976; «Купола», 1975 и др.), где заметное место занимала трагическая рефлексия о пути, пройденным как лирическим героем, так и его поколением в «застойные» годы брежневского анабиоза. У Талькова происходит смысловое развитие данных мотивов стихотворений Высоцкого в наметилась тенденция к восстановлению правды о пройденном пути. Двух поэтов- бардов иной объединяет исторической напряженное ситуации, стремление когда в нащупать общественном духовные сознании координаты исторической судьбы народа, возможности исцеления его «души, сбитой утратами да тратами» («Купола» Высоцкого, «Россия» Талькова и др.). В лирике Талькова постижение современности влечет за собой переоценку исторического опыта и предшествующих столетий. Так, в стихотворении «Господадемократы» (1989) последствия насильственного революционного передела 359 осмысляются в системе исторических параллелей. Речь в заостренной публицистической форме идет и о Французской революции («Париж по сей день отмывает позор»), и о революционно-демократической интеллигенции ХIХ в. («пусть ответят за все Чернышевский и Герцен»). При этом здесь образуется сложный сплав антиутопических и утопических тенденций поэтической мысли. Развенчание советских идеологем оказывается неотделимым от конструирования новой утопии о Великой Руси, праведном народе, невинно пострадавшем от темных сил, – утопии, произрастающей из внутренней потребности превозмочь ощущение вакуума, оторванности от корней и исторических перспектив: Пусть ответят и те, что пришли вслед за вами Вышибать из народа и радость и грусть, И свободных славян обратили рабами, И в тюрьму превратили Великую Русь! Примечателен стиль стихотворения, характерный в целом для поэзии Талькова: в обращении к «персонажам» обличительно-патетические интонации парадоксально уживаются со сниженно-разговорной лексикой, что создает эффект повышенно эмоциональной речи, способствует оттачиванию афористичной авторской мысли: Господа-демократы минувшего века, И чего вы бесились, престолу грозя, Ведь природа – не дура, и Бог – не калека, Ну а вы его в шею – ну так же нельзя! В ярком памфлете «Господин президент» (1991), связанном с политическими реалиями августа 1991 г., подобный художественный эффект достигается благодаря синтезированной повествовательной форме: гневно-патетическая апелляция к власти прерывается в середине стихотворения откровенным диалогом с другом о сопряжены с современной России. Сатирические мотивы социальных песен Талькова нередко гротескной образностью, усиливающей их трагедийное звучание. Как в стихах, так и в дневниковых записях, поэт не раз выдвигал онтологическую, религиозную трактовку судьбы России, ставшей, по его убеждению, в XX веке ареной дьявольской игры сил вселенского зла. В целом ряде песен («Товарищ Ленин, а как у вас дела в аду?», «Бал Сатаны», «Родина моя» и др.) инфернальные ассоциации, способствуя многомерности сатирического обобщения, создают аксиологическую перспективу исторического пути нации. На взаимопроникновении реального и фантастического построено стихотворение «Бал Сатаны» (1990), где обозначенный в заглавии центральный образ 360 становится метафорой советских десятилетий. В этом образе просматривается косвенная соотнесенность с контекстом известного булгаковского романа, тем более что в одной из дневниковых записей поэта содержатся весьма заинтересованные суждения о «Мастере и Маргарите», о тех «неземных силах», о том «другом измерении» бытия, которые стали здесь предметом художественного исследования. В стихотворении Талькова сатирическая заостренность мысли сопряжена с образом ада-мавзолея, с гротескным смещением реальных пропорций в картине мира, где возникает образ «невиновной стороны, // Что бельмом сияла белым // В черном глазе сатаны». Раздумья о потаенном, «ином измерении» истории приводят поэта к художественной интуиции о неминуемом возмездии, ожидающем страну за вольный или невольный союз с силами зла. В стихотворении же «КПСС» (1990) трагическая двойственность происходящих в общественной жизни процессов («коммуняки покидают трон, // Сближаются с народом и каются») предстает в развернутом образе сердца России – Красной площади, в символике которой (звезды – купола – мавзолей) поэт улавливает мистическое отражение гибельных противоречий национального характера. Художественные пути воплощения образа Родины в песенной поэзии Талькова весьма разноплановы. Если в таких стихах, как «Маленький город» (1986), «Ленинград» (1982), он раскрывается в лирико-романтических тонах, то центральной в стихотворениях «Родина моя» (1989), «Родина» (1991) оказывается эсхатологическая перспектива русской жизни, разрываемой своими неизбывными противоречиями. В первом одушевленный образ страждущей родной земли созвучен, с одной стороны, с фольклорными мотивами («нищая сума»), с другой же – с контекстом блоковской лирики: Родина моя – Нищая сума. Родина моя, Ты сошла с ума… Образ России выступает в «Родине моей» в единстве конкретного и обобщенносимволического. С символическим планом сопряжены здесь инфернальные мотивы («Над куполами Люциферова звезда взошла»), насыщенный бытийным смыслом образ природного мира: дожди, «омывающие крест» Отечества, ассоциируются со «слезами … великих сынов с небес», благодаря чему судьба страны в ее крайних проявлениях («запиваешь» – «молишься») видится одновременно измерении, и в соотнесенности с небесным, Высшим Промыслом. и в земном 361 Близким по содержанию и стилистике является и стихотворение «Родина». В нем также Россия «обряженной предстает в наряд в скорбном Арлекино». обличии Здесь нищей ярче, по матери, сравнению насильственно с предыдущим стихотворением, проступает душевный облик самого лирического героя. Если там он запечатлелся непосредственно лишь в первых строках – в страдающей позиции, косвенно ассоциирующейся с муками Христа («Надо ж было так устать, // Дотянув до возраста Христа, Господи…»), то в внутренней жизни вырисовывается более позднем произведении трагизм его полнее. Герой с болью распознает в себе раздвоенность между естественным сыновним патриотическим чувством и гневным неприятием современной «державы дураков»: «Ты – чужая и своя, // Ты – моя и не моя…». Лирическое «я» видит себя, подобно России-«нищей суме», странником, «изгоем» на родной земле, которая охвачена пожаром, пожирающим ее поэтов (ср. близкий по семантике образ пожара в одноименном стихотворении В.Высоцкого 1978 г.): Полыхает пожаром земля, И поэты сгорают, А тебя окружает зима. Родина моя… В пронзительных стихах-песнях Талькова о России вызревает масштабное художественное сопряжение прошлого и современности. В стихотворении «Стоп! Думаю себе…» (1989) лирический герой предстает в качестве неутомимого правдоискателя, одинокого в своем поиске истины в национальной судьбе последнего времени и осознающего, подобно герою «Моей цыганской» Высоцкого, что «что-то исторического пути – от Сталина до тут не лживой видимостью Трагифарсовые повороты «перестроечных» времен – рисуются здесь в резко сатирическом свете, с гротесковыми официальной так». взгляд портретами советских вождей. За поэта-певца обнажает неприглядную сущность, а обилие сниженно-разговорной лексики знаменует его прямое обращение к слушательской аудитории, пребывающей под дурманом «перестроечных» превращений, «метаморфоз», как в одноименном стихотворении 1991 г.: Только вот ведь в чем беда: Перестроить можно рожу, Ну а душу – никогда. Тальков-художник стал, как представляется, ярким выразителем умонастроения своего «смутного времени», с его брожениями, мучительными поисками утерянной национальной идеи и одновременно соблазном в одночасье предложить ее обществу, в значительной мере подавленному десятилетиями лживой пропаганды. Пророчески 362 предощущая роковую краткость собственного земного пути, поэт стремился вместить в свои песни то бытийное содержание, ту духовную «программу», которые понастоящему могли быть восприняты лишь спустя десятилетия. В стихотворении выстраивается «Век-Мамай» (1989) противостоянием народа, его грандиозная святых образная князей («Нам параллель нужно срочно между воскрешать Димитрия Донского») разрушительному татарскому игу – и современными попытками вернуть себе национальную самобытность, обрести правду о собственной истории, вопреки лагерной «стилистике» «века-варвара», что «Свои настроил из дерьма // Казенные параши»: Где ад, где рай, Где ад, где рай, Да что гадать? Давно пора, пора, пора Донское знамя поднимать. Особенно яркой в свете лиро-эпического осмысления исторических судеб России стала баллада «Бывший подъесаул» (1990), наполненная глубокими художественными рефлексиями о трагедии национального раскола в XX столетии. Основная часть произведения выстраивается как эпически неторопливое, вдумчивое повествование-предание о судьбе и гибели бывшего подъесаула, ставшего в пору гражданской усобицы, разрыва вековых семейных связей («проклятье отца и молчание брата») красным командармом. Как и в фольклоре, активной действующей силой выступает здесь природный мир, созданный Богом и хранящий в своих глубинах непорушенное единство с Творцом; фольклорный колорит проявляется и в дважды звучащем во время исполнения хоровом припеве из известной казачьей песни «Любо, братцы…». Река, волна, ветер, шумящая листва наделены в песне даром речи, будучи свыше призванными удержать казака от отступничества: Ветер сильно подул, вздыбил водную гладь. Зашумела листва, встрепенулась природа, И услышал казак: «Ты идешь воевать За народную власть со своим же народом!». Напряженный драматизм балладного действия сопряжен с раскрытием противоречий во внутреннем мире командарма, читающего по старой памяти молитву и одновременно сознательно преступающего Божье Слово, донесенное природой: «Божий наказ у реки не послушал». В шестой строфе «объективное» повествование прерывается авторским лирическим голосом – в фрагмент выделен особо: текст здесь не поется, а исполнении этот медленно, в тишине проговаривается каждое слово. Этот голос наполнен раздумьями о «последней черте» встречи человека с Богом, видящего весь его земной путь («Наступает момент, 363 когда каждый из нас // У последней черты вспоминает о Боге!»), о целой стране, оказавшейся у подобной «черты».391 Для командарма предел осознания своего греха оказывается роковым: утратив, подобно многим своим соотечественникам, опыт покаяния, он обрекает себя на гибельное отчаяние: Вспомнил и командарм о проклятье отца И как Божий наказ у реки не послушал, Когда щелкнул затвор… и девять граммов свинца Отпустили на суд его грешную душу. Примечательно, символическому что композиционное единство лейтмотиву памяти природы, баллады достигается благодаря противопоставленной духовному беспамятству нации, забывшей о Боге на «плацдармах» гражданской войны и революции. Тихий Дон, воплощающий мудрую преемственность, непрерывность бытия, хранит память и о «грешной душе» героя, и о его роковом самоотречении: А затон все хранит в глубине ордена, И вросли в берега золотые погоны На года, на века, на все времена Непорушенной памятью Тихого Дона. Жанр баллады актуализируется у Талькова и в связи с художественным осмыслением реалий современной российской действительности. В «Балладе об афганце» (1991) внутренняя «драматургия» рождается в нелегком, выписанном с бытовыми подробностями диалоге поэта с «молодым ветераном» Афганистана, приоткрывающем «смертельно израненную душу» последнего, глубинный, едва ли преодолимый комплекс обиды на окружающую действительность. Результатом значимой «встречи» песен поэта и горькой исповеди его собеседника становится проникновенное вчувствование барда в смысл рассказанного, обогащение его личностного опыта: Я попел ему песни, а он мне без всякого лака Рассказал лучше книг и кино и про жизнь и про смерть. Так впервые почувствовал я, что такое атака И что значит столкнуться со смертью и не умереть. «Драматургичность» ряда стихотворений Талькова обусловлена появлением в них вполне самостоятельных по отношению к авторскому «я» персонажей с яркими речевыми характеристиками, остротой связанных с ними сюжетных коллизий («Собрание в жэке», «Дед Егор»). Оба названных произведения отражают сознание простого человека, ощущающего собственную невостребованность в условиях царящей в обществе демагогии. В первом монтер Петрович с искрометной иронией 391 В одной из записей поэта содержатся слова о современной России, способные служить прямым автокомментарием к балладе: «… приступила Россия к реставрации душ человеческих, у последней черты вспомнив о Боге»: Тальков И.В. Указ. соч. С.22. 364 разоблачает абсурдность всякого рода собраний «по вопросам «Перестройки»» («Я на ваши семинары болт с резьбою положил»). А фантастический сюжет стихотворенияпритчи «Дед Егор» (1981) обнажает разительное противоречие между механистичным существованием рядового «homo sovieticus» в ситуации тотального разочарования в господствующей идеологии («Демонстрации считал мистификацией, // А над лозунгами просто хохотал») – и утопическим порывом сыграть активную роль в осуществлении социальной гармонии: Сам дед Егор в прекрасном был настрое: Повеселел, помолодел, набрался сил… Ну наконец-то он прекрасный мир построил, Мечту заветную в реальность воплотил. В стихах-песнях Талькова используются разнообразные средства сатирического изображения современности, доходящего порой до прямой инвективы («Кремлевская стена», «Совки», «Полу-гласность» и др.). В «Глобус», стихотворении «Полу- гласность» (1988), где бессмысленность системы «позднего социализма» передана в зеркале словесного абсурда ( «ПОЛУ-Гласность, // ПОЛУ-так: // ПОЛУ-ясность – // ПОЛУ-мрак»), пушкинской обнаруживается эпиграммой – в жанровая частности, и с стилевая известной общность с эпиграммой хлесткой 1824 г. на М.Воронцова («Полу-милорд, полу-купец…»). Неординарным образцом «ролевой» лирики Талькова является стихотворение «Кремлевская стена» (1988). Боль лирического героя за судьбу Отечества, его предельное внутреннее напряжение заставляют искать преодоления границ собственного «я», прорыва в надличностное измерение. В горьком самозабвении он представляет себя «кремлевской стеною», последним оплотом родной земли: Сколько б горя страна не увидела Ни в войну, ни перед войною Из-за крупных и мелких вредителей, Если б я был кремлевской стеною: Я ронял бы, ронял бы кирпичики На вредителей плоские лбы… Таким образом, содержательным стержнем «социальных» песен Талькова выступило глубокое постижение истории и современности России, духовных основ ее бытия, рефлексия об обретении национальной идеи. Острая публицистичность соединилась здесь с многослойной художественной образностью, лирические медитации – с «сюжетными» стихотворениями-балладами, драматическими «сценами», притчами, пророчествами, с их повышенной экспрессией в утверждении высших ценностей в поврежденном мире: 365 А за окнами светится храм, А во храме есть Бог. Ну а если Он есть – То землей не владеть сатане! («Не спеши проклинать этот мир…»,1991) «Сквозь толщу встреч, сквозь сутолоки бремя…»: любовная лирика Яркой гранью поэтического наследия Талькова стала и любовная лирика, которой, как и «социальным» песням, свойственны насыщенность бытийной проблематикой, прозрение Высшего присутствия в человеческой судьбе. Тальковские стихотворения о любви отличает тонкий психологизм в изображении интимных переживаний, их антиномичных проявлений. В стихотворении «Почему мы стали чужими?» драматизм любовных чувств лирического «я» гармония контрастирует природного мира со спокойствием оттеняет городского изменчивость ночного межличностных пейзажа, отношений, загадочную грань между видимым и сущностным: Тот же город. Тот же сад. И луны такой же взгляд. Только мы вот с тобой, Мы вот с тобой – другие. Лирический герой Талькова погружен в воспоминания о пережитой любви, наполняющие его душу и болью за несвершившееся счастье, и вместе с тем радостью и благодарностью судьбе за те чувства, которые довелось испытать. В стихотворениях «Давно в душе моей утихли бури» (1981), «Прощение» (1985) герой стремится к философски-умудренному восприятию поворотов судьбы, и это в определенной степени сближает их со зрелой любовной лирикой Пушкина – в частности, со стихотворением «Я вас любил» (1829): И И Я И пусть с любовью тоже нам не повезло, пусть не склеить нам разбитое стекло, зла не помню и обиды не держу той мгновенною любовью дорожу. А время, лакмусом в бумаге растворясь С перечислением ошибок и обид, Вновь воскресит непогрешимо чистых нас Друг перед другом и за все простит. Чувство благодарения жизни и любимой женщине, онтологический ракурс осмысления любви оказываются ключевыми в обращенном к жене лирическом послании «В вечность», а стихотворение «Ценою самоотреченья…» (1985) позволяет представить любовную поэзию Талькова как лирику духовно-нравственного 366 стоицизма, родственную по типу авторской эмоциональности, по напряженности рефлексии гражданским песням о России: Ценою самоотреченья И сердца – стертого до дна – Души святое очищенье Дается нам. Ценою мук непроходящих, Глухой тоски, ночей без сна – Любви мгновенья настоящей Даются нам. Тревожное мироощущение лирического «я» отчетливо проявилось в поэтических раздумьях о «заветной черте» в эмоциональной близости людей («между нами сотни лет»), психологических истоках взаимного отчуждения. Лирический герой таких стихотворений, как «Ты с жизнью на «ты»» (1980), «Разговоры ни о чем» (1981), жаждет обрести в любви целостность телесной и душевно-духовной составляющих личностного бытия. В «шальном головокружении» любовной страсти, «разговорах ни о чем» он рассеянность силится чувств сохранить и внутреннее душевную пустоту. трезвение, Эти превозмочь произведения недолжную построены как откровенная исповедь героя перед возлюбленной, обогащенная процессом глубокого самоосмысления, непрекращающейся работы над собой: Разговоры ни о чем… Только здесь я ни при чем, Я давно ушел в глубокое молчанье, За собой захлопнул дверь, И никто меня теперь, Никто Не обременит больным воспоминаньем. Во многих стихотворениях Талькова о любви обнаруживается тяготение к явному или скрытому циклообразованию. Примечательна с этой точки зрения своеобразная лирическая «мининовелла» о любви, созданная осенью 1981 г. Четыре стихотворных фрагмента («Тот самый день», «Дождь и ты», «Мне немного жаль», «Память непрошенным гостем входит в мой дом…») перемежаются здесь прозаическими авторскими комментариями, на время замедляющими ход рассказа углублением в неповторимые мгновения любовных переживаний: «Память все чаще и чаще возвращает меня в один весенний вечер. Тогда нас разделял только город. Намокший под дождем и притихший…». Подобное соединение стиха и прозы в единое образно-ритмическое целое усиливает непосредственность изображаемого, актуализируя диалогическую обращенность текста 367 к вдумчивому слушателю-собеседнику. Динамика лирического переживания сопряжена здесь с драматичными переменами во внутреннем мире героя – от смутного предчувствия сердечных волнений к нелегким воспоминаниям о прошедшей любви, находящими живой отклик в мире природы: Природа ожидала этой встречи: В твоей улыбке – звезды отразились, В твоих глазах растаял тихий вечер… В завершающей части цикла мотив памяти – сквозной для многих лирических песен Талькова – углубляется звучанием покаянных нот в размышлениях героя:392 «И не могу никак себя простить // За то, что потерял тебя когда-то, // За то, что оборвал святую нить». Внутренняя же циклизация сопряжена в любовной лирике Талькова со сквозным для многих стихотворений образом дома. Домашнее пространство в таких произведениях, как «Наш дом», «Когда засыпает город…», «Праздник», «Память», «Летний дождь» и др., хранит воспоминание о живых ликах прошлого, воплощая таинственную, одушевленную стихию бытия, пропитанную любовным чувством: «И старый дом станет словно моложе // В ласковом свете зажженных свечей…». Сами встречи героя с Памятью («Память») о живущей в глубинах души любви становятся кульминационными моментами в его самопознании. Дом может становиться здесь и чутким «индикатором» личностных отношений любящих («У твоего окна», «Знали» и др.), отнюдь не немым свидетелем периодов взаимного отдаления: «Дом наш скрипел и вздыхал безнадежно, // Он вместе с нами молчал и грустил…». В стихотворении «Моя любовь» внезапно нахлынувшая страсть воспринимается героем и как «нечаянная радость», и как соблазн, противостояние которому связано с богобоязненным чувством: «Но только, обманув себя, // Мы обмануть не сможем Бога…». Важно при этом, что душевные муки лирического «я» спроецированы на драматичную участь дома, обратившегося в «замок из песка»: «Вздрогнул, как от выстрела, мой дом», «ведь простить меня мой дом уже не сможет». Обобщение смысловых граней образа дома осуществляется у Талькова в песнепритче «Три дома» (1985). «Три разных дома» образуют в своем единстве целостную аксиологию духовного становления личности – дом детства, берегущий воспоминания о начале пути; дом, воплощающий прочность семейного очага («в нем 392 Ходанов М., свящ. «Спасите наши души!..». О христианском осмыслении поэзии В.Высоцкого, И.Талькова, Б.Окуджавы и А.Галича. М., 2000.С.141. 368 живет мое сердце»); и, наконец, дом как прообраз вечности, последнего пристанища души: «В этот дом вхожу я не дыша… // В нем живет моя душа». Таким образом, в поэзии Талькова осмысление любовного чувства связано и с тонким психологическим анализом его коллизий, и с онтологической перспективой – раздумьями о вечности, судьбе, нравственных основаниях бытия. «Пока звенит твоя гитара…»: художественная рефлексия о творчестве Размышления о смысле искусства, заключающемся, по убеждению Талькова, в «возрождении вечных понятий любви, красоты, гармонии, движении вперед к Правде, к Свету, к Истине, к Богу», о вольном духе, изначально присущем бардовской песне, имели существенную значимость в творческом самосознании поэта: «Я – бард. Я пишу и пою песни о том, что меня волнует. Свобода творчества – мой принцип». В освоении этой темы публицистичность, сатирическая заостренность и даже политическая злободневность мысли соединились у Талькова с проникновенным лиризмом, масштабными лирико-философскими обобщениями. Во многих стихотворениях деятельность поэта-певца неотделима от постоянного противодействия разного тернистый поэта путь рода к внешним сцене силам. сопряжен с В известной острейшей песне «Сцена» социальной борьбой, противостоянием силам зла и преисподней («А дорогу к тебе преграждала нечистая сила»), которое порождало внутреннюю дисгармонию в душе творца («в душе затаилась на долгие годы тоска»), преодолеваемую лишь духовным упованием на Высшую силу: «Да поможет нам Сила Господня!». Образ «антиидеала» в творчестве вырисовывается в таких сатирических стихотворениях, как «Этот путь» (1988), «Конкурс» (1982), «Правда» (1985), впитавших в себя традиции русской гражданской поэзии. В «Этом пути» в качестве такого антиидеала явлен «успокоенный талант» поэта-певца, «приструнившего свою струну» в угоду сиюминутной конъюнктуре. А в стихотворной инвективе «Конкурс» в горьких раздумьях поэта о торжестве «парада бездарностей» на конкурсе эстрадной песни возникают неслучайные реминисценции из известного монолога грибоедовского героя: А судьи кто! А судьи кто! А судьи кто?!! Как некогда сказал один поэт: «Сужденья черпают из забытых газет», И всем им по сто с лишним лет…». Сам поэт осознающего несет в своем личностном облике собственную обреченность на черты гибель, борца-правдоискателя, но идущего, подобно 369 «камикадзе», на решительную борьбу с Системой, «не боясь совсем порвать остатки связок, душу выворачивая…». Рефлексия о собственном жизненном и творческом пути порой приобретает в песенной поэзии Талькова характер обобщения судьбы поколения, сформировавшегося в атмосфере общественной лжи и лицемерия. В исповедальном, проникнутом самоиронией, стихотворении «Примерный мальчик» в истории взросления и внутреннего становления лирического «я» преломилась участь значительной части его современников, сознание которых, деформированное в условиях советской педагогики, оказалось сбитым, лишенным бытийных ориентиров. А потому и духовный поиск героя, его стремление к личностной свободе, самоидентификации, формы социального протеста имели, как показано в стихотворении, весьма противоречивое выражение: Читая книги не такие Тайком от всех по вечерам, На дискотеках лихо прыгая И посещая Божий храм. В раздумьях о подлинной творческой свободе как о непременном условии бытия художника у Талькова различимы отголоски известного пушкинского сонета «Поэту» 1830 г. («Дорогою свободной // Иди, куда влечет тебя свободный ум…»): Иду себе своей дорогой И, как за флаг, держусь за мысль, Что нет мудрее педагога, Чем наша собственная жизнь. Образ поэта, усредненных «крамольного» стандартов стихотворениях, как «Призвание» (1986). в отношении творческого поведения, к официальной раскрывается «Друзья-товарищи» (1988), «Спасательный В стихотворной притче идеологии и в и таких круг» (1989), «Бубен-тамбурин» (1984) в иносказательной форме – через антитезу кричащей музыки бубна и «самозабвенного», тихого «звучанья чудных арф» – выявляется драма одиночества лирического «я», чуждости его эстетического вкуса нормам массовой культуры, неглубоким запросам «забубенной публики».393 Особую значимость в русле рассматриваемой темы приобретали для Талькова размышления о трагических судьбах «властителей чувств и дум» современности – В.Высоцкого и В.Цоя, безвременная гибель которых была насыщена для него 393 Выделено И.Тальковым. 370 глубинным мистическим смыслом.394 В песне-реквиеме «Памяти Виктора Цоя» (1990) на первый план выступают онтологическая, религиозная трактовка земной жизни и «последних сроков» «целителей уставших наших душ», интуитивное прозрение собственного раннего ухода («А может быть, сегодня или завтра // Уйду и я таинственным гонцом»): Глаза таких Божественных посланцев Всегда печальны и верны мечте, И в хаосе проблем их души вечно светят Мирам, что заблудились в темноте. Они уходят, не допев куплета, Когда в их честь оркестр играет туш: Актеры, музыканты и поэты – Целители уставших наших душ. Осмысление горького удела поэта в России в стихотворении «Природа объявила нам войну» оказавшегося перерастает у в «последней апокалипсическую картину черты» оторванности в своей национального от бытия, органических, природных основ жизни. В обобщающе-символическом ракурсе, в исповедальном слове лирического «мы» прорисовывается собирательный образ народа, мучительно возвращающего себе духовную и историческую память: И вот мы спохватились, каясь и моля, Когда над нами грянул гром и вздрогнула земля, И вспомнили про Бога и Иисуса во Христе, И вспомнили поэтов, что распяли на кресте. Вселенское обобщение собственной, осмысляемой с духовной точки зрения судьбы и пути Родины достигается в одной из ключевых и итоговых для Талькова философской балладе, песне-пророчестве «Я вернусь» (1990). Архетипический для русской культуры образ воскресения поэта «пусть даже через сто веков» и его возвращения в обновленную страну сопряжен здесь с глобальным обобщением истории России XX века – поры революций, войн (явных и скрытых, характеризующих общий климат общественной жизни), нищеты и «дождей из слез». Лейтмотив «боя» в самохарактеристиках поэта становится знаком его неослабевающей духовной и творческой активности: «Я завтра снова в бой сорвусь, // Но точно знаю, что вернусь». Напряженно рефлексируя о таинственной связи своего посмертного возвращения и «первого дня рождения страны, вернувшейся с войны», поэт раскрывает двуединство острого социального звучания собственного творчества и его задушевно-лирической струи: 394 Тальков И.В. Указ.соч. С.16. 371 Я пророчить не берусь, Но точно знаю, что вернусь, Пусть даже через сто веков, В страну не дураков, а гениев, И, поверженный в бою, Я воскресну и спою На первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. А когда затихают бои, На привале, а не в строю Я о мире и о любви Сочиняю и пою… Итак, при выявленном разнообразии мотивов песенная поэзия Талькова, ставшая заметным явлением и в эволюционировавшей авторской песне, и в целостном контексте отечественной поэтической культуры, вырисовывается как художественное единство. На сцене, в творческом уединении, в любви, в нелегкой социальной борьбе, постижении судьбы России – лирический герой Талькова раскрывается во внутренней цельности, основанной на религиозной сущности миропонимания, в напряженной саморефлексии, этике духовного стоицизма. Его глубинное «я» выражается как в проникновенной исповеди о своей душевной жизни, так и в подчас нелицеприятном диалоге с современниками о кризисных чертах национального сознания, тяжелых страницах прошлого и смутного настоящего, в балладном звучании притч, пророчеств о будущем России. В нередко надрывном голосе поэта-певца резонировал, как и в песнях В.Высоцкого, голос поколения, сформировавшегося в условиях брежневского «застоя» и драматично осознавшего себя на перепутье во второй половине 1980-х гг. Поэзия И.Талькова явилась ярким художественным выражением эпохи болезненного крушения Системы, обнажившего зияющие пустоты в национальной картине мира. Она в полноте выразила стремление общества обрести утерянные духовные, религиозные ориентиры бытия, соединив в себе публицистическое, рефлексирующее начало с сильнейшим эмоциональным зарядом, богатой гаммой душевных переживаний. 372 Предварительные итоги Итак, трагедийно-сатирическое направление бардовской поэзии явило самобытный ракурс художественного познания бытия, социально-исторической действительности и человеческой души. Его отличительными особенностями стали эпическая многомерность картины мира, «балладная» доминанта в жанрово-стилевых исканиях, глубинная причастность традициям неофициальной смеховой культуры, что знаменовало оппозиционное звучание песенно-поэтического слова в отношении к догмам официальной идеологии. Рассмотрение наследия М.Анчарова как одного из основателей авторской песни позволило установить, что трагедийно-сатирическое направление складывалось синхронно с лирико-романтическим, хотя на раннем этапе развития бардовской поэзии именно последнее оказалось доминирующим. В балладном творчестве Анчарова были заложены основные константы трагедийносатирического направления. В его «городских», философских, социально-исторических балладах в призме мироощущения «дворовой» среды, «щербатых улиц», в многоплановой персонажной системе художественно постигалась социально-психологическая реальность довоенного, военного и послевоенного быта и бытия современников. Нелицеприятное изображение грубой обыденности сочеталось в художественном мире Анчарова с открытием масштаба бесконечности мира и личности, сохраняющей вопреки жестокой повседневности высокие романтические устремления, обостренное чувство красоты. Особая психологическая напряженность действия, многообразие форм речевого поведения персонажей были характерны для «ролевых» баллад Анчарова. В позднем творчестве поэта-певца трагедийная панорама века и современности, многоплановое раскрытие категорий войны и мира предстали в образном мире социально-исторических баллад, имевших подчас пронзительное исповедальное звучание. В сфере лирико-исповедального слова трагедийное мироощущение нередко выражалось и в песенной поэзии В.Высоцкого. В драматических балладах и лирико-философских монологах, в имевших балладное звучание лирических «автобиографиях» Высоцкого выстраивалась целостная аксиология пути лирического героя и его современников во «мраке» «страшных лет» России. Здесь отчетливо выразилась глубинная тяга обрести утраченные духовно-нравственные, религиозные основания индивидуального и народного бытия, самобытное художественное осмысление получили как исконные, так и имевшие социально-историческую обусловленность черты русского национального характера. 373 Грани исторического опыта запечатлелись в военных балладах Высоцкого, создававшихся в немалой мере с творческой ориентацией на художественные открытия Анчарова. Значимое место занимают здесь разноплановые пути символизации, мифопоэтического расширения образного ряда. В противовес официозной ходульной риторике в балладах Высоцкого о войне была сильна социально-критическая, сатирическая тенденция, которая вела к переосмыслению самой категории героического. Неизбирательное изображение фронтовой реальности, ее воздействия на личностное мироощущение персонажей сопрягалось с акцентированием внимания на замалчивавшиеся эпизоды военных лет, на негероические стороны войны. Как для лирико-исповедальных, так и для балладных, «ролевых» стихов-песен Высоцкого, были свойственны «новеллистичность» сюжетно-композиционной организации, стремительная «драматургическая» динамика, весомость диалоговых речевых форм, а также циклообразующие тенденции. Многогранное трагедийно-сатирическое осмысление истории и современности воплотилось в образном мире стихов-песен и песенных поэм А.Галича. Чрезвычайно существенной оказалась здесь объемная персонажная характерология, включавшая в себя образы советских обывателей, зеков, представителей разных уровней государственной и партийной власти, русских писателей и поэтов, а также различные исторические фигуры. В песенной «новеллистике» Галича, достигавшей нередко «романного» уровня художественных обобщений, образный мир основан на сопряжении реалистическиконкретных и условно-фантастических форм и охватывает семейно-бытовую, общественную, историческую сферы жизни персонажей. Весомы здесь многообразные приемы сатирического изображения, мастерство поэта-певца в построении «драматургии» комических, трагифарсовых эпизодов, в разработке сказовых повествовательных форм. Как и у Высоцкого, в «персонажной» поэзии Галича ярко запечатлелись кризисные стороны национального характера, болезненно проявившиеся в тоталитарной действительности. Весомыми оказались в песенно-поэтическом творчестве Галича и культурфилософские рефлексии, художественное постижение категории личной и исторической памяти, особенно полно выразившиеся в его циклах о судьбах писателей разных эпох, а также в историософской «Поэме о Сталине» и поэме-реквиеме «Кадиш», для которых были характерны широта лиро-эпических обобщений, оригинальные пути взаимодействия стихотворного и прозаического слова. Одно из наиболее ярких воплощений сатирического начала в бардовской поэзии было отмечено в творчестве Ю.Кима. В таких разных жанровых формах, как бытовая, 374 пейзажная зарисовка, «драматургичная» сценка, эпическое «сказание», песни-диалоги, «ролевые» монологи, в том числе созданные для театра и кино, а также «письма вождям», – достигалась полнота сатирического изображения обывательского существования, метафизики и исторической практики русского вождизма, происходило развенчание советского «новояза», различных проявлений тоталитарного диктата над личностью и обществом. Поэтика кимовского игрового, двухголосого, пародийно-цитатного слова восходила к многовековым традициям смеховой, неофициальной культуры, направленной на опровержение «серьезности» шаблонного тоталитарного мышления. Оригинальный жанровый синтез был осуществлен Кимом в песенно-драматической поэме «Московские кухни», где массивные пласты отечественной истории и культуры, глубинные уровни национального сознания раскрылись в призме «диалога интертекстов», а также в жанровом симбиозе черт анекдота, социально-бытовой, общественнополитической пьесы, лирико-философской поэмы и поэмы-реквиема. Трагедийно-сатирическая линия получила развитие и в позднейшей динамике эволюционировавшей авторской песни, подтверждением чему может служить песеннопоэтическое творчество И.Талькова 1980-х – начала 1990-х гг. В его социальноисторических и философских балладах, в освоении камерно-лирических, интимных мотивов острота публицистического звучания художественного слова соединилась с оригинальностью образного ряда. Грани индивидуального мирочувствия лирического «я» оказались в стихах-песнях Талькова во взаимопроникновении с пронзительной исповедью целого поколения. Таким образом, трагедийно-сатирическое направление вобрало в себя значительный пласт бардовской поэзии и, в отличие от направления лирико-романтического, выразившего прежде всего дух «оттепельного» раскрепощения, оно было обращено в основном к социально-психологической реальности, мучительным парадоксам «застойного» времени и нацелено на превозмогание общественной лжи и демагогии, на возвращение современникам ценностных основ частного и общенационального бытия. 375 Заключение В результате предпринятого исследования авторская песня отчетливо представляется в качестве целостного и многопланового явления русской поэтической культуры XX века. Существенную значимость в свете изучения бардовской поэзии имело выделение ее важнейших жанрово-стилевых направлений – лирико-романтического, трагедийносатирического, а также рассмотрение творчества поэтов, эволюционировавших от «чистой» лирики к освоению больших лиро-эпических форм и созданию трагедийного песенного эпоса. Предложенная типология позволила проследить основные векторы развития данного художественного феномена от 1950-х гг. к рубежу столетий – эволюции, обусловленной комплексом как литературных, так и общекультурных, социальноисторических закономерностей. Суть этой эволюции заключалась прежде всего в усилении трагического, протестного звучания бардовской песни (события на Вацлавской площади Праги в 1968 г. послужили импульсом для разуверений в «оттепельных» надеждах), в углублении в ней экзистенциального начала, во все более явственном обнаружении антиофициальности как ключевого аспекта ее пафоса. Безусловным обогащением научных представлений об авторской песне становится подробное изучение творческих индивидуальностей поэтов-бардов, наследие которых определило общий эстетический облик этого направления поэзии. В качестве актуальной нами была осознана задача по расширению исследования литературного контекста бардовской поэзии. Важным с этой точки зрения оказалось выявление связей с традициями, образным миром классической поэзии ХIХ в.: осмысление диалога с пушкинской традицией в песенно-поэтическом творчестве А.Городницкого и А.Галича, с поэтической философией Ф.Тютчева в образном мире стихов-песен Б.Окуджавы. Не менее весомо уяснение преемственных связей авторской песни с художественным опытом Серебряного века, что было отмечено в «литературных» циклах А.Галича; в «московских текстах» М.Цветаевой и Б.Окуджавы; в песенной поэзии В.Высоцкого, развивавшей многие трагедийные интуиции А.Блока, напряженные рефлексии «о времени и о себе», которые пронзительно прозвучали в поэзии В.Маяковского. В плане изучения синхронного литературного контекста творчества поэтов-бардов нами было особенно выделено сопоставительное рассмотрение творчества В.Высоцкого и В.Шукшина. Существенным оказывается и выявление как диалогических, так и полемических связей в художественном поле самой бардовской поэзии. Анализ этих традиций позволил уточнить научные представления о генезисе авторской песни, о месте бардовского движения в литературе и культуре XX столетия. 376 В качестве одного из основоположников лирико-романтического направления авторской песни в работе представлена творческая индивидуальность Б.Окуджавы. С учетом того, что многие аспекты творчества поэта-певца уже получили подчас глубокое освещение в научной литературе, нами были проанализированы те грани его поэзии, которые, с одной стороны, остаются пока вне целостной интерпретации, а с другой – позволяют выйти к обобщающим характеристикам как художественного мира данного автора, так и того направления бардовской поэзии, которое он представляет. Серьезное внимание было уделено философской лирике Окуджавы, жанру песеннопоэтической притчи, взаимодействовавшему с такими жанровыми образованиями, как городская зарисовка, песни-диалоги, любовное послание, элегия, сказочная мининовелла, лирическая исповедь, историческая зарисовка и др. В ходе анализа образной системы философской поэзии барда большое значение имело акцентирование внимания на образе Вселенной, в том числе и в плане его тютчевских истоков. Рассмотрение этой проблематики позволило отметить «космизм» поэтического мироощущения Окуджавы, проявившийся в ракурсе как интимной лирики, так и социально-исторических, бытийных прозрений. В качестве особого наджанрового образования были выделены портреты городов в лирике Окуджавы, вместившие неисчерпаемые ресурсы исторических, философских, мифопоэтических обобщений и ставших средоточием личной и народной памяти. В призме этих портретов во всей полноте предстало жанровое богатство окуджавского поэтического мира: от лирических «новелл», драматических сценок, очерковых зарисовок до масштабных ретроспекций. В связи с этим аспектом предложено сравнительнотипологическое рассмотрение «московского текста» в произведениях М.Цветаевой и Б.Окуджавы, ставшего для каждого из художников и поэтической моделью бытия, и основой трагедийной автобиографической мифологии. Показательным и эстетически значимым явлением ранней авторской песни стало поэтическое творчество Ю.Визбора, практически не получившее, в отличие от поэзии Окуджавы, полноценного научного осмысления. В свете последнего обстоятельства в работе была выстроена целостная система жанров поэзии Визбора. Пристального внимания заслуживали здесь преемственные связи визборовской поэзии с фольклорной традицией, своеобразие персонажного мира, пути синтеза лирико-исповедальных, сюжетно-повествовательных и драматургических элементов его песенной поэзии в таких жанровых формах, как песни-диалоги, поэтические «новеллы», песни-репортажи и др. В русле освещения стилевых особенностей этого поэтического мира значимой была 377 характеристика педагогического потенциала и общественной роли визборовского диалогически ориентированного художественного слова. На установление общих констант художественного мира бардовской поэзии, в частности, с точки зрения выразившейся здесь концепции личности, было направлено сопоставительное рассмотрение изображения персонажей трудных профессиональных призваний в произведениях Ю.Визбора и В.Высоцкого, что позволило проложить путь для дальнейшего соотнесения лирико-романтического и трагедийно-сатирического направлений авторской песни в целом. Многоплановость творческой индивидуальности Визбора раскрылась и в выделенном в специальный раздел разговоре о прозе поэта-певца, пронизанной песенными образами, ассоциациями и формирующей целостный «интертекст» бардовской поэзии. Уникальным явлением в бардовском многоголосии стал романтический мир песенной поэзии Н.Матвеевой. В призме многообразных форм художественной условности, сказочных образов, хронотопа «далекой дали», в исканиях лирического героя – «маленького» человека, мыслящего романтика – здесь осуществилось поэтическое открытие подлинной сферы духовного бытия, противостоящей вызовам времени, обезличивающим тенденциям несвободной эпохи. Продуктивными жанровыми образованиями стали в стихах-песнях Матвеевой условно-романтические пейзажные зарисовки, лирическая исповедь, психологически детализированные путевые эскизы, песни-притчи, стилизованные эпические предания, а также оригинальные своими тонко прочерченными сюжетными рисунками образцы любовной лирики. Тревожное мироощущение интеллигента, мыслящего вопреки стереотипам современности, нашло полное художественное воплощение в элегическом мире песенной поэзии Е.Клячкина. Для пейзажных, любовных, «городских», гражданских, философских элегий Клячкина характерными оказались импрессионистская стилевая манера, оригинальность часто неожиданных ассоциативных образных сцеплений. В стихотворной «новеллистике» Клячкина, в пейзажных, путевых зарисовках, в жанре поэтической молитвы выразилась пронзительно-тревожная экзистенция лирического «я» – «грустного романтика», философа, взыскующего немеркнущие ценностные ориентиры в потоке непрочной и изменчивой повседневности. Важной гранью клячкинского песеннопоэтического мира стала насыщенная тонким психологизмом любовная лирика, с присущими ей «новеллистическими», фрагментарными принципами композиционной организации, активной выраженностью лирического «ты», взаимодействием исповедального монолога и диалоговых речевых форм, с нередким тяготением частных сюжетных зарисовок к художественным обобщениям «романного» масштаба. 378 Лучшие традиции лирико-романтического направления авторской песни обнаруживают свою художественную весомость и общественную востребованность и в современной культуре, о чем свидетельствует предложенное рассмотрение песенной поэзии О.Митяева, неслучайно именовавшегося критикой «новым Визбором». В философских и любовных элегиях, городских портретах и песенных «новеллах», балладах и исторических ретроспекциях Митяева емко выразился духовный склад артистически одаренного, думающего, подчас ироничного современника, «драматургично» запечатлелась многоцветная «мозаика» индивидуальных и исторических судеб. Как особое направление авторской песни есть основания рассматривать творчество поэтов-бардов, прошедших эволюцию от лирико-романтической тенденции к крупным лиро-эпическим формам, созданию окрашенного в преимущественно трагедийные тона песенно-поэтического эпоса. Самобытным явлением в русле обозначенного направления стала фронтовая и исповедальная поэзия Е.Аграновича – одного из зачинателей бардовского движения. В военных стихах-песнях Аграновича, ряд которых стал классической частью бардовского репертуара, были выявлены пути синергии пронзительного лиризма и многоплановости эпического изображения. Среди продуктивных жанровых образований здесь выделяются стихотворения-портреты, любовные элегии, притчи, баллады, ролевые монологи, а также песенная поэма-реквием, «поэма-памятник» «Борису Смоленскому – поэту и воину», явившая взаимопроникновение интимно-исповедальных нот и объемных пластов общенационального исторического опыта. От лирико-романтических истоков ранней «ленинградской» поэзии к последующему диалогическому сопряжению далеких эпох и культур, трагедийным историософским прозрениям эволюционировало песенно-поэтическое творчество А.Городницкого. Содержательным и образным средостением песенной поэзии Городницкого стал объемный, складывавшийся на протяжении десятилетий «исторический» цикл стиховпесен и поэм. Глубинным центром исторической проблематики выступил здесь трагедийный опыт бытия личности в катастрофических испытаниях XX столетия, воплотившийся в таких жанровых формах, как исторические портреты, ролевые песни, сюжетные зарисовки, панорамные обобщения. Особую значимость имеют здесь поэтика «точного» слова, различные пути художественной символизации, «естественнонаучного» расширения образного ряда. Лиро-эпическая природа песенной поэзии Городницкого предстает в многообразии пространственно-временных плоскостей, историко-культурных ассоциаций, в связи с чем 379 было предложено рассмотрение «северного текста», «петербургского текста», а также «пушкинского» цикла произведений поэта-певца. Особого внимания заслуживало творчество барда рубежа веков, анализ которого позволяет прочертить общие направления эволюции авторской песни. Существенное место занимают здесь философские элегии, песни-воспоминания, образующие единство индивидуальноличностных, социально-исторических, онтологических граней содержания, которое пронизано особым, преимущественно трагедийным мироощущением стыка эпох, тысячелетий, макроциклов планетарного бытия. От лирико-исповедальных стихов-песен 1960-1970-х гг. к позднейшим эпическим, культурфилософским А.Дольского, художественным примечательное обобщениям изысканностью развивалось образной ткани, творчество прихотливыми метафорическими сцеплениями, ассоциациями на уровне как поэтической стилистики, так и ритмико-мелодического оформления. Лейтмотивом многих стихов-песен Дольского стали странствия его лирического героя-философа «по дорогам России изъезженным», вживание в таинственные лики родной истории и культуры. Во взаимоусилении лирикоисповедального, социально-исторического и философского аспектов был рассмотрен «петербургский текст» поэзии Дольского, динамика которого обусловлена расширением системы персонажей, усилением сатирической, подчас публицистической остроты, а также актуализацией балладных жанровых тенденций, характерных уже главным образом для трагедийно-сатирического направления авторской песни. Одним из магистральных направлений авторской песни 1960-1970-х гг. явилось направление трагедийно-сатирическое, явившее оригинальный модус художественного познания бытия и социально-исторической действительности. Его отличительными особенностями сатирическая стали доминирующие окрашенность поэтической балладные картины жанровые мира, явно тенденции, или частая имплицитно оппозиционной по отношению к официальной идеологии и общему климату «застойных» лет. М.Анчаров, начинавший свое песенное творчество еще в довоенные годы, по праву может быть назван одним из основоположников трагедийно-сатирической бардовской поэзии. Образный мир баллад Анчарова, произраставший из хронотопа московской дворовой, «блатной» среды и генетически связанный с жанровыми элементами городской зарисовки, уличной сценки, постепенно достиг масштаба «летописи» военной памяти, стал отражением трагедийной народной судьбы поры великих переломов. В поздних панорамных социально-исторических балладах, заключавших противовес бодряческому 380 мажору официальной поэзии и массовой советской песни, выразилось глубокое осмысление катастрофического духовно-нравственного, исторического опыта столетия. Характерными чертами творческой манеры поэта-певца стали переплетение сниженного изобразительного ряда и высокой романтической героики, острый драматизм сюжетной динамики, новаторское и перспективное для позднейшей авторской песни использование ролевого монолога, в том числе «от лица» неодушевленного предмета, а также поэтика развернутого заголовочного комплекса. В качестве одного из стержневых явлений бардовской поэзии было рассмотрено песенно-поэтическое творчество В.Высоцкого. В призме анализа жанра лирической исповеди нами предпринята попытка предложить целостную интерпретацию онтологических оснований поэтического мира Высоцкого. В этом ракурсе было осуществлено рассмотрение генезиса лирико-исповедальных стихов-песен, сквозного для них образа двойника; пространственных лейтмотивов «края», «пропасти», «последнего приюта», многопланового выражения категории пути лирического «я», его современников, России; архетипического сюжета взыскания подлинного мистического опыта, встречи с Богом, раем. В стихах-песнях Высоцкого проявилось оригинальное взаимодействие исповедальных и балладных жанровых тенденций, изначально лирические раздумья об «истории болезни» родной земли приобрели здесь масштаб грандиозных эпических обобщений, обнаружив в своих глубинах параллели с поэзией А.Блока. Грани исторического опыта, обогащенные мистическим чувствованием свершившихся потрясений, запечатлелись в военных балладах Высоцкого, звучание которых пронизано нотами острой социально-критической рефлексии. В жанрово-стилевом плане значимы здесь генетическая связь «блатных», «дворовых» и военных баллад; способы драматизации повествовательной структуры, «новеллистически» динамичная прорисовка фронтовых эпизодов, взаимодействие диалоговых и монологических речевых форм. Усиление обобщающе-символического потенциала образного ряда привносило в стихипесни Высоцкого о войне элементы философской баллады, а тенденция к эпическому расширению картины бытия активизировала циклообразующие жанровые процессы. Существенным и далеко не в полной мере изученным в осмыслении творчества Высоцкого остается аспект литературных связей. Помимо предложенного еще в первой главе сопоставления персонажного мира поэзии Высоцкого и Визбора, здесь распространенный у Высоцкого жанр лирической автобиографии рассматривается на фоне автобиографических лирических поэм В.Маяковского. В многомерном соотнесении художественных систем двух поэтов особое внимание было уделено сплаву интимно- 381 личностного и эпохального в их прозрениях «о времени и о себе»; значимому для обоих московскому хронотопу; соотношению утопических и антиутопических тенденций поэтической мысли; бытийным основам мироощущения лирических героев Маяковского и Высоцкого. В плане исследования синхронного литературного контекста авторской песни значимым представляется изучение параллелей художественных миров В.Высоцкого и В.Шукшина. Это сопоставление было сопряжено с уяснением «синтетической» природы творческого склада двух художников, «новеллистичной» поэтики, остро «драматургичной» сюжетной организации их произведений. Немалое значение имеет и соположение персонажной характерологии в их произведениях, путей художественного постижения национального сознания в кризисную историческую эпоху. Самобытное воплощение в песнях Высоцкого и рассказах Шукшина обрел новый для литературы эпохи тип «чудика», утверждающего нравственную позицию «бесконвойности» и противостоящего давлению агрессивно-равнодушного социума. Трагедийно-сатирическая панорама национального бытия тоталитарной эпохи стала главным предметом изображения в песенной поэзии А.Галича. Глубокое и оригинальное художественное воплощение получили здесь образ советского обывателя, раскрываемый в семейно-бытовой, общественной и исторической сферах, а также мифы обывательского сознания. Постигая реалии социальной действительности несвободного времени, поэтпевец раскрывал признаки как ущербности духовной и душевной жизни современника, так и подспудного отторжения им тоталитарного диктата. В бытовых сценах, песенных «репортажах», подчас надрывно звучащих исповедях ролевых героев, поэтических циклах многоплановую изображения, художественную сказовые формы, разработку получили «драматургия» речевого приемы сатирического взаимодействия автора, рассказчиков и персонажей. Значительным проблемно-тематическим срезом поэзии Галича явились культурфилософские рефлексии барда, ставшие сердцевиной его диалога с культурной традицией. Этот аспект галичевского творчества был рассмотрен на примере обращения поэта к осмыслению личной и творческой судьбы А.Ахматовой, что позволило выявить фундаментальную для двух художников категорию памяти – в ее индивидуальноличностной, национально-исторической и онтологической ипостасях. Художническое вчувствование в мучительные парадоксы и зигзаги пути Ахматовой явилось для Галича способом постижения судеб отечественной культуры в пору катастроф, трагедийных отношений Поэта и Времени. 382 В динамике жанровых исканий поэта-певца с годами все отчетливее проявлялась лироэпическая природа его творческого дарования. В этом плане особенно значимым нам представлялось рассмотрение «поминального» цикла «Литераторские мостки», поэмыреквиема «Кадиш», а также «Поэмы о Сталине». Нравственная и историософская проблематика последней особенно рельефно проступает в зеркале пушкинских ассоциаций, позволяющих через сопряжение реалистических и условно-фантастических изобразительных форм выявить глубинные раздумья барда о метафизике власти в России, об отношениях личности и государства в разные исторические эпохи. Причастность искусства авторской песни вековым традициям народной смеховой культуры наиболее отчетливо проявилась при рассмотрении песенной сатиры Ю.Кима. Изображая, как и Галич, быт и бытие личности в тоталитарной действительности, Ким явил богатство жанрово-стилевых форм песенной поэзии, оригинальность языковых приемов сатирического изображения, связанных, в частности, с каламбурной игрой с социально-политическими составляющими лексического значения слова, со смеховым опровержением советского «новояза». Непосредственное лирическое самовыражение авторского «я» органично соединилось в сатире Кима с разработкой таких «эпических» жанровых форм, как песенное «сказание», сатирическая «мининовелла», басня, «письмо вождям». Не меньшую весомость имела здесь и «драматургичная» ролевая сатира, связанная с созданием образов-масок советского обывателя, представителей Системы и даже самих вождей. Стихия игрового, многоголосого слова наполняет собой и песнидиалоги Кима, и сатирические стихи-песни, создававшиеся им для театра и кино. Грандиозный жанрово-родовой синтез был осуществлен Кимом в песенно- драматической поэме «Московские кухни». В ее сценичной динамике, «диалоге интертекстов», лирических и ролевых монологах наметились широкие горизонты эпического изображения судеб личности, интеллигенции, культуры в абсурдистской исторической реальности XX столетия. Перспектива развития бардовской поэзии, и, в частности, ее трагедийно-сатирического направления, была обозначена на примере песенно-поэтического творчества И.Талькова, развивавшегося на стыке традиций классической авторской песни и иных художественных форм – рок-поэзии, эстрадной песни и др. В контексте эволюции авторской песни особенно показательными представляются социально-исторические и философские баллады Талькова, интимно-лирические стихи-песни, ставшие областью продуктивного взаимодействия публицистической напряженного заостренности исповедального лиризма. драматизма художественной мысли балладного и действия, пронзительного 383 При всей неповторимости индивидуальных творческих манер поэтов-бардов авторская песня в качестве литературного и культурного феномена несомненно образует идейно-эстетическую общность. Ее представителей объединял общий круг чувствований, на уровне художественной концепции личности это выразилось в пафосе протеста против тоталитарного, «гулаговского» сознания, который подчас, например в произведениях В.Высоцкого, А.Галича, М.Анчарова, выходил на экзистенциальный уровень. Уже самые первые барды утвердили сердечность, теплоту, неформальность, неофициальность в отношении к человеку, модальность доверительного, сокровенного общения с «одомашниваемой» слушательской аудиторией, что было труднопредставимо для массовой советской песни и даже для «шестидесятнической» поэзии. Диапазон вариантов творческого воплощения такого подхода был в авторской песне чрезвычайно широким: это и обогащение иносказательного потенциала образного ряда посредством сказочных, фантастических, притчевых мотивов (Н.Матвеева, Б.Окуджава, А.Дольский), и скрупулезная детализация картины мира, создание эффекта ее «узнаваемости», эмоциональной приближенности к воспринимающему сознанию за счет использования конкретных топонимов и гидронимов (Ю.Визбор, А.Городницкий), и актуализация импрессионистской стилевой манеры, призванной передать грани пронзительнотревожной экзистенции лирического «я» (Е.Клячкин), и художественное постижение психологического фактора «экстремальности», «натянутого каната» личностного бытия (В.Высоцкий, Ю.Визбор), и смеховое обыгрывание укорененных в общественном сознании политизированных стереотипов (А.Галич, Ю.Ким)… На уровне поэтики, как это было обосновано при рассмотрении индивидуальных художественных миров, подобная концепция личности вела к созданию образа «неофициального» героя, героя «в свитере», живущего вне подчинения официозным канонам и стандартам и явно или имплицитно им противопоставляющегося. Подобный тип героя художественно постигался бардами многопланово – в частности, с помощью устойчивых пространственных образов, атрибутов, ассоциаций (костер, палатка, геологическая экспедиция, дальнее плавание, горная романтика, фронтовые испытания, арбатские, сретенские дворики, московские кухни и пр.), в формах «персонажной», «ролевой» лирики, через особый «протеизм», который был свойственен авторской песне. Весомым в свете изучения поэтики авторской песни оказалось и системное рассмотрение ее синтетической, в значительной мере антиканоничной жанрово-родовой системы, основанной на симбиозе фольклорных и литературных источников, а также взаимопроникновении лирических, эпических и драматургических элементов. Так, специфическими именно для бардовской поэзии становятся такие жанровые образования, 384 как песни-роли, песни-диалоги, песни-репортажи, поэтические новеллы, песеннодраматические поэмы; существенную трансформацию на фоне предшествующей традиции претерпевают здесь притча, элегия, баллада, послание и др. В песенной поэзии активизируются и своеобразные принципы циклизации: в структуре бардовского концерта песня прирастает многими смысловыми оттенками, вступая во взаимодействие с варьирующимися контекстами ее исполнения. Сам художественный, словесный текст обретает в авторской песне принципиально новую форму бытия и бытования: он не только сращивается с мелодическими, исполнительскими решениями, но и отчасти вбирает в себя те попутные авторские замечания, комментарии, которыми сопровождается его пропевание и без которых непредставим микроклимат бардовского концерта. Потому есть основания рассматривать бардовскую песню как своего рода «метажанр», в котором формируется особая художественная модель мира. Неповторимо-индивидуальное исполнение всегда в той или иной мере, часто на иррациональном уровне предполагает у бардов установку на хоровое пение, на созвучие голосов, на то со-гласие, в котором достигается Показательно, катарсическое например, просветление что концерты субъектов эстетического Б.Окуджавы, переживания. А.Городницкого зачастую завершались именно совместным с залом исполнением того или иного «знакового» произведения. Но это оркестр индивидуальных голосов, противоположный идее коллективистского обезличения. Индивидуальный стиль самих поэтов-бардов складывался не только из словесной составляющей созданных ими текстов, но и из особенностей музыкальных пристрастий, исполнительских манер, причем их уровень здесь был очень разным. Так, богатство мелодических решений, голосовых модуляций особенно характерно для Ю.Кима, А.Дольского, А.Галича, в плане же исполнительского артистизма не имеющим себе равных был талант В.Высоцкого. Рассмотрение творческих индивидуальностей выдающихся поэтов-бардов, различных проблемно-тематических уровней, жанровых, стилевых направлений и течений бардовской поэзии позволило выявить многообразие этого значительного явления в русской поэтической традиции. Как выясняется, главный парадокс общественного и культурного бытия авторской песни заключается в том, что та традиция, которая прежде была маргинальной для «высокой» культуры, в «оттепельные» годы и позднее становится одной из плодоносных и магистральных. Авторская песня стала полем взаимодействия песенно-фольклорной и литературной традиций, она обогатила поэтическую культуру и шедеврами утонченной исповедальнопсихологической, любовной, философской лирики, и оригинальными формами «сюжетной», «персонажной» поэзии; она явила достойное продолжение лучших 385 традиций отечественной сатиры, гражданско-патриотической поэзии; поэтамибардами были созданы и масштабные лиро-эпические полотна, заключающие художественное постижение судеб русской и мировой истории и культуры. Рожденная атмосферой послевоенной, «оттепельной» эпохи, бардовская поэзия в своих вершинных образцах вышла далеко за пределы того времени, став органичной составляющей национального культурного опыта. Важными перспективами осуществленного исследования должны стать дальнейшее изучение творческих индивидуальностей поэтов-бардов, детализация предложенной здесь типологии данного поэтического направления, уяснение всей полноты влияния фактора «песенности» на художественный строй бардовской поэзии, а также расширение спектра литературных связей авторской песни, ее осмысление как в синхронном литературном и социокультурном контекстах, так и в сфере «большого» исторического времени. 386 Библиография Художественные тексты поэтов-бардов 1. Агранович Е.Д. «Я в весеннем лесу пил березовый сок…». Песни, баллады, рассказы, повести для чтения и экрана. М., Вагант-Москва, 1998. 2. Алмазов Б.А. Не только к музыке слова… Песни и стихи. СПб, Издательство Буковского, 1998. 3. Анчаров М.Л. «Ни о чем судьбу не молю…». Стихи и песни. М., Вагант-Москва, 1999. 4. Анчаров М.Л. Сочинения: Песни. Стихотворения. Интервью. Роман. М., ЛокидПресс, 2001. 5. Бережков В.В. Мы встретились в раю: Стихотворения. СПб, Вита Нова, 2002. 6. Вертинский А.Н. За кулисами: Сб. М., Советский фонд культуры, 1991. (Б-ка авторской песни «Гитара и слово». Большая серия). 7. Визбор Ю.И. Сочинения. В 3 т. М., Локид-Пресс, 2001. 8. Высоцкий В.С. Сочинения в двух томах. Екатеринбург, У-Фактория, 1999. 9. Высоцкий В.С. Собрание соч.: В 4 кн. / Сост. С.Жильцов. М., Надежда-I, 1997. 10. Высоцкий В.С. Я не люблю... М., 1998. 11. Галич А.А. Облака плывут, облака. М., Локид, 1999. 12. Галич А.А. Сочинения. В 2-х т. М., Локид, 1999. 13. Галич А.А. Дни бегут, как часы: Песни, стихотворения. М., Локид, 2000. 14. Галич А. Книга стихов 1942 года. Публ. Н.А.Богомолова // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.IV. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2000.С.457-466. 15. Галич А.А. Песня об Отчем Доме. М., Локид-Пресс, 2003. 16. Городницкий А.М. Стихи и песни. СПб, Лимбус Пресс, 1999. 17. Городницкий А.М. Сочинения. М., Локид, 2000. 18. Долина В.А. Сэляви: Стихотворения. М., Эксмо-Пресс, 2001. 19. Дольский А.А. Сочинения: Стихотворения. М., Локид-Пресс, 2001. 20. Егоров В.В. Песни. М., АПН, 1990. 21. Ким Ю.Ч. Собранье пестрых глав. М., Вагант-Москва, 1998. 22. Ким Ю.Ч. Сочинения: Песни. Стихи. Пьесы. Статьи и очерки. М., Локид, 2000. 23. Клячкин Е.И. Осенний романс: Стихи. Песни. Проза. Ноты. М., Локид-Пресс, 2003. 24. Кукин Ю.А. Дом на полпути. М., Советский фонд культуры, 1990. (Б-ка авторской песни «Гитара и слово»). 387 25. Матвеева Н.Н. Душа вещей. Книга стихов. М., Советский писатель, 1966. 26. Матвеева Н.Н. Пастушеский дневник. М., Вагант-Москва, 1998. 27. Матвеева Н.Н., Киуру И.С. Мелодия для гитары. М., Аргус, 1998. 28. Матвеева Н.Н. Сонеты. СПб, Искусство-СПБ, 1998. 29. Митяев О.Г. Светлое прошлое: стихи и песни с нотным приложением. М., ЛокидПресс, 2003. 30. Окуджава Б.Ш. Стихотворения. СПб., Академический проект, 2001. 31. Суханов А.А. Музыкальный полет. Песни. М., Вагант-Москва, 1997. 32. Тальков И.В. Монолог: Стихи, воспоминания, дневники. М., Эксмо-Пресс, 2002. 33. Туриянский В.Л. Не спрашивай куда… М., Литера, 1993. 34. Шпаликов Г.Ф. Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники. Письма. Екатеринбург, У-Фактория, 1999. 35. Щербаков М.К. Другая жизнь. М., Аргус, 1996. 36. Якушева А.А. Песня – любовь моя. М., Локид-Пресс, 2001. Художественные тексты иных авторов 37. Ахматова А.А. Собрание сочинений в двух томах. М., 1990. 38. Блок А.А. Собр. соч. В 8 т. М.; Л., 1960-1963. 39. Маяковский В.В. Сочинения в двух томах. М., Правда, 1987. 40. Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. М., Худож. лит., 1988. 41. Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. М., Худож. лит., 1986. 42. Стихи духовные. М., 1991. 43. Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., Правда, 1988. 44. Цветаева М.И. Соч: в 7 томах. М., Эллис Лак, 1994-1995. 45. Шукшин В.М. Собр. соч. в 6 томах. М., Молодая гвардия, 1992. Справочная, критическая, научно-исследовательская и учебная литература 46. Абдуллаева Л.Х. Художественная интерпретация социальных реалий в «Балладе о детстве» // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.316-320. 47. Абельская Р.Ш. «Под управлением Любви» // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.424-429. 388 48. Абельская Р.Ш. Авторская песня как стихотворная форма. Некоторые особенности строфики и ритмики на примере песенной лирики Б.Окуджавы // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.550-558. 49. Абельская Р.Ш. Поэтика Булата Окуджавы: истоки творческой индивидуальности. Автореф. канд. дисс. Екатеринбург, УрГУ, 2003. 50. Абельская Р.Ш. «На мне костюмчик серый-серый…». Поэтика Б.Окуджавы и блатная песня // Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. М., Булат, 2004.С.146165. 51. Абросимова Е.А. Специфика эпиграфа в бардовской песне // Художественный текст и языковая личность: Материалы IV Всероссийской научн. конф. (27-28 октября 2005 г.) / Под ред. проф. Н.С.Болотновой. Томск, ЦНТИ, 2005.С.229-234. 52. Аверинцев С.С. Притча // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С.305. 53. Авраменко А.П. Обретение трагедии (А.Блок и Е.Баратынский, Ф.Тютчев) // Авраменко А.П. А.Блок и русские поэты ХIХ века. М., 1990.С.174-212. 54. Авраменко А.П. Наследник Серебряного века (традиции классики XX века в творчестве Булата Окуджавы) // Традиции русской классики XX века и современность: Материалы научн. конф. Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова. 14-15 ноября 2002 г. / Ред-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2002.С.14-23. 55. Авраменко А.П. Слово как явление синэстетизма в творчестве Булата Окуджавы // Русский язык: исторические судьбы и современность: II Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, филологический факультет, 18-21 марта 2004 г.): Труды и материалы. М., МГУ, 2004.С.616-617. 56. Авторская песня. М., 2002. (Школа классики). 57. Авторская песня. Антология. Сост. Д.Сухарев. Екатеринбург, 2003. 58. Агабекова К.А. Концепт душа в индивидуально-авторской языковой картине мира Б.Ш.Окуджавы // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С. 112-127. 59. Агеносов В.В., Анкудинов К.Н. Окуджава Булат // Современные русские поэты: Справочник. М., Мегатрон, 1997.С.74-76. 60. Ананичев А.С. «…Не ради зубоскальства, а ради преображения» // Мир Высоцкого. Вып. III. Т.2. М., 1999. С.255-263. 61. Андреев Ю.А. Наша авторская… История, теория и современное состояние самодеятельной песни. М., 1991. 389 62. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. М., 2001. 63. Аннинский Л.А. Путь Василия Шукшина // Аннинский Л.А. Тридцатые – семидесятые. Литературно-критические статьи. М., 1978.С.228-268. 64. Аннинский Л.А. Барды. М., 1999. 65. Аннинский Л.А. Горизонт и зенит Михаила Анчарова // Анчаров М.Л. «Ни о чем судьбу не молю…». Стихи и песни. М., 1999.С.159-168. 66. Аннинский Л.А. Первопропевец // Визбор Ю.И. Сочинения. В 3 т. М., ЛокидПресс, 2001.Т.1.С.5-10. 67. Аннинский Л.А. Стреляющие ветки // Визбор Ю.И. Сочинения. В 3 т. М., ЛокидПресс, 2001.Т.2.С.5-12. 68. Апухтина В.А. В.М.Шукшин // Очерки истории русской литературы XX века. Вып.1. М., 1995.С.107-133. 69. Арустамова А.А. Игра и маска в поэтической системе Высоцкого // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.218-226. 70. Архипочкина О.О. Пастернак в творческом восприятии Галича // Галич: Новые статьи и материалы. М., ЮПАПС, 2003.С.117-127. 71. Бабенко В.Н. Своеобразие ролевой лирики В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.201206. 72. Баевский В.С., Попова О.В., Терехова И.В. Художественный мир Высоцкого: стихосложение // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.181-186. 73. Бахмач В.И. Пути смеха Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.233-238. 74. Бахтин М.М. Творчество Ф.Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. 75. Бачелис Т. Гамлет-Высоцкий // Вопросы театра. Вып.11. М., 1987. С.123-142. 76. Белая Г.А. Парадоксы и открытия В.Шукшина // Белая Г.А. Художественный мир современной прозы. М., 1983. С.93-118. 77. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. 78. Бердникова О.А., Мущенко Е.Г. «Среди нехоженых дорог – одна…» (Тема судьбы в поэзии В.Высоцкого) // В.Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С.52-65. 390 79. Беседы с Новеллой Матвеевой. Интервью вел М.Аскин // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.IV. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2000.С.417-428. 80. Богомолов Н.А. «Пласт Галича» в поэзии Тимура Кибирова // Новое литературное обозрение. 1998. №32. (вып.4).С.91-111. 81. Богомолов Н.А. Булат Окуджава и массовая культура // Вопросы литературы. 2002.№3 (май-июнь). С.3-14. 82. Богоявленский Б.Д., Митрофанов К.Г. Авторская песня как исторический источник // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.515-524. 83. Бойко С.С. «Непоправимое родство столетий…» // Вагант-Москва. 1996.№10-12. С.45-66. 84. Бойко С.С. О некоторых теоретико-литературных проблемах изучения творчества поэтов-бардов // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.I. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1997.С.343-351. 85. Бойко С.С. Тема поэта и поэзии в лирике Булата Окуджавы // Проблемы эволюции русской литературы XX века: Вторые Шешуковские чтения. Материалы межвуз. науч. конф. Вып.4. М., МПГУ, 1997.С.28-30. 86. Бойко С.С. За каплями Датского короля. Пути исканий Булата Окуджавы // Вопросы литературы.1998.№5 (сент. - окт.). С.3-31. 87. Бойко С.С. Реминисценции в поэзии Булата Окуджавы и проблема пушкинской традиции // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1998. №2. С.16-24. 88. Бойко С.С. Поэзия Булата Окуджавы как целостная художественная система. Канд. дисс. М., МГУ, 1999. 89. Бойко С.С. «Новояз» в поэзии Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.269-278. 90. Бойко С.С. Литературная репутация и смена культурной парадигмы: на примере творчества Булата Окуджавы // Традиции русской классики XX века и современность: Материалы научн. конф. Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова. 14-15 ноября 2002 г. / Ред-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2002.С.222-223. 91. Бойко С.С., Зайцев В.А. «Пока в России Пушкин длится…»: Булат Окуджава и поэты-современники // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1999. №6. С.7-18. 92. Большакова А.Ю. Нация и менталитет. Феномен «деревенской прозы» XX века. М., 2000. 391 93. Бродский И.А. Меньше единицы: Избранные эссе. М., Издательство Независимая Газета, 1999. 94. Букса И.П. Жанрово-тематическая природа поэзии В.Высоцкого // Высоцковедение и высоцковидение. Орел, 1994.С.5-18. 95. Букса И.П. К постановке проблемы поэтического стиля В.Высоцкого // Высоцковедение и высоцковидение. Орел, 1994.С.18-30. 96. Булат Окуджава: Всему времечко свое / Беседовал М.Нодель // Моя Москва. 1993. № 1-3 (янв. - март). С. 4-6. 97. Булат Окуджава: "Я исповедуюсь перед своим поколением». Беседу вели С. Перминов и С. Гриненко // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.II. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1998.С.468-471. 98. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., НЛО, 1998 (издание второе, исправленное). 99. Ваняшова М.Г. Шукшинские лицедеи // Литературная учеба. 1979. №4.С.160-168. 100. Вдовин С.В. «Не надо подходить к чужим столам…». «Случай» В.Высоцкого и «Желтый ангел» А.Вертинского // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.287-301. 101. Вдовин С.В. Три Гамлета русской поэзии // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.46-63. 102. «Верю в торжество слова» (Неопубликованное интервью А.Галича). Публ. А.Е.Крылов // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.I. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1997. 103. Визбор Ю.И. Нужны песни-друзья // Визбор Ю.И. Сочинения. В 3 т. М., Локид-Пресс, 2001.Т.3.С.349-350. 104. В.Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж, 1990. 105. Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003. 106. Владимир Высоцкий в контексте художественной культуры: сборник научных статей / под ред. С.А.Голубкова, М.А.Перепелкина, И.Л.Фишгойта. Самара, 2006. 107. Владимир Высоцкий и русский рок. Сб. научных трудов. Тверь, 2001. 108. Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актер. М., Прогресс, 1989. 109. Волкович Н.В. «На сопках Маньчжурии»: реализация мотива памяти // Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.82-98. 392 110. Встречи в зале ожидания. Воспоминания о Булате. Нижний Новгород, Деком, 2003. 111. Высоцковедение и высоцковидение. Сб. научных статей. Орел, 1994. 112. Гавриленко Т.А. Образ песни в поэтическом мире Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.61-72. 113. Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001. 114. Галич А. Два интервью 1974 года. Публ. К.Андреева // Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., 2001.С.204-217. 115. Галич: Новые статьи и материалы. М., ЮПАПС, 2003. 116. Галич А. Интервью об интервью. Беседа с корреспондентом радио «Свобода» Ю.Мельниковым // Галич: Новые статьи и материалы. М., ЮПАПС, 2003.C.250-272. 117. Гинзбург Л.Я. Поэзия мысли // Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1997.С.50-119. 118. Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. М., Булат, 2004. 119. Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. Вып.2. М., Булат, 2005. 120. Горбов Я.Н. Булат Окуджава. Будь здоров, школяр. Стихи // Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. М., Булат, 2004.С.253-258. 121. Горелик Л.Л. Всенародный миф о первом полете в космос в интерпретации В.Высоцкого (на материале стихотворений «Памяти Гагарина» А.Твардовского и «Я первый смерил жизнь обратным счетом…» В.Высоцкого) // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.437-448. 122. Город как дискурс (Публикация Т.Д.Венедиктовой, Т.Боровинской, Е.Кулик) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2004. №3. С.98-111. 123. Городницкий А.М. Песни о далекой дали // Матвеева Н.Н. Пастушеский дневник. М., Вагант-Москва, 1998.С.1-3. 124. Городницкий А.М. И жить еще надежде… М., Вагриус, 2001. 125. Грачев М.А. Некоторые лингво-литературные особенности философско- религиозной лирики В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.221-225. 126. Гуль Р.Б. Булат Окуджава. Будь здоров, школяр. Стихи // Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. М., Булат, 2004.С.249-253. 127. Долгополов Л.К. Стих – песня – судьба // В.Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С.6-24. 393 128. Доманский Ю.В. Вариативность и интерпретация текста: (Парадигма неклассической художественности). Автореф. докт. дисс. М., РГГУ, 2006. 129. Друзья Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2-х т. М., 1986. 130. Дубровина И.М. Вечные темы искусства в лирике XX века и поэзия Булата Окуджавы // «Свой поэтический материк…». Научные чтения, посвященные 75летию со дня рождения Булата Окуджавы. М., 1999.С.8-13. 131. Дубшан Л.С. О природе вещей // Окуджава Б.Ш. Стихотворения. СПб., Академический проект, 2001.С.3-55. 132. Дыханова Б.С., Шпилевая Г.А. «На фоне Пушкина…» (К проблеме классических традиций в поэзии В.Высоцкого) // В.Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С.65-74. 133. Евтюгина А.А. Прецедентные тексты в поэзии В.Высоцкого (к проблеме идиостиля). Автореф. канд. дисс. Екатеринбург, 1995. 134. Мир Евтюгина А.А. Идиостиль Высоцкого. Лингвокультурологический анализ // Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.147-155. 135. Евтюгина А.А. Разговорная речь в поэзии В.С.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.40-53. 136. Евтюгина А.А., Гончаренко И.Г. «Я был душой дурного общества». Опыт лингвокоммуникативного анализа стихотворения // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.244-255. 137. Евтюгина А.А., Гончаренко И.Г. Сценарии власти в поэзии А.Галича и В.Высоцкого // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.168-189. 138. Жебровска А.-И. Авторская песня в восприятии критики (60-80-е гг.). Канд. дисс. М., МГУ, 1994. 139. Жовтис А.Л. Разоблачение советского менталитета в ролевой сатире Галича и Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.262-268. 140. Жуков Б.Б. Современное состояние авторской песни как отражение изменений в национальном менталитете // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.380-389. 141. Жукова Е.И. Эволюция образа адресата в поэзии В.С.Высоцкого // Русская литература XX века: итоги и перспективы: Материалы Международной научн. 394 конф., Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, 24-25 ноября 2000 / Ред.-сост. С.И.Кормилов. М., МАКС Пресс, 2000.С.221-223. 142. Жукова Е.И. Образы техники в поэзии Маяковского и Высоцкого // Традиции русской классики XX века и современность: Материалы научн. конф. Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова. 14-15 ноября 2002 г. / Ред-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2002.С.234-237. 143. Жукова Е.И. Опыт типологии адресатов у Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.54-72. 144. Жукова Е.И. Современные проблемы изучения стиха Высоцкого // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.339-344. 145. Жукова Е.И. Строфика первого периода поэзии В.С.Высоцкого // Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Международной научн. конф.: 10-11 ноября 2004 г. / Ред.-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2004.С.196-198. 146. Жукова Е.И. Рифма и строфика поэзии В.С.Высоцкого и их выразительные функции. Автореф. канд. дисс. М., МГУ, 2006. 147. годы). Зайцев В.А. В.С.Высоцкий // История русской литературы XX века (20-90-е Основные имена. Уч. пособие для филологических факультетов университетов. / Отв. ред. С.И.Кормилов. М., МГУ, 1998.С.448-461. 148. Зайцев В.А. Художественный мир поэзии Булата Окуджавы // «Свой поэтический материк…». Научные чтения, посвященные 75-летию со дня рождения Булата Окуджавы. М., 1999.С.4-7. 149. Зайцев В.А. «Памятник» В.Высоцкого и традиции русской поэзии // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып. III. Т. 2. М., 2000.С. 264-272. 150. Зайцев В.А. «Поэма в стихах и песнях». О жанровых поисках в сфере большой поэтической формы // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. IV. М., 2000. С.358-378. 151. Зайцев В.А. Русская поэзия XX века: 1940-1990-е годы. Учеб. пособие. М., МГУ, 2001. 152. Зайцев В.А. О военной теме в стихах-песнях Окуджавы, Высоцкого, Галича // Традиции русской классики XX века и современность: Материалы научн. конф. Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова. 14-15 ноября 2002 г. / Ред-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2002.С.230-234. 395 153. Зайцев В.А. Песни грустного солдата. О военной теме в поэзии Булата Окуджавы // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002.С.25-50. 154. Зайцев В.А. Окуджава. Высоцкий. Галич: Поэтика, жанры, традиции. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003. 155. Зайцев В.А. Жанровое своеобразие стихов-песен Окуджавы, Высоцкого, Галича о войне // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2003. №4. С.40-59. 156. Зайцев В.А. О путях развития авторской песни и проблемах ее изучения // Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Международной научн. конф.: 10-11 ноября 2004 г. / Ред.-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2004.С.332-335. 157. Зайцев В.А. Авторская песня: ее восприятие и перспективы изучения на современном этапе // Филологические науки.2005.№2.С.77-85. 158. Зайцев В.А., Герасименко А.П. История русской литературы второй половины XX века. М., Высшая школа, 2004. (Рец.: Карпов А.С. // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2005. №3. С.207-211). 159. Заклинание Добра и Зла: Александр Галич – о его творчестве, жизни и судьбе рассказывают статьи и воспоминания друзей и современников, документы, а также истории и стихи, которые сочинил он сам / Сост., авт. предисл. Н.Г.Крейтнер. М., 1991. 160. Заславский О.Б. «Второе дно». О семиотических аспектах смысловой многозначности в поэтическом мире В.С.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.160-186. 161. Захариева И. Художественный мир Высоцкого: взгляд из Болгарии // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.350-354. 162. Захариева И. Хронотоп в поэзии Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.134-143. 163. Изотов В.П. Высоцкий и рубеж тысячелетий: Сб. ст. Орел, 2000. 164. Изотов В.П. Филологический комментарий к творчеству В.С.Высоцкого. Проект // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001. С.179-198. 165. Изотов В.П. Высоцкий и фантастика // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.433-436. 396 166. Инютин В.В. Ироническая фантастика в произведениях В.Высоцкого // В.Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С.95-105. 167. Иоанн Сан-Францисский, архиепископ Предисловие к сборнику «Поэма России» / Вступ. слово Н.А.Богомолова // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.II. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1998. С.445-447. 168. Исрапова Ф.Х. «Мой Гамлет» как интертекст // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.420-427. 169. Каманкина М.В. Песенный стиль Б.Окуджавы как образец авторской песни // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.225-243. 170. Капрусова М.Н. Влияние профессии актера на мироощущение и литературное творчество В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.398-419. 171. Карапетян Д. Между словом и славой (о Владимире Высоцком). М., Захаров, 2005. 172. Карпухина Ю.С. Романтическая традиция В.А.Жуковского в творчестве Галича // Галич: Новые статьи и материалы. М., ЮПАПС, 2003.С.69-75. 173. Карякин Ю.Ф. О песнях Владимира Высоцкого // Литературное обозрение. 1981.№7. С.94-99. 174. Кац Л.В. О некоторых социокультурных и социолингвистических аспектах языка В.С.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.144-157. 175. Ким Ю.Ч. Возвращение Галича (два эпизода) // Ким Ю.Ч. Сочинения: Песни. Стихи. Пьесы. Статьи и очерки. М., Локид, 2000.С.406-408. 176. Ким Ю.Ч. Памяти Евгения Клячкина // Ким Ю.Ч. Сочинения: Песни. Стихи. Пьесы. Статьи и очерки. М., Локид, 2000.С.409. 177. Мир Кириллова И.В. Традиция сказа в творчестве М.Зощенко и В.Высоцкого // Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.324-331. 178. Кириллова И.В. В.Шукшин и В.Высоцкий: точки притяжения // В.М.Шукшин: взгляд из XXI века: Тезисы докладов к VII Международной научной конференции «В.М.Шукшин. Жизнь и творчество». Барнаул, 23-26 июля 2004 г. Барнаул, АлтГУ, 2004.С.61-63. 179. Кихней Л.Г. Поэзия Анны Ахматовой. Тайны ремесла. М., 1997. 397 180. Кихней Л.Г., Сафарова Т.В. К вопросу о фольклорных традициях в творчестве Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.72-82. 181. Клинг О.А. Своеобразие эпического в лирике А.Ахматовой // Царственное слово. Ахматовские чтения. Вып.1. М., 1992.С.59-70. 182. Клинг О.А. Поэтический мир Марины Цветаевой. М., 2001. («Перечитывая классику»). 183. Клинг О.А. «…Дальняя дорога дана тебе судьбой…»: Мифологема пути в лирике Булата Окуджавы // Вопросы литературы. 2002.№3 (май-июнь).С.42-57. 184. Клюева Н.Н. «Слыша В.С.Высоцкого». Еще о триптихе Башлачева // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.345-356. 185. Колошук Н.Г. Творчество Высоцкого и «лагерная» литература // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.76-91. 186. Корман Я.И. Высоцкий и Галич. М., Ижевск, 2007. 187. Кормилов С.И. Песни Владимира Высоцкого о войне, дружбе и любви // Русская речь. 1983.№3. С.41-48. 188. Кормилов С.И. Русская литература 20-90-х годов XX века: основные закономерности и тенденции // История русской литературы XX века (20-90-е годы). Основные имена. Уч. пособие для филологических факультетов университетов. / Отв. ред. С.И.Кормилов. М., МГУ, 1998.С.8-50. 189. Кормилов С.И., Искржицкая И.Ю. Владимир Маяковский. М., 1998. («Перечитывая классику»). 190. Кормилов С.И. Антропонимика в поэзии Высоцкого. Предварительные заметки и материалы к теме // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.130-142. 191. Кормилов С.И. Поэтическое творчество Анны Ахматовой. М., 2000. («Перечитывая классику»). 192. Кормилов С.И. Поэтическая фауна Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.352-365. 193. Кормилов С.И. Города в поэзии В.С.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.234-272. 398 194. Кормилов С.И. Страны в поэзии В.Высоцкого // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.410-432. 195. Короглы Х.Г. Связь времен // «Свой поэтический материк…». Научные чтения, посвященные 75-летию со дня рождения Булата Окуджавы. М., 1999.С.4244. 196. Костромин А.Н. «Ошибка» Галича: ошибки сегодняшние и всевременные // Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.148165. 197. Кофанова В.А. Авторская песня как семиотическая система // Язык и текст в пространстве культуры: Сб. статей научно-методич. семинара «Textus». Вып.9. СПб.- Ставрополь, 2003.С.144-149. 198. Кофтан М.Ю. Записки сумасшедшего. Влияние мотива на пространственно- временную организацию текста В.С.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.84-101. 199. Крылов А.Е. Как это все было на самом деле // Вопросы литературы. 1999. №6 (ноя. - дек.). С.279-286. 200. Крылов А.Е. О трех «антипосвящениях» Александра Галича // Континент. №105. 2000. Июль-сентябрь. С.313-343. 201. Крылов А.Е. Бытование и трансформация крылатых выражений Высоцкого в газетно-журнальных заголовках. На примере песен для кинофильма «Вертикаль» // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.IV. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2000. С.217-228. 202. Крылов А.Е. Галич – «соавтор». М., 2001. 203. Крылов А.Е. «Снова август» // Вопросы литературы. 2001. №1 (янв. - фев.). С.298-311. 204. Крылов А.Е. Рядовой Борисов и рядовой Банников (А.Грин и Высоцкий) // Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры XX века. Сб. статей. Под ред. В.П.Скобелева, И.Л.Фишгойта. Самара, 2001.С.60-65. 205. Крылов А.Е. Основные проблемы текстологии поэтического творчества Б.Ш.Окуджавы // Традиции русской классики XX века и современность: Материалы научн. конф. Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова. 14-15 ноября 2002 г. / Ред-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2002.С.224-229. 206. Крылов А.Е. Высоцкий – о нашей жизни на рубеже веков // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.273-286. 399 207. Крылов А.Е. Не квасом земля полита… : Примечания к «человеческой трагедии» Александра Галича. Углич, 2003. 208. Крылов А.Е. Реалии эпохи в поэзии Высоцкого. Проблемы комментирования // Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Международной научн. конф.: 10-11 ноября 2004 г. / Ред.-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2004.С.140-145. 209. Крымова Н.А. Мы вместе с ним посмеемся // Дружба народов. 1985.№8. С.242-254. 210. Кудимова М. Ученик отступника // Континент. 1992. Вып.72. С.323-341. 211. Кузнецова Е.И. Высоцкий в театральной критике // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.IV. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2000.С.63-102. 212. Кузнецова Е.Р. Слово и музыка в парадигме стихового пространства. Музыкальность лирики В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.256-263. 213. Кузнецова Е.Р. Музыка внутри строфы, или Секрет воздействия лирики Высоцкого // Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры XX века. Сб. статей. Под ред. В.П.Скобелева, И.Л.Фишгойта. Самара, 2001.С.15-19. 214. Кузнецова Е.Р. Мелодичность как тематическая и структурная доминанта поэтики Б.Ш.Окуджавы // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.98-111. 215. Кузнецова Е.Р. Песни В.Высоцкого в зеркале интонационной формы // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.400-409. 216. Кулагин А.В. Об одной аллегории в лирике В.Маяковского и В.Высоцкого // К 100-летию со дня рождения В.В.Маяковского: Лит. чтения. Коломна, 1994. С.19. 217. Кулагин А.В. Поэзия В.С.Высоцкого. Творческая эволюция. М., 1997. 218. Кулагин А.В. Творчество В.С.Высоцкого в контексте русской литературы XX века // Русская литература XX века: итоги и перспективы: Материалы Международной научн. конф., Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, 24-25 ноября 2000 / Ред.-сост. С.И.Кормилов. М., МАКС Пресс, 2000.С.219-220. 219. Кулагин А.В. Галич и Высоцкий: поэтический диалог. К постановке проблемы // Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.9-22. 220. Кулагин А.В. Высоцкий и другие. Сб. статей. М., 2002. 400 221. Кулагин А.В. Барды и филологи (Авторская песня в исследованиях последних лет) // Новое литературное обозрение. 2002. №2. (вып.54).С.333-354. 222. Кулагин А.В. Детство как лирическая тема Александра Галича // Педагогические идеи русской литературы: Сб. ст. Коломна, 2003.С.221-222. 223. Кулагин А.В. Об источнике первой авторской песни Галича // Галич: Новые статьи и материалы. М., ЮПАПС, 2003.С.6-16. 224. Кулагин А.В. В поисках жанра. Новые книги об авторской песне // Новое литературное обозрение. 2004.№2. (вып.66).С.325-345. 225. Кулагин А.В. «В ключе Булата» // Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. М., Булат, 2004.С.191-201. 226. Купчик Е.В. Семантика цвета в поэзии Александра Галича // Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.139-147. 227. Курилов Д.Н. Христианские мотивы в авторской песне // Мир Высоцкого. Вып.II. М., 1998. С.398-416. 228. Курилов Д.Н. Авторская песня как жанр русской поэзии советской эпохи (60-70-е годы). Канд. дисс. М., Лит. институт им. М.Горького, 1999. 229. Кучерова Н.А. Основные мотивы и образы военной лирики В.Высоцкого // Художественный текст и языковая личность: Материалы III Всероссийской научной конференции / Под ред. проф. Н.С.Болотновой. Томск, ТГПУ, 2003.С.269271. 230. Левина Л.А. Грани звучащего слова (эстетика и поэтика авторской песни). Монография. М., 2002. 231. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: В 3-х кн. Учеб. пособие. М., Эдиториал УРСС, 2001. 232. Лесневский С.С. Шансонье России // «Свой поэтический материк…». Научные чтения, посвященные 75-летию со дня рождения Булата Окуджавы. М., 1999.С.45-49. 233. Лианская Е.Я. А.Н.Вертинский и предыстория бардовской песни: взгляд музыканта // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.390-399. 234. Логачева Т.Е. Тексты рок-поэзии и петербургский миф: аспекты традиции в рамках нового поэтического жанра // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература. Исследования и материалы. Иваново, ИвГУ, 1998.С.196-203. 235. Логачева Т.Е. Русская рок-поэзия 1970-1990-х гг. в социокультурном контексте XX века // Проблемы неклассической прозы. М., Теис, 2003.С.206-232. 401 236. Лолэр О. «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт». Гумилев и Высоцкий // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.291-297. 237. Макогоненко Г.П. Творчество А.С.Пушкина в 1830-е гг. (1833-1836). Л., 1982. 238. Мальцев Ю.В. Менестрели // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.296-310. 239. Масальцева Т.Н. Эволюция образа корабля и моря в лирике Новеллы Матвеевой // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.417-423. 240. Матяш С.А., Фомина О.А. Полиметрия Высоцкого // Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры XX века. Сб. статей. Под ред. В.П.Скобелева, И.Л.Фишгойта. Самара, 2001.С.20-29. 241. Мейкин М. Марина Цветаева: поэтика усвоения. М., 1997. 242. Мир Высоцкого. Альманах. Вып. I-VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1997- 2002. 243. Муравьев М. Седьмая строка // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.II. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1998.С.448-461. 244. Муратова Е.Ю. Москва А.С.Пушкина и Москва М.И.Цветаевой // А.С.Пушкин – М.И.Цветаева: Седьмая цветаевская международн. научнотематическая конф. М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2000.С.226-235. 245. Намакштанская И.Е., Романова Е.В., Куглер Н.А. «Человеческая комедия» в поэтике Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.245-254. 246. Нежданова Н.К. В.Маяковский и В.Высоцкий: параллели художественных миров // Наука и образование Зауралья. Курган, 1999. №1-2. С.219-221. 247. Немчик Б. Народно-литературные традиции в творчестве Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.100-107. 248. Ничипоров Б.В., протоиерей Времена и сроки. Очерки онтологической психологии. Книга первая. М., Фонд «Сеятель», 2002. 249. Ничипоров И.Б. Образы стихий в «блоковских» стихотворениях М.Цветаевой, А.Ахматовой, Б.Пастернака // Стихия и разум в жизни и творчестве Марины Цветаевой: XII Международная научно-тематическая конференция 402 (Москва, 9-11 октября 2004 г.): Сб. докл. / Отв. ред. И.Ю.Белякова. М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2005.С.157-164. 250. Новиков Вл.И. Александр Городницкий: [Филол. коммент.] // Русская речь.1989. №4. С.73-76. 251. Новиков Вл.И. В Союзе писателей не состоял… : Писатель Владимир Высоцкий. М., 1991. 252. Новиков Вл.И. В.Маяковский и В.Высоцкий // Знамя. 1993. №7. С.200-204. 253. Новиков Вл.И. Окуджава – Высоцкий – Галич. Проект исследования // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.233-240. 254. Новиков Вл.И. Высоцкий. М., 2002. (Сер. ЖЗЛ: Сер. биогр; вып. 829). 255. Новиков Вл.И. Авторская песня как литературный факт // Авторская песня. М., 2002. (Школа классики). С.5-12. 256. Новиков Вл.И. Песни и «перепесни». Окуджава и пародия // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002.С.155-162. 257. Нодель М. А меня позабыли на праздник позвать (от составителя) // Матвеева Н.Н., Киуру И.С. Мелодия для гитары. М., Аргус, 1998.С.5-10. 258. Оглоблина Н.М. Проблемы бытия в цикле стихотворений А.Галича «Истории из жизни Клима Петровича Коломийцева» // Философские аспекты культуры: материалы науч.-практич. конф. 1997 г. (секц. «Русская литература») / Под ред. Романовой Г.Р. Комсомольск-на-Амуре, 1998.С.88-102. 259. Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. 260. Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в песнях Галича и Высоцкого: авторское вступление как компонент художественного целого песни // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.140-150. 261. Осевич Б. Интертекстуальные связи В.Высоцкого с русской литературой ХIХ и XX веков – несколько замечаний // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.467-475. 262. Осипова Н.О. Имя автора в системе мифосемиотического комплекса поэзии В.С.Высоцкого // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.203-210. 403 263. Панова Л.Г. Стихи о Москве М.Цветаевой и О.Мандельштама: два образа города – две поэтики – два художественных мира // А.С.Пушкин – М.И.Цветаева: Седьмая цветаевская международн. научно-тематическая конф. М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2000.С.236-250. 264. Перевод и переводчики: Науч. альманах каф. нем. языка Северного международного университета (г. Магадан). Вып.3. Б.Окуджава / Гл. ред. Р.Р.Чайковский. Магадан, Кордис, 2002. 265. Переяслов Н.В. Слушать ли на ночь Высоцкого? // Переяслов Н.В. Загадки литературы. Сборник литературоведческих статей. Самара, 1996. С.46-52. 266. Песня – единая и многоликая / Репортаж с пресс-конференции вели А.Асаркан и Ан.Макаров // Неделя. 1966.№1.С.20-21. 267. Пименов Н.И. Белая тень. Блок и Галич: «александрийские» заметки // Галич: Новые статьи и материалы. М., ЮПАПС, 2003.С.76-97. 268. Пицкель Ф.Н. Маяковский: художественное постижение мира. М., 1979. 269. Поспелов Г.Н. Лирика среди литературных родов. М., 1976. 270. Потапова Т.А. Б.Л.Пастернак в творческом сознании А.Галича // Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Международной научн. конф.: 10-11 ноября 2004 г. / Ред.-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2004.С.170-173. 271. Потапова Т.А. Женские образы в стихах и песнях А.Галича // Пушкинские чтения-2005. Материалы Х международной научной конференции «Пушкинские чтения» (6 июня 2005 г.) / Под ред. Т.В.Мальцевой. СПб., САГА, 2005.С.332-337. 272. Поэзия и песня В.Высоцкого: Пути изучения: сб. науч. ст. / под ред. С.В.Свиридова. Калининград, 2006. 273. Прокофьева А.В. О сюжетно-композиционных функциях фразеологических единиц // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.208-215. 274. Пятьдесят российских бардов. Справочник. Сост. Р.Шипов. М., Вагант- Москва, 2001. 275. Распутина С.П. Социальная мотивация советского бардовского движения. Философско-социологический аспект // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.375-379. 276. Рассадин С.Б. Я выбираю свободу (Александр Галич). М., 1990. 277. Ревич Вс. Несколько слов о песнях одного художника, который заполнял ими паузы между рисованием картин и сочинением повестей // Анчаров М.Л. 404 Сочинения: Песни. Стихотворения. Интервью. Роман. М., Локид-Пресс, 2001. С.514. 278. Редькин В.А. Роль природы в художественном мире В.В.Высоцкого // Природа и человек в художественной литературе: Материалы Всероссийской научной конференции. Волгоград, ВолГУ, 2001.С.105-118. 279. Рисина О.В. Каламбур в поэзии Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.226-232. 280. «Робинзонада одинокой гитары». (Беседа с Новеллой Матвеевой о ее песнях) // Матвеева Н.Н., Киуру И.С. Мелодия для гитары / Сост. М.Нодель. М., Аргус, 1998.С.385-392. 281. Рогацкина М.Л. Образ лирического «я» в поэзии В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.207-211. 282. Рогацкина М.Л. Наблюдения над поэтической фоникой авторской песни: А.Вертинский – В.Высоцкий – Б.Окуджава – А.Галич // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.119-130. 283. Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С.Высоцкого: Канд. дисс. М., 1994. 284. Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С.Высоцкого. Курск, 1995. 285. Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: биобибл. словарь: в 3 т. / под ред. Н.Н.Скатова. М., ОЛМА-Пресс Инвест, 2005. 286. Рыбальченко В.К. Мотив памяти в лирике В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.156160. 287. Саакянц А.А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1999. 288. Савченко Б.А. Авторская песня. М., 1987. 289. Сажин В.Н. Слеза барабанщика // Окуджава Б.Ш. Стихотворения. СПб., Академический проект, 2001.С.56-86. 290. Сафарова Т.В. «Неужели такой я вам нужен после смерти?!» (Тема посмертного истолкования поэта в «Памятниках» Пушкина, Цветаевой и Высоцкого) // А.С.Пушкин. Эпоха, культура, творчество. Традиции и современность. Ч.1. Владивосток, 1999.С.171-177. 291. Сахарова О.В. Хронотоп бардов (темпоральная и локативная семантика в стихотворениях В.Высоцкого, Б.Окуджавы, А.Галича) // Владимир Высоцкий: 405 взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.151-167. 292. Свиридов С.В. На сгибе бытия: к вопросу о двоемирии В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып. II. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1998.С.107-121. 293. Свиридов С.В. «Райские яблоки» в контексте поэзии В.Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., 1999. С.170-200. 294. Свиридов С.В. «Литераторские мостки». Жанр. Слово. Интертекст // Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001. С.99-128. 295. Свиридов С.В. Рок-искусство и проблема синтетического текста // Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сб. науч. тр. Тверь, ТГУ, 2002. Вып.6. С.5-32. 296. Свиридов С.В. Структура художественного пространства в поэзии В.С.Высоцкого. Канд. дисс. М., МГУ, 2003. 297. Свиридов С.В. Когда-нибудь дошлый филолог… Александр Галич и Владимир Маяковский // Галич: Новые статьи и материалы. М., ЮПАПС, 2003.С.98-116. 298. Свиридов С.В. Гнусная «теорья» космических негодяев: Опыт футурологии Высоцкого // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.24-31. 299. «Свой поэтический материк…». Научные чтения, посвященные 75-летию со дня рождения Булата Окуджавы. М., 1999. 300. Северный текст в русской культуре: Материалы международной конференции. Северодвинск, 25-27 июня 2003 г. / Отв. ред. Н.И.Николаев. Архангельск, Поморский университет, 2003. 301. Семенюк О.А. Языковые черты эпохи в песнях Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.83-89. 302. Семенюк О.А. Авторская песня и русский язык периода 60-80-х годов XX века // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.196-202. 303. Сигов В.К. Русская идея В.М.Шукшина. Концепция народного характера и национальной судьбы в прозе. М., 1999. 304. Симаков А. Словно Бог – без штанов… О поэзии Высоцкого в свете православного богопочитания // По страницам самиздата. М.,1990. С.216-217. 406 305. Симченко О.В. Тема памяти в творчестве А.Ахматовой // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1985.Т.44. №6. С.506-517. 306. Скобелев А.В. Образ дома в поэтической системе Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.106-119. 307. Скобелев А.В. Много неясного в странной стране. Литературоведение. Ярославль, 2007. 308. Скобелев А.В., Шаулов С.М. Концепция человека и мира (Этика и эстетика В.Высоцкого) // В.Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С.24-52. 309. Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: мир и слово. 2-е изд., испр. и доп. Уфа, 2001. (1-е изд. – 1991 г.). 310. Скобелев В.П. Сказовый элемент в поэзии Высоцкого // Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры XX века. Сб. статей. Под ред. В.П.Скобелева, И.Л.Фишгойта. Самара, 2001.С.30-43. 311. Скобелев В.П. «Пепел Клааса бьется в моей груди». Эпическая проза лирического поэта: о романе «Упраздненный театр» // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002.С.194-214. 312. Смит Дж. Полюса русской поэзии 1960-1970-х: Бродский и Высоцкий // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.288-291. 313. Соколова Д.В. Гумилев и Высоцкий: поэтика и тема мужества // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.302-308. 314. Соколова И.А. Формирование авторской песни в русской поэзии (1950-1960- е гг.). Канд. дисс. М., МГУ, 2000. 315. Соколова И.А. «У времени в плену». Одна из вечных тем в творчестве Александра Галича // Галич. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.57-81. 316. Соколова И.А. Авторская песня: от фольклора к поэзии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. 317. Соколова И.А. Авторская песня: от экзотики к утопии // Вопросы литературы. 2002.№1 (янв.- февр.).С.139-156. 318. Солнцева Н.М. О «Бедном Авросимове» Б.Окуджавы и «14 декабря» Д.Мережковского // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002.С.215-224. 407 319. Солнышкина Е.И. Конфликтность как принцип построения стихотворений (На примере анализа «Песни летчика» и «Песни самолета-истребителя» В.С.Высоцкого) // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2003.С.220-226. 320. Солнышкина Е.И. Проблема свободы в поэтическом творчестве В.С.Высоцкого. Автореф. канд. дисс. Ставрополь, СГУ, 2004. 321. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. 322. Сполохова Е.А. Ассоциативно-семантические поля истины, правды и лжи в поэзии Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.158-178. 323. Столяр И., Столяр М. Театр одного поэта // В мире книг. 1988.№11.С.58-59. 324. Страшнов С.Л. Феномен Высоцкого в социокультурных контекстах 50-60-х годов // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.22-29. 325. Суровцева Е. «Письмо вождю» как эпистолярный жанр: его своеобразие и жанровые разновидности // Проблемы неклассической прозы. М., Теис, 2003.С.266282. 326. Тарлышева Е.А. Вертинский и барды шестидесятых // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.400403. 327. Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры XX века. Материалы Первой междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рожд. Булата Окуджавы. 19-21 ноября 1999 г., Переделкино. М.: Соль, 2001. 328. Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры XX века. Сб. статей. Под ред. В.П.Скобелева, И.Л.Фишгойта. Самара, 2001. 329. Тилипина Т.П. О соотношении ролевого и лирического героев // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.212-217. 330. Толстых В.И. В зеркале творчества (В.Высоцкий как явление культуры) // Вопросы философии. 1986.№7. С.112-124. 331. Томенчук Л.Я. О музыкальных особенностях песен В.Высоцкого // В.Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С.152-168. 408 332. Томенчук Л.Я. «К каким порогам приведет дорога?..». «Дорожные истории» Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.118-133. 333. Томенчук Л.Я. Высоцкий и его песни: приподнимем занавес за краешек. Днепропетровск, 2003. 334. Томенчук Л.Я. «Но есть, однако же, еще предположенье…». Днепропетровск, 2003. 335. Уварова С.В. Сопоставительная характеристика военной темы в поэзии Высоцкого и Окуджавы // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.279-286. 336. Утевский А. На Большом Каретном. М., 1999. 337. Федина Н.В. О соотношении ролевых и лирического героев в поэзии В.Высоцкого // В.Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С.105-117. 338. Фомина О.А. Средства выражения военной темы в поэзии Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.204-209. 339. Фомина О.А. Стихосложение В.Высоцкого и проблема его контекста. Канд. дисс. Самара, СамГУ, 2005. 340. Франк С.Л. Светлая печаль // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. 341. Фризман Л.Г. Жизнь лирического жанра. Русская элегия от Сумарокова до Некрасова. М., 1973. 342. Фризман Л.Г. «С чем рифмуется слово истина…». О поэзии А.Галича. М., 1992. 343. Фризман Л.Г. «Каждый пишет, как он слышит» // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.287295. 344. Фризман Л.Г. Декабристы глазами Александра Галича // Галич: Новые статьи и материалы. М., ЮПАПС, 2003.С.31-39. 345. Фризман Л.Г. «Ах, если б я знал это сам…». Поэзия безответных вопросов // Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. М., Булат, 2004.С.141-145. 346. Хазагеров Г.Г. Две черты поэтики В. Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып. II. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1998.С.82-106. 347. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999. 409 348. Хализев В.Е. Власть и народ в трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов» // Вестник МГУ. Сер.9. Филология. 1999. №3. С.7-24. 349. Хмелинская Р.М. Поэтический мир В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.60-71. 350. Ходанов М., свящ. «Спасите наши души…». О христианском осмыслении поэзии В.Высоцкого, И.Талькова, Б.Окуджавы и А.Галича. М., 2000. 351. Христофорова С.Б. О поэтике Булата Окуджавы // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002.С.81-97. 352. Чайковский Р.Р. Милости Булата Окуджавы: Работы разных лет. Магадан, Кордис, 1999. 353. Мир Чернышева Е.Г. Судьба и текст В.Высоцкого: мифологизм и мифопоэтика // Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.1. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999.С.90-99. 354. Четина Е.М. Образ национальной культуры в поэзии Н.Рубцова и В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.319-323. 355. Чудакова М.О. Возвращение лирики // Вопросы литературы. 2002.№3 (май- июнь).С.15-41. 356. Шарков О. Откровения от Александра // Нева.1997.№12. С.163-168. 357. Шаулов С.М. Карамазовское и гамлетовское В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.V. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001.С.41-53. 358. Шаулов С.М. Поэтические фигуры самосознания Высоцкого // Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры XX века. Сб. статей. Под ред. В.П.Скобелева, И.Л.Фишгойта. Самара, 2001.С.4-14. 359. Шевяков Е.Г. Героическое в поэзии В.С.Высоцкого. Автореф. канд. дисс. Нижний Новгород, НГУ, 2006. 360. Шилина О.Ю. Поэзия В.Высоцкого в свете традиций христианского гуманизма // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып. I. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1997. С.101-117. 361. Шилина О.Ю. Поэзия Владимира Высоцкого. Нравственно-психологический аспект. Канд. дисс. СПб., Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), 1999. 362. Шилина О.Ю. Человек в поэтическом мире Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.37-49. 410 363. Шилина О.Ю. «Вы – втихаря хихикали, а я – давно вовсю!». Творчество В.Высоцкого и традиции русской смеховой культуры // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.VI. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2002. С.73-83. 364. Шилов Л.А. Голоса, зазвучавшие вновь. М., Просвещение, 1987. 365. Шилов Л.А. Из истории звукозаписей Булата Окуджавы // «Свой поэтический материк…». Научные чтения, посвященные 75-летию со дня рождения Булата Окуджавы. М., 1999.С.14-25. 366. Шпилевая Г.А. Н.Некрасов и В.Высоцкий: «слабый» человек и «недоносок» // Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Международной научн. конф.: 10-11 ноября 2004 г. / Ред.-сост. С.И.Кормилов. М., МГУ, 2004.С.373-376. 367. Шукшинские чтения. Феномен Шукшина в литературе и искусстве второй половины XX века. Сб. матер. музейной научно-практич. конф. Барнаул, ВММЗ В.М.Шукшина, 2004. 368. Шулежкова С.Г. Крылатые выражения В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.216225. 369. Шулежкова С.Г. «Мы крылья и стрелы попросим у Бога…». Библейские крылатые единицы в поэзии В.Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.IV. М., ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2000.С.195-208. 370. Эткинд Е.Г. Там, внутри: О русской поэзии XX века. СПб., 1997. 371. Юткевич С. Гамлет с Таганской площади // Шекспировские чтения-1978. М., 1981. С.82-89.